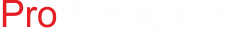Чувственные склонности в настоящем нашем состоянии весьма часто противятся духу и подвергают его жестоким борениям (Гал. 3,17; Прем. 9,15). Тем важнее для человека не только обуздывать их, но и обращать в средство для достижения высших целей. А последнее делается возможным, когда добродетель представляют нам в таких чертах, что и чувственные наши склонности находят в ней свои выгоды.
Конечно, добродетель, основанная на таких побуждениях, весьма несовершенна и далека от своей небесной чистоты, но если при этом не исключаются побуждения высшие и более чистые, то люди, делающие добро преимущественно по чувственным побуждениям, оказываются хотя слабыми, однако, по крайней мере, не злыми; они стоят уже на пути к истинному добру и могут мало-помалу совершенствоваться в добре.
Такие немощные бывают как во всех состояниях, так и в каждом возрасте. Особенно детство и юность имеют нужду в этих чувственных пособиях. А потому справедливо ли будет отнять у них опору, на которой иногда только и держится их добродетель? Но прежде, нежели рассмотрим чувственные побуждения, сделаем следующие замечания:
а) для того чтобы усилить в воспитаннике ревность к добродетели, ни в коем случае не следует возбуждать в нем чувств, опасных для нравственности, каковы, например, зависть, презрение к известным сословиям и т. п. Кто, желая сделать добро, делает зло, тот сокрушает одну скрижаль закона другою;
б) при выборе позволенных побуждений необходимо учитывать личные недостатки и способности воспитанника;
в) надо избирать благороднейшие из побуждений, наиболее возвышающиеся над остальными побуждениями и сродные с высшими целями человечества;
г) вообще, воспитатель никогда не должен ограничиваться одними корыстными побуждениями; он может употреблять их только вместо ступеней, чтобы по ним вести воспитанника все выше и выше. Особенно надо воспитателю остерегаться, чтобы какое-либо из этих побуждений не обратилось в воспитаннике в господствующую страсть, что чаще всего бывает с честолюбием. Кто потворствует одной страсти, желая ослабить через нее другие, тот отворяет дверь всем страстям.
Самую низшую степень составляют побуждения только чувственные. Например, детям, которые ведут себя хорошо, дают за столом лучшие кушанья, обещают им сшить новое платье, взять их в гости, позволяют игры или приятную прогулку и т.п. Само собою видно, как слабо и несовершенно расположение к добру, пока оно имеет нужду в такой опоре.
И нужна большая осторожность, чтобы побуждениями такого рода не посеять в детях страсти к лакомству, сластолюбию, забавам или неразумной суетности. Однако же неблагоразумно было бы не прибегать и к низшим побуждениям, когда имеют дело с детьми, которые не разумеют высших побуждений. Аюбовь готова быть всем для всех; она дует с той и другой стороны, только бы мерцающий светильник не погас, но горел ярче.
Из чувственных наклонностей благороднее других и достойнее человека стремление к чести и отличиям. Конечно, и оно легко может принять дурное направление, однако не нужно пренебрегать им или подавлять его совершенно. Если склонность эта возбуждена в надлежащей мере и направлена к истинной цели, то может служить хорошим средством, которое будет удерживать юношу от всего бесчестного и несправедливого и поощрять к делам похвальным, к исполнению обязанностей.
Души благородные особенно бывают чувствительны к чести и одобрению. Напротив, несчастны дети, равнодушные к бесчестию и позору и потому склонные ко всякому низкому поступку. Молодой человек, не имеющий чувства чести, или совершенно уже испорчен, или скоро сему подвергнется.
Что было сказано о чувстве чести, то же надо сказать и о склонности снискивать благоволение других, особенно родителей, учителей и начальников. Счастливы те родители и воспитатели, которые обладают любовью и доверием воспитанника и сумели расположить к себе сердце его так, что он считает для себя первой наградой ласковое их слово и великим наказанием — недовольный взгляд. Но и здесь надо остерегаться, чтобы такое стремление к снисканию благоволения не доходило в детях до низкого искательства или до лицемерия, а многие из детей бывают к этому очень склонны.
Поэтому никогда не нужно допускать, чтобы они, желая выслужиться, приносили жалобы на других или обнаруживали в себе чувства, несвойственные их сердцу. При всяком случае надо показывать презрение к лицемерию и отвращение от всякого притворства. Надо внушать детям, что есть всевидящий Бог, что Он знает самые сокровенные наши мысли и осуждает всякого лицемера, что Спаситель наш ни одного порока не изобличал так сильно, как фарисейское лицемерие и лукавство. Вообще, чтобы желание чести и благоволения других не преступало в детях должных пределов, воспитателю надо соблюдать следующие правила:
а) не нужно слишком усиливать в детях желание чести и расположения. А оно усиливается, когда детей часто и неумеренно хвалят, когда в их присутствии отзываются о них с удивлением и в других стараются возбудить удивление. Поэтому не надо допускать, чтобы детей окружали льстецы и расточали перед ними свои неумеренные похвалы. Удивительно ли, что дети скоро привыкнут о себе думать так, как повседневно отзываются о них другие?
б) надо укоренять в детях твердое убеждение, что одна только добродетель дает человеку истинное достоинство, а земные блага, наследственное благородство и т.п. составляют действительное украшение только при добром сердце. Что бы люди ни думали и ни говорили о нас, в действительности мы всегда таковы, какими видит нас Бог;
в) заблаговременно нужно давать детям такое направление, чтобы благоволение Божие, одобрение собственной совести и людей, истинно добрых и благородных, они считали для себя выше и важнее всяких людских похвал. С особенным вниманием надо охранять их сердце от тщеславия, которое часто и в глазах света делает человека предметом презрения и насмешек. Если желаем нравиться людям, то должны достигать этого истинно добрыми и благородными поступками, а честь ставить для себя не главной целью, а только средством для того, чтобы или самих себя утвердить в добре, или послужить к назиданию других и иметь на них благотворное влияние.
Подрастающим воспитанникам надо чаще указывать на счастливую будущность, какая ожидает прилежных и благонравных учеников. Иногда нужно говорить с ними о том круге деятельности, который их ожидает, объяснять, какая участь готовится юноше добродетельному и какая постигнет нерадивого к своим обязанностям или распутного, внушать, что каждый человек со временем пожнет посеянное им в весну своей жизни.
Само собою разумеется, что при этом надо применяться к способностям каждого воспитанника и картинами будущего не обольщать и не разгорячать чрезмерно его воображения. Нет состояния, которое не сопровождалось бы трудностями и огорчениями. Поэтому тот, кто во время своего образования представлял себе в будущем своем звании одни только радости и удовольствия, легко может впасть в уныние, когда действительность разрушит приятные мечты его. Особенную осторожность также надо соблюдать, когда рассуждаем с детьми о будущем их семейном счастье.
Как можно чаще и глубже нужно запечатлевать в сердце юношей мысль о том, что ждет их за гробом. Божественное Откровение рассеяло мглу, какая некогда скрывала страну вечности от взоров земного странника; оно ясно и неоспоримо изображает, какая участь ожидает там грешника и какая — благочестивого.
С этой стороны, новейшие сочинения о воспитании большей частью весьма недостаточны; в них обращается все внимание юношей на одни временные последствия доброй или худой жизни и почти не упоминается о вечности, где каждый получит то, что заслужил на земле. Не так учат Иисус Христос и Его апостолы.
Ложна и та мысль, будто дети неспособны еще размышлять о вечности. Душа их, полная веры, и живое воображение легко воспринимают учение о будущем Страшном Суде, о небе и аде. А опыт свидетельствует, что такие истины весьма благодетельно действуют на их нежное сердце. Кроме того, эти побуждения имеют следующие особенности:
а) они действуют на дух, как несомненная и непреложная истина. Как неизменен и вечен Сам Бог, так неизменны и вечны Его угрозы и обетования. Напротив, земных последствий нашего поведения мы иногда вовсе не видим на опыте, а иногда и видим, но в малой мере;
б) они несравненно сильнее всех побуждений, ограничивающихся настоящей жизнью. Самое ожесточенное сердце грешника глубоко потрясается, когда он живо представляет себе приближающуюся вечность и ту ужасную участь, какая ожидает его за гробом. Какое же сильное впечатление должны произвести эти истины в душе чувствительного юноши!
в) они приводят в благоустройство не только наружное и видимое поведение человека, но и внутреннюю его жизнь, его мысли, чувства и желания. «Бог видит тебя и втайне пред Ним открыто твое сердце»,— внушает ему вера. Поэтому как бы ни скрывал ты доброе или злое свое, оно выйдет некогда наружу и не останется без праведного воздаяния;
г) наконец, эти побуждения, даже в детском сердце, могут быть доведены до такой чистоты, что изменятся в сыновнюю любовь к Богу. Что будущую жизнь сделает для нас блаженною? — Наше теснейшее и вечное единение с Богом, то, что мы будем созерцать Бога лицом к лицу, вечно любить Его, вместе со всеми избранными святыми, и в Нем наслаждаться неизреченным блаженством.
Надо говорить чувствительному ребенку примерно такие слова: «Если будешь благочестив, будешь всегда исполнять то, чего требует от тебя всеблагий Отец Небесный, то Он, после этой краткой жизни, примет тебя в небесное отечество, где будешь ты видеть и несказанно любить Его и Сына Его Иисуса Христа и Всесвятого Духа Божия. Там приступишь ты к общению с Пресвятою Девою Богоматерью, со святыми Ангелами и избранными Божиими. Напротив того, как ужасно будет твое состояние, если за свои худые поступки ты навеки будешь отвержен от Бога, отлучен от славы Христа Спасителя, от общения со святыми и предан дьяволу, вечному врагу всякого добра» и т.п.