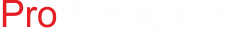В объяснительной записке я указала два мотива своего поступка: во-первых, протест против несправедливых придирок учителя физкультуры; во-вторых, его ухаживание за ученицами. Директор пробежала глазами мое объяснение и никак на него не отреагировала. Ей нужно было поразмыслить и уточнить кое-какие детали. Однако она заранее, до выяснения всех обстоятельств дела, запретила мне ходить в школу. Как ни протестовали, как ни просили папаша Тхе и учитель математики, она не переменила своего решения — хотела показать всем, что она, и только она, держит в школе бразды правления и любое ее решение имеет силу закона. Из-за того что мне запретили появляться в школе, я прямо извелась. Представьте себе, что станет с вами, если однажды вам объявят: поить и кормить вас будут, но до конца жизни все пути перед вами закрыты... Такое чувство владело мною в те злополучные дни.
Мама не находила оправдания моему поступку и не желала слушать объяснений. Она твердила одно:
— Как бы там ни было, учитель остается учителем, а ученик — учеником, между ними должна быть дистанция. Ученику, который посягнул на авторитет учителя, нет оправдания.— И это еще не все.— Ты — разрушительница наших семейных устоев,— отчитывала меня мама.— Да знаешь ли ты, что у нас в роду четыре поколения учителей? Таких строптивых, как ты, надо поискать! Заруби себе на носу: хороший ученик — это тот, кто умеет слушать учителя и учится у него...
От таких нравоучений я совсем сникла. Сколько можно терпеть такое? Я вдруг очень рассердилась на маму и с жаром возразила ей:
— Чему можно научиться у этого Жа? Ну, если бы я была мальчиком... Послушать тебя, так мне нужно было бы волочиться за всеми хорошенькими ученицами, как физкультурник Жа. Только этим он и занимается! Так, по-твоему?
Мои слова вывели маму из себя, и она громко прикрикнула:
— Невоспитанная девчонка! Кто тебе позволил вступать в пререкания с матерью?
Но я продолжала гнуть свое:
— Ты же сама сказала, что нужно учиться у учителя! Хочешь, я расскажу тебе, какие пошлости говорил Жа нашей Бой?
Я рассказала маме, в каких выражениях физкультурник Жа объяснялся своей ученице. После минутного замешательства мама закричала еще громче:
— Ах ты, негодница! Тебе дали деньги на мороженое, а ты... ты подслушивала. Наслушалась всяких гадостей! Если тебе не всыпать, то совсем отобьешься от рук! Сейчас я тебе покажу!.. Ну-ка иди сюда!
Мама схватила палку и, задыхаясь от злости, стала колотить меня. Сначала я взвыла от боли, но дух противоречия так взыграл во мне, что я перестала кричать, но не смирилась. Я считала удары и упрямо твердила:
— Этот Жа — злодей! Хоть бы он сдох! Хоть бы он сдох!
А на маму я не очень рассердилась, хотя она обошлась со
мной очень круто. Бросив палку, мама закрыла лицо руками и безутешно заплакала. Она плакала так горько, будто каждый удар по моей спине теперь отзывался в ее сердце болью. Лицо ее исказила страдальческая гримаса. Ночью она на цыпочках подошла ко мне и помазала мазью ушибленные места. Я делала вид, что крепко сплю и ничего не слышу, хотя слезы снова потекли у меня из глаз и намочили подушку. Мне было жаль и мою бедную маму, и себя тоже. Потом я проспала двенадцать часов подряд. Я проснулась на другой день чуть ли не в полдень — в половине двенадцатого. Мамы дома не было. Уходя, она заперла дверь снаружи. За окном светило солнце, солнечные лучи пробивались сквозь шторы на окне. Я стала разглядывать знакомую обстановку: стол, стулья, платяной шкаф, шкафчик для чайной посуды, куклу на этажерке, львиную голову на стене, купленную по случаю праздника Середины осени , мне тогда было семь лет... Все показалось мне каким-то серым, обыденным.
Полутемная комната вдруг показалась мне тюрьмой, в которую заточили меня и накрепко заперли. Тут я стала фантазировать: а что, если впрямь буду считать себя узницей? Но арестована я, конечно, не за уголовное дело: грабители, карманные воры и всякие мошенники всегда вызывали у меня отвращение. Попробую вообразить себя политзаключенной во времена колонизаторов. Ну почему я не появилась на свет задолго до революции? Тогда бы, став взрослой, я последовала бы примеру таких отважных революционеров, как То Хьеу, Ли Ты Чонг, я приняла бы участие в восстании в Южном Вьетнаме . Революционеры боролись с французскими колонизаторами, ну а мне с кем прикажете бороться? Ведь колонизаторов давно уже изгнали из страны, революция давно победила! Так вот: я боролась со злодеем Жа, который издевается над детьми и оскорбляет девичье достоинство. Как бы то ни было, но благодаря моему поступку у Жа поубавится спеси. Разве этот поступок не вызвал скрытого одобрения моих школьных товарищей?! Если я способна бороться со злом и ненавижу его, то из меня вырастет боец, какие бывают нужны родине в минуту опасности.
Вот так я утешала себя, и мне сделалось легче. Я встрепенулась и решила подниматься, ведь я все еще лежала в постели, но тут услышала шум поворачиваемого ключа: это пришла мама. Вспомнив про выволочку, которую она мне устроила накануне, я опять нырнула под одеяло и закрыла глаза.
— Дочка, ты встала? — спросила мама.
Я не отозвалась.
— О небо! Моя девочка заболела! — закричала мама не своим голосом.— Бедный ребенок!
Я сжалась в комок, чтобы мама не увидела моего лица: из глаз у меня снова потекли на подушку горячие слезы.
«Не реви! — сказала я себе.— Настоящие революционеры в тюрьме не плачут... Возьми себя в руки!»
Мама обнимала и тормошила меня.
— Доченька, я принесла клейкого риса, сваренного на пару, а еще я купила для тебя каши с мясом, она совсем горяченькая...
А я внушала себе: «Если я соглашусь поесть, мама подумает, что я трусиха. Она решит, что убедила меня в своей правоте. Нет, я не согласна с тем, что Жа достоин уважения только за то, что работает учителем. Мама хочет, чтобы я полностью повинилась...»
Как ни уговаривала меня мама поесть, я продолжала лежать, повернувшись лицом к стене. Потом мне вдруг пришло на ум: а что, если объявить голодовку? Я знаю из книг, что брошенные в тюрьмы участники восстания в Южном Вьетнаме по пятнадцати дней кряду ничего не ели. Они лежали без движения в тюремных камерах и мужественно ждали смерти. А разве не объявляли длительных голодовок политзаключенные в тюрьме Шонла? Они голодали до тех пор, пока французские колонизаторы не удовлетворили их требований... Вот и я поучусь стойкости у этих мужественных людей!
Я вдруг обрела силу и уверенность неустрашимого борца за справедливость, отвернулась от стены и отчеканила:
— Тебе меня не подкупить. Я объявляю голодовку.
— Что ты сказала? — всполошилась мама, и глаза у нее полезли на лоб.— Что ты сказала? — повторила она, словно не веря своим ушам.
Я сказала громко, раздельно произнося каждое слово:
— Я объявляю голодовку. Я буду голодать, чтобы защитить правду.
Мама посмотрела на меня так ошеломленно, словно перед ней был пришелец из другого мира: до ее сознания просто не дошел смысл сказанных мною слов. Тогда я решила объяснить ей свою позицию:
— Я буду лежать на кровати и голодать до тех пор, пока не истлеет на мне одежда. Я решила умереть, как умирали революционеры в застенках колонизаторов.
Минуту-другую мама молчала, пытаясь понять сказанное мною, потом заплакала.
— О небо! За что мне такое наказание? — громко всхлипывая, причитала она.— Тогда и я тоже умру...
Мама плакала, как маленький ребенок, которого наказали непонятно за что. Мне было жаль маму, хотелось приласкаться к ней и успокоить ее, но я вовремя вспомнила о своем решении до конца бороться за правду и опять повернулась лицом к стене. Наплакавшись, мама привела к нам Лоан, чтобы она как-то подействовала на меня. Я торжествовала: мне удалось одержать победу над собой, устоять перед такими соблазнами, как каша с мясом, каша с курятиной, лапша с говядиной и сваренный на пару клейкий рис...
Часам к пяти я устала от борьбы и задремала. Сквозь дрему я услыхала знакомое дребезжание расколовшегося надвое алюминиевого щитка — это на велосипеде подъехал папаша Тхе. Через минуту послышался его голос:
— Хань, вы дома?
Мама выбежала из кухни и с плачем кинулась к папаше Тхе:
— Я давно вас жду. Весь день она ничего не ест. Она сказала, что объявляет голодовку, дабы защитить справедливость. Еще она сказала, что будет лежать, повернувшись лицом к стене, до тех пор, пока на ней не истлеет одежда. Она хочет принять смерть, как принимали ее революционеры. Соседки мне сказали... Они говорят, что надо позвать монашек, чтобы они изгнали из девочки злого духа... Но я боюсь, как бы...
Тут папаша Тхе перебил маму:
— Спокойнее, спокойнее! К чему столько эмоций?..
Я услышала шум и догадалась, что папаша Тхе опустил на пол свою большущую сумку и сел на стул. Мама засуетилась вокруг него: это она заваривает зеленый чай.
— Выпейте чашечку чаю! — сказала мама.— Это чай с зернами лотоса из лавочки барышни Ван Ань.
Папаша Тхе выпил чай, шумно крякнул, мы знали эту его привычку, потом сказал, растягивая слова:
— Вы сами-то ели? А что, если я попрошу вас купить нам с Бе несколько пирожных? Мне надо сказать ей пару слов...
— Хорошо, я сейчас,— согласилась мама, быстренько собралась и уехала на велосипеде.
Я приоткрыла глаза и увидела на стене тень, которую отбрасывали плечи папаши Тхе. За те несколько дней, что я не ходила в школу, я очень по нему соскучилась. Я скучала
не только по любимому учителю, но и по своему классу и вообще по школе.
— Ну-ка, Бе, поднимайся! — сказал папаша Тхе.
Я тотчас же села и захлюпала носом. Папаша Тхе прижал меня к своей груди, достал из кармана пропахший табаком носовой платок и утер мне слезы.
— Чего ради ты отказываешься от еды? Это глупо,— спокойно, но с укоризной сказал папаша Тхе.
От этих заботливых слов я совсем раскисла.
— Неожиданно для себя узнаю от Лоан, что ты объявила голодовку,— продолжал папаша Тхе и понимающе улыбнулся.— Вот глупышка. Когда-то я тоже объявлял голодовку. Правда, я тогда сидел в тюрьме, меня туда бросили враги. Кто же объявляет голодовку в своем собственном доме, да еще таком уютном! Ты хоть понимаешь, для чего объявляют голодовку? Это один из способов борьбы с врагом. А ты с кем борешься? С собственной мамой, которая любит тебя больше всех на свете? Так поступают только ненормальные.
Я сидела, уткнувшись лицом в грудь папаши Тхе, и не могла видеть, что он улыбается, однако я хорошо себе представила и его добрую улыбку, и его редкие зубы, темные от курения. Я возразила папаше Тхе, но только для виду:
— Поймите, ведь мама требует от меня уважения к таким, как Жа...
— Вообще-То говоря, к учителям надо относиться с уважением, и учиться у них тоже надо,— перебил меня папаша Тхе.— Однако среди тех, кому поручено это благородное дело, к сожалению, встречаются иногда недостойные люди.
Я с удивлением подняла голову и заглянула в добрые глаза папаши Тхе: в них была тоска...
— Я знаю, на что способен этот Жа,— вдруг сказал папаша Тхе.
Я доверчиво прижалась к своему любимому учителю. Мне стало ясно, что он все отлично понимает и что он, как всегда, справедлив,— мне только этого и надо было.
Папаша Тхе погладил меня по голове и сказал укоризненно:
— И все же ты действовала неправильно. Прежде всего надо было обо всем рассказать мне. Ты могла бы подождать, пока я вернусь из деревни.
Папаша Тхе тяжело вздохнул. Глаза у него были печальные-печальные. Сердце мое сжалось от страха за себя и за папашу Тхе. Он это понял и тихо сказал:
— Что было, того не вернешь, а сейчас тебе надо подкрепиться. Эх ты! Лягушонок решил сразиться со слоном! Хорошо еще, что ты не заболела по-настоящему.
Как раз в это время послышался шум — это мама воротилась назад на своем велосипеде. Она вошла в дом и положила на стол коробочку с пирожными.
— Вот вам пирожные к чаю. Совсем свеженькие! Угощайтесь! — с напускной веселостью сказала мама.
Папаша Тхе вдруг поднялся и вскинул на плечо сумку.
— Спасибо, в другой раз,— вежливо отказался он.— Если вы не возражаете, мы с Бе пойдем прогуляемся по городу.
Папаша Тхе повел меня в харчевню, где кормили лапшой, потом мы пили с ним горячий чай с конфетами. Провожая меня домой, папаша Тхе рассказывал всякие веселые истории. Только у самого дома он вдруг коротко бросил:
— Завтра после обеда тебе надо быть у директора.
Папаша Тхе ушел, оставив меня наедине с моими мыслями
о завтрашнем разговоре. Завтра будет решена моя судьба.
Тот страшный день я запомнила на всю жизнь. Стоял невыносимый послеполуденный зной, словно уже наступил июнь. В кабинете директора назойливо и сердито тикали старинные часы. Тупо уставясь на позеленевший от времени медный маятник, который мерно раскачивался перед моими глазами, я обмирала от страха, покорно дожидаясь, когда директриса займется мною. Папаша Тхе с угрюмым видом сидел рядом. Судя по всему, он заранее предвидел исход дела, который не сулил мне ничего хорошего. Я это чувствовала и оттого еще больше волновалась. Сердце билось в моей груди, как попавшая в сеть птичка. Я сидела, судорожно вцепившись в край стола, а директор тем временем молча перебирала бумаги, которые она доставала из толстой-толстой папки. Это продолжалось мучительно долго. Наконец она вытащила мою объяснительную записку:
— Прочти еще раз.
Это было сказано таким ледяным тоном, что душа у меня ушла в пятки. Папаша Тхе, который все это время смотрел в окно на убегающие вдаль поля, даже не пошевелился, он словно воды в рот набрал. И вообще у папаши Тхе был такой вид, словно ему нет дела ни до директора, ни до моей объяснительной записки, ни до всего того, что происходит в этой комнате. Я чувствовала себя одинокой и беззащитной и дрожала от страха, как ребенок, которого оставили на кладбище в ночную пору.
Я не могла прочесть ни одного слова из написанной мною же объяснительной записки: строчки прыгали и плясали у меня перед глазами. Я видела только кляксу, удивительно похожую на паука, а моя собственная подпись внизу под текстом показалась мне совершенно незнакомой, словно за меня подписался кто-то другой...
— Прочитала? — вдруг спросила директор.
От неожиданности я вздрогнула всем телом. Директор поправила указательным пальцем очки, которые у нее сползли на нос, и посмотрела на меня. Ее неподвижные глаза источали холод: в них не было ни укоризны, ни сострадания, ни ненависти. Даже ехидства, и то в них не было! Под этим бесстрастным взглядом я почувствовала себя совершенно раздавленной. Никогда и ни у кого я не видела такого колючего, такого жестокого и одновременно такого бесстрастного взгляда.
— Ты хорошо помнишь, что написала в объяснительной? — спросила директор холодным, безучастным тоном.
— Да,— пролепетала я.
Она слегка скривила губы и изобразила подобие улыбки, затем постучала пальцем по столу и отчетливо произнесла:
— Пусть войдет Нгуен Тхи Бой.
Тут, словно по волшебству, тихо приоткрылась боковая дверь. Сначала показалась маленькая белая рука, которая вцепилась в дверную раму, и только после этого перед директором предстала сама Бой.
— Я здесь,— сказала она.
Да, это была Бой, но ее я узнала с великим трудом: лицо у нее стало мертвенно-бледным, черные глаза ввалились и казались незрячими оттого, что в них застыл испуг, как у слепого бродячего певца, который боится сделать неверный шаг.
— Садись,— сказала директор.— Мы пригласили тебя, чтобы уточнить кое-какие подробности. Но сразу предупреждаю: ты должна говорить правду, только правду. Ты поняла?
— Поняла,— ответила Бой дрожащим голосом, а лицо у нее сделалось белее бумаги.
Директор снова постучала пальцем по столу:
— Очень хорошо. А теперь внимательно выслушай мой вопрос: учитель Жа ухаживал за тобой? Скажи, не допускал ли он вольностей?
— Нет.
— Были случаи, когда он вел себя некорректно?
— Не было.
— Приглашал он тебя посмотреть фильм «Фатима»?
— Нет, не приглашал.
— Он не пытался гладить твои волосы? Не обнимал тебя за талию?
— Нет...
Ответив на очередной вопрос, Бой еще ниже опускала голову. Когда она ответила на последний, ее лица уже не было видно.
Односложные ответы Бой разили меня в самое сердце. Я почувствовала себя уничтоженной, стертой в порошок, мои мысли смешались, кровь отлила от лица, руки соскользнули с края стола на колени и дрожали мелкой дрожью. А маятник у старых часов словно увеличился в размерах и стал похож на лысую голову злого старика из пагоды Донгна, который запер меня в чулане. Не знаю, каким образом я вдруг набралась духу и изо всех сил крикнула:
— Бой говорит неправду! Она лжет!..
У директора глаза полезли на лоб, но она сказала все тем же холодным, бесстрастным тоном:
— Не вскакивай с места! Веди себя прилично! — Потом она обратилась к Бой: — Последний раз тебя спрашиваю: ты сказала правду?
— Да, правду,—- ответила Бой, ни на кого не глядя.
Щеки у нее были белые, как мука, и вся она дрожала.
Во мне вдруг что-то перевернулось. Внутри жгло от нестерпимой боли, я почувствовала страшную слабость. Я не смогла бы даже позвать на помощь кого-нибудь из близких. Мне показалось, что кафельный пол начал уходить из-под моих ног, цветные круги на нем закрутились, завертелись, сначала медленно, потом быстрее, быстрее. В ушах раздался паровозный гудок, и я рухнула на кафель.
Пять дней я болела, а на шестой узнала о решении педсовета. По рекомендации директора школы педсовет вынес самый суровый приговор: исключить меня из школы с оценкой ноль по поведению и уведомить об этом руководство всех школ нашей провинции. Основания для такого сурового наказания выглядели внушительно: распространение клеветы и непонятная месть преподавателю.
Мои школьные товарищи все время держали меня в курсе событий. Они рассказали, что папаша Тхе выступил против директора и между ними разгорелся ожесточенный спор, но в конце концов директор настояла на своем, воспользовавшись своей властью, тем более что мнения разделились: половина членов педсовета выступила за то, чтобы исключить меня из школы, другая половина — за то, чтобы оставить. К этому времени я уже успела подготовиться к самому худшему, то есть к исключению. Но я никак не ожидала, что директор разошлет решение педсовета нашей школы всем средним школам нашей провинции.
Директор решила лишить меня будущего, она заранее рассчитала, что я непременно попытаюсь устроиться в другую школу, пусть в другом городе. Она лишала меня возможности продолжить учебу.
Узнав о решении педсовета, я долго смотрела себе под ноги, меня душили слезы отчаяния и обиды, слова застряли в горле. Потом в моей душе шевельнулось мстительное чувство, и я осторожно поинтересовалась:
— А как поступили с этим Жа?
Мои одноклассники не поняли.
— Что ты имеешь в виду? — удивился кто-то из них.
— Разве он не получил взыскания? — спросила я с тайной надеждой.
— Как бы не так! — ответили мне.— Он даже пожаловался, что в нашей школе его замучили работой, и просил перевести его в другое место. Многие учителя его терпеть не могут, но помалкивают. Только папаша Тхе и математик Бать напрямик высказали все, что о нем думают, но директорша их одернула. Она обвинила обоих в том, что они слишком уж нянчатся с учениками и предвзято относятся к своим коллегам. Этот мерзкий Жа теперь ходит с видом победителя.
Я ничего не сказала в ответ. У меня запершило в горле, словно я наглоталась едкого дыма. Потому что в тот момент я вдруг представила себе знакомую дорогу, по которой каждый день ходила в школу. Ярко светит солнце. Я иду по этой дороге и любуюсь желтыми цветами цезальпинии и огненно-красными цветами «хвост феникса», которые весело смотрят на меня из своего зеленого царства. Школьный двор зарос травой, над травянистым ковром кружат стрекозы, неподалеку — эстрада с двумя гирляндами электрических лампочек. Как нам нравились наши школьные вечера! У нас многие занимались музыкой, поэтому на вечерах можно было услышать и гитару, и аккордеон, и скрипку, и флейту... Девочки в юбочках и блузочках из блестящего голубого и розового шелка превращались в сказочных фей. Самодельные шляпы из цветной фольги при свете лампочек излучали волшебное сияние... Неужели мне больше не придется петь и танцевать на таких вечерах? Я вспомнила школьный стол для игры в пинг-понг, покоробившийся с одной стороны и треснувший с другой. Как я огорчалась, когда не могла правильно отразить косых ударов! А школьная лаборатория! Я бы не вылезала из нее, если бы нас не выдворял оттуда сердитый с виду старик в белом халате. На самом деле это был добрейший человек, а стращал он нас для порядка. Я могла часами разглядывать диковинные банки и бутылки с химикалиями, колбы и пробирки для химических реакций, в том числе и бутыль с серной кислотой, которая должна была отпугивать нас наклейкой с изображением костей и черепа. В темном углу скалил зубы человеческий скелет из гипса, в формалине плавал человеческий эмбрион... Мне нравились школьные коридоры, в которых пол был выложен красивым желтым кафелем, нравились стеклянные двери — в них можно было увидеть свое отражение, нравились заляпанные чернилами и усердно разрисованные столы с выдвижными ящиками, в которых мы прятали початки печеной кукурузы,— мы потихоньку грызли их прямо на уроках, мне нравилась даже черная классная доска с клеточками в верхней части: в этих клеточках проставлялась дата... Неужели для меня перестанет существовать этот светлый мир с его радостями и печалями? Неужели не будет больше летних каникул, веселых увлекательных игр? Удивительное дело: я не забывала школу даже за играми! Мне все там нравилось, вплоть до запаха мела и запаха пыли в лаборатории! А суматоха перед контрольными... Впрочем, это уже прошлое. Память обо мне останется во многих уголках школы. Вот, например, сетка для игры в пинг-понг. Я ее выпросила в комитете по делам физкультуры и спорта провинции. А вот пара ракеток, которые мне достались как приз. Самая большая ваза, которую, выставляют в школе по празд-никам, была подарена мне провинциальным управлением культуры за успехи в школьной самодеятельности. А над цветочной клумбой перед окнами канцелярии мы трудились всем классом прошлой осенью. Я так усердствовала, что меня хватил тогда солнечный удар.
От нахлынувших воспоминаний на душе у меня стало тоскливо-тоскливо, я горько заплакала, не обращая внимания на то, что слезы капают на кофточку...
На другой день было воскресенье. Утром меня разбудили голоса школьных товарищей. Я услышала, как они громко кричат под дверью:
— Бе, вставай скорей! Есть хорошие новости!
— Бе, есть важное сообщение!
Я пошла открывать дверь: мама спозаранок ушла на рынок. Уходя, она велела мне закрыть дверь на щеколду. В дом ввалилась целая ватага моих одноклассников, все они были очень возбуждены и стали наперебой рассказывать о том, что произошло в школе в мое отсутствие. А случилось вот что. На пятом уроке появилась директор с отпечатанным на машинке приказом, подлежащим рассылке во все школы провинции. Когда директор зачитала приказ, неожиданно со своего места поднялся Ли и сказал, что это он запер физкультурника Жа в уборной. By Тхи Бе, правда, помогла ему дотащить до уборной тяжелый стул, но она не знала, зачем это ему понадобилось. Еще Ли сказал, что By Тхи Бе взяла на себя чужую вину, потому что она жалостливая девочка. Она испугалась, что отец забьет его, Ли, до смерти. Пьяница отец, само собой, не посмотрит на то, что он худ и слаб...
Выложив свою новость, ребята с любопытством уставились на меня. Они ждали, что я им отвечу, но я молчала. Я никак не ожидала, что запуганный заморыш с озабоченным высохшим личиком окажется способным на такое благородство! Как я была ему благодарна в тот момент!
— Ты рада? — спросила она.
— Конечно!
— Значит, ты пострадала зря! — сердито сказала Лоан.
— Это не совсем так.
— Почему? — хором спросили ребята.
— Пока я не скажу. Но все равно вы меня очень обрадовали...
Вечером я отправилась к Ли. Еще у двери я услыхала гнусавый пьяный голос его папаши. Я робко заглянула в дом и стала свидетельницей отвратительной сцены. Пьяный хозяин дома валялся на массивном сапе1 из железного дерева, тупо смотрел в потолок и хриплым голосом орал песню. Тут же крутился мальчонка лет пяти с лицом маленького старичка. Неожиданно пьяница перестал горланить и грубо спросил малыша:
— А куда подевалась эта чертова кукла?
— Мама пошла к соседям. Позвать ее? Но сначала гони пять хао! — услышала я ответ малыша и внутренне содрогнулась.
Пьяный папаша порылся в кармане, нашел пять хао и бросил малышу, потом заорал:
— С кем она водит хороводы?
Загибая пальцы с грязью под ногтями, малыш начал перечислять:
— С тетей Нам Нгиа, с тетей Ты, с тетей Нян... с дядей, которого зовут Лой... Еще с...
В ответ раздался звериный рев, глаза пьяного чудовища налились кровью.
— Где она разгуливает? До мужа ей, видите ли, дела нет! Самогон хреновый, нет в нем крепости, соус из креветок дрянь, не кислый и не острый... Муж тут мается, а она развлекается с этим... как его... Допрыгаются они у меня!
Вот какой монолог услышала я.
Пьяный схватил стакан и изо всех сил грохнул. Стакан разбился вдребезги, острые осколки впились в руку пьяницы, из руки ручьем потекла кровь.
'Сап — широкий топчан из дорогих пород дерева. На нем спят и едят.
— Эй, Ли! Где тебя носит? Поди сюда! — раздался зычный голос.
Я стояла за приоткрытой дверью и со страхом смотрела, как алая кровь заливает топчан. Отец нашего Ли и его жена вызывали у всего нашего городка омерзение своей разнузданностью. Многие были свидетелями безобразных драк, которые они затевали друг с другом. Все жалели бедного Ли, которому здорово доставалось от садиста отца и такой же жестокой мачехи. И тем не менее для меня было открытием, что на свете существуют такие отцы, как этот пьянчуга. «Это же чудовище, а не человек»,— подумала я.
— Куда запропастился этот ублюдок? Ли! Ли-и-и! — снова зарычал пьяный папаша.
Как раз в эту минуту откуда-то прибежал Ли.
— Вы звали меня, отец? — робко спросил Ли.
— Звал, звал! Ты думал, я зову собаку? — заорал пьяный и с силой пнул ногой несчастного мальчика, сопроводив пинок непристойной бранью.
Если бы Ли не изогнулся, пинок пришелся бы ему в живот, однако он привык к подобному обращению и научился ловко увертываться от пинков и затрещин, поэтому отцовский башмак лишь слегка задел его бедро. Мне бы ни за что не удалось так ловко изогнуться, и если бы я оказалась на месте Ли, то непременно попала бы в больницу.
— Эй, ты, щенок! Найди тряпку и перевяжи мне руку! — гремел пьяный голос...
Ли молча ушел в другую комнату и вернулся с тряпочкой и баночкой с какой-то мазью. Он вытер кровь, смазал ранки мазью и ловко перевязал отцовскую руку. Расходившийся папаша придирчиво оглядел повязку. Он, видимо, остался доволен и успокоился. Ли вытер сап, собрал осколки и намеревался вынести их во двор, но тут заметил меня. Я все это время стояла за дверью.
— Ты давно пришла? — спросил Ли встревоженно.
Я ответила вопросом на вопрос:
— Тебе больно?
— Да нет... Я успел увернуться,— сказал Ли с запинкой.
Я нахмурилась:
— Ну и отец у тебя!.. Какой он злой!
— Какой есть... Ему тоже не очень посчастливилось в жизни. А пьет он с горя,— мягко ответил Ли.
— Но он тебя совсем не любит!
— Почему же? Любит по-своему,— тихо возразил Ли и опустил голову.
Некоторое время мы молчали.
— Ты зачем пришла? — нарушил молчание Ли.
Мне вдруг стало неловко, и из моей головы вылетели слова, которые я хотела сказать Ли, когда собиралась к нему.
Я не нашла ничего лучшего, как спросить:
— Почему ты взял на себя мою вину?
— Так будет лучше,— сдержанно ответил Ли и засмеялся.— А откуда ты узнала? Как быстро тебе рассказали! Это, конечно, твоя подруга Лоан, да?
— Кто тебя надоумил так поступить?
— Никто.
— Тогда как же ты додумался до этого?
— Неужели тебе не понятно? Я учусь плохо и продолжать учебу мне бесполезно, а ты — лучшая ученица в классе. Папаша Тхе не раз говорил, что у тебя есть все данные, тебя даже могут послать учиться за границу. Но сначала надо закончить школу...
— А ты не боишься, что отец и мать тебя прибьют?
— Ясное дело, мне достанется. Ничего, я привык,— сказал Ли и смущенно улыбнулся.
— Ли, когда ты решил пострадать за меня, тебе не пришло в голову, что мне это может не понравиться? — спросила я, глядя мальчишке в глаза.
Он не отвел взгляда, и я вдруг почувствовала, что и у меня и у него глаза на мокром месте: еще немного, и мы разревемся. Тогда я резко повернулась и не оглядываясь побежала домой.
В понедельник я явилась к директору и сказала, чтобы она оставила в прежнем виде приказ о моем исключении, потому что Ли взял вину на себя единственно из добрых чувств ко мне, а на самом деле он абсолютно ни в чем не виноват: я действовала одна. На этот раз в кабинете директора меня уже не трясло от страха, я вообще нисколько не нервничала. Испытав однажды на собственной шкуре бесчеловечность и коварство этой женщины, я перестала ее бояться. Я ее теперь презирала. Мы, несовершеннолетние ученики, оказывается, были куда благороднее этой дамы! Мы были способны и на чувство локтя и даже на самопожертвование ради другого, не говоря уже о том, что мы смело смотрели правде в глаза. Я получила свой дневник: под колонкой выведенных красными чернилами пятерок красовался ноль за поведение, а ниже была сделана запись об исключении меня из школы. Дневник мне директор вручила сама. Я взяла его с безучастным видом: за это время мне довелось так много выстрадать, что я перестала чувствовать боль.