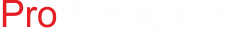Наступил апрель. Первыми ярко-огненными цветами запестрели ветви «хвостов феникса» — огромных деревьев. В начале недели по дороге в школу у меня подвернулась нога, я упала так неловко, что в кровь расшибла колено, а на лбу у меня вскочила шишка величиной с плод гуайявы. Но все это мне показалось пустяком по сравнению с другой бедой: падая, я порвала мои новенькие брючки цвета хаки. На коленке зияла дырка величиной с монетку, сквозь которую сверкала белая кожа. Идти в таком виде в школу было неудобно, можно было бы вернуться домой и переодеться, но тогда я бы наверняка опоздала на урок. Поразмыслив немного, я достала из портфеля зеленоватую промокашку, оторвала от нее маленький клочок, слегка подкрасила черным карандашом, после чего попросила толстуху То, торговавшую на улице рисовой лапшой, дать мне лапшинок, чтобы заклеить дырку на брюках.
— Больше ты не каталась на лодке? — спросила торговка своим зычным голосом и сунула мне в руку несколько лапшинок.
— Н-нет, меня больше к реке не тянет,— призналась я.
— Смотри будь осторожна, не то затащит тебя на дно водяная фея, никто тогда не спасет. Отец-то у тебя в армии, служит где-то на краю света, его не докличешься, а у матери ты одна. Так что резвись, да знай меру.
Громко пожурив меня, тетушка То сунула мне в руку еще несколько лапшинок. Я торопливо поблагодарила ее, отошла в сторонку, заклеила клочком промокашки дырку на брюках и со спокойным сердцем пошла в школу.
Первым был урок химии. Папаша Тхе вызвал меня к доске. Я бойко изложила теорию, написала на доске формулы, и папаша Тхе поставил мне пятерку. Когда я возвращалась на место, клочок промокашки отклеился от брюк и упал на кафельный пол. Картина была до смешного нелепой! Я сконфузилась и попыталась прикрыть дырку на коленке рукой. Весь класс дружно расхохотался. Папаша Тхе оглядел учеников удивленным взглядом, а когда понял, в чем дело, тоже расхохотался. Так смеются крестьяне, которые продают веники на нашем рынке. После уроков папаша Тхе окликнул меня:
— Ты куда?
— Пойду прогуляюсь во дворе.
— Хм... В таком виде? Чему только вас учат на уроках труда! Как тебе пришло в голову заклеить бумажкой дырку на брюках? Эх ты, неумейка! Некому тебя пороть!
Обычно папаша Тхе обращался к нам на «ты». Он переходил на «вы» только тогда, когда был очень недоволен нами.
— Ну-ка иди за мной!
Он повел меня в общежитие учителей нашей школы, раздобыл там кусочек материи под цвет моих брюк, иголку и длинную нитку, потом отвел меня в небольшую комнату рядом с лабораторией — в этой комнате он жил вместе с учителем математики, которого звали Бать.
— Закрой дверь и аккуратно зашей дыру на брюках! — сказал папаша Тхе.
— А... урок биологии? — робко возразила я.
— Пропустишь! Потом возьмешь у кого-нибудь тетрадь, перепишешь. В общем, разберешься сама. Ты уже взрослая, в твоем возрасте непозволительно ходить неряхой, надо следить за собой. Чтобы больше такое не повторялось, слышишь?
С этими словами папаша Тхе взял со стола табакерку, сунул в карман и вышел из комнаты. Я закрыла дверь, сняла брюки и принялась за работу. Таким строгим тоном папаша Тхе говорил со мной впервые, и мне было не по себе.
Во второй половине дня весь наш класс отправили на рытье оросительного канала в пригородном сельскохозяйственном кооперативе. Было очень жарко и душно, как перед грозой. Вскоре и в самом деле хлынул ливень. Прятаться было некуда, и все мы мгновенно промокли до нитки. Мальчишки встретили ливень радостными воплями и принялись весело прыгать и плясать под струями, обрушившимися с неба. Я да и все девочки моего возраста старались от них не отставать: мы задирали головы, высовывали языки и пили дождевую воду, с визгом гонялись друг за другом, победоносно поглядывая на старших девочек, которые, в отличие от нас, чувствовали себя очень неловко под облепившей тело мокрой одеждой: они жались друг к дружке и смущенно прикрывали лица остроконечными шляпами. Хуже всех чувствовала себя Бой, которая была самой старшей: ее крепкое тело уже вполне обрело девичьи формы. В промокшей насквозь тонкой блузке она обнаруживала явное сходство с нагими красавицами на полотнах эпохи Возрождения; о них мы имели некоторое представление по репродукциям, которые нам показывал учитель рисования. Бедной Бой было явно не по себе под взглядами старшеклассников, которые не отходили от своих одноклассниц: среди них, конечно, были ее воздыхатели. Но больше всего девочку смущало присутствие нового учителя физкультуры. Он стоял в стороне вместе с другими преподавателями, но взгляд его узких глаз непрерывно скользил по прилипшей к телу одежде Бой. Мальчишки, которые первыми смекнули, в чем дело, начали многозначительно перемигиваться и перешептываться:
— Смотрите, этот Жа так и пожирает глазами нашу куколку Бой! Ну дает! Так и окосеть можно!..
— Внимание, не пропустите интересного момента! Сейчас он опять начнет стрелять глазами... Видите? А что я говорил! Он только для виду о чем-то расспрашивает папашу Тхе, а на самом деле занят совсем другим... Видите? Так и ест ее глазами...
Я посмотрела на папашу Тхе. Он и в самом деле беседовал с учителем физкультуры, но упорно смотрел куда-то в сторону. Ясное дело: папаша Тхе в курсе... Такое не могло ускользнуть от его внимания...
Как только кончился дождь, сразу ярко засветило солнце. Мы опять принялись за работу — кто копал, кто таскал землю. Худенький и не по возрасту маленький Ли работал наравне со всеми, но вдруг он бессильно опустился на землю. Мы обступили его и попытались помочь ему подняться, но бедняге было совсем худо. Все растерялись и не знали, что делать, но тут подбежал папаша Тхе. Он прижался щекой ко лбу мальчишки и озабоченно пробормотал:
— У мальчика сильный жар! Как видно, он с утра нездоров. Он ни на что не жаловался?
Мы переглянулись.
— Вроде бы нет,— невнятно ответил кто-то из нас.
— Живо бегите в медпункт! Позовите медсестру!
Наш староста, председатель совета отряда и председатель совета дружины помчались в медпункт, но очень быстро вернулись удрученные: оказалось, что медсестра уехала по делам в уездный центр.
Пока ребята бегали в медпункт, папаша Тхе намазал тигровой мазью виски, переносицу, шею и грудь заболевшего мальчика, который все это время лежал с закрытыми глазами у него на руках. Лицо у Ли горело, веки почернели и беспокойно вздрагивали. Узнав, что медсестры на месте нет, папаша Тхе молча взвалил больного мальчишку себе на спину и трусцой побежал через поле в сторону шоссе. По неровному полю бежать было нелегко, папаша Тхе то и дело спотыкался о комья земли. Он ведь был уже немолод, мы это великолепно понимали и не отставали от него.
— Давайте поможем! — кричали мы.— Одному вам очень тяжело, вы не донесете...
— Был бы гамак или носилки,— откликнулся папаша Тхе,— а без гамака... Идите работать, а со мной пусть останутся двое.
Само собой получилось так, что этими двумя оказались я и староста класса, а остальные пошли назад. Староста был старше меня и считался рассудительным парнем. Рядом с ним я казалась пигалицей, но смекалки и проворства мне было не занимать, я не сомневалась, что окажусь полезной. К тому же папаша Тхе всегда чуть-чуть выделял меня среди других, что давало мне право остаться с ним, а не повернуть назад. Я заранее знала, что он воспримет это как нечто само собой разумеющееся.
Едва мы вышли на шоссе, как возле нас притормозил армейский джип. Увидев мужчину с ребенком на спине, ехавшие в джипе военные предложили свои услуги. Джип довез нас до ближайшей больницы. В кабинете неотложной помощи бедняжке Ли сделали целых три укола, потом дали подышать через резиновую трубку кислородом из огромного блестящего металлического баллона. После этого его отвезли в палату с шестью железными кроватями, окрашенными в белый цвет. Жар у него не спадал, и он лежал с закрытыми глазами, а на шее вздулись синенькие жилки. Папаша Тхе сказал нам:
— Боюсь, что у парня тиф. Одному из вас надо подежурить ночью возле него.
Староста тут же ответил:
— Хорошо, учитель, я могу подежурить...
Хотя староста без колебаний согласился остаться на ночь в больнице, но от меня не ускользнуло, что он несколько растерян. Семья его бедна, и по ночам он частенько подрабатывает: обжигает кирпичи, продает их, а деньги отдает матери.
Тогда я сказала старосте:
— Ладно, иди домой. Я останусь здесь на ночь. Только по дороге зайди ко мне домой, предупреди мою маму.
Староста медлил с ответом, обдумывая, как быть. Но тут папаша Тхе погладил меня по голове и одобрительно сказал:
— Вот и хорошо! Ты молодчина!
Он достал из кармана кожаный бумажник с несколькими кармашками, обшарил все кармашки и в конце концов извлек четыре донга.
— Держи! Тебе надо поужинать, этого хватит на лепешки и лапшу, а завтра будет видно,— сказал он мне.
После этого папаша Тхе и староста ушли, оставив меня посреди больничного двора. Я долго смотрела им вслед. Когда знакомая фигура папаши Тхе скрылась за воротами, я вернулась в палату и села около Ли. Он спал. Я огляделась по сторонам: остальные пять кроватей были заняты, раньше я не обратила на это внимание. Когда я разглядела больных, мне стало жутко: они либо метались во сне и бредили, либо лежали пластом, не подавая признаков жизни. Лица у больных были какие-то восковые, глаза закрыты или, наоборот, широко открыты. Застывший взгляд широко открытых глаз пугал меня. Окно палаты было наполовину закрыто листвой деревьев, но че рез него все же можно было разглядеть больничное кладбище, расположившееся на холме. На могилах — пиалы с пеплом от сожженных ароматных палочек и увядшие венки. Под холмом маленький домик, побеленный известью. Это больничный морг. Я увидела, как два санитара в белых халатах внесли туда носилки с телом, накрытым простыней. Я давно бы удрала из этого страшного места, если бы не Ли, если бы не слово, данное папаше Тхе и самой себе. К счастью, минут через двадцать пришла дежурная медсестра. Она была такая полненькая, такая румяная, что все мои страхи тут же исчезли, и мрачная палата показалась не такой уж мрачной.
— Ты что-то бледная,— сказала она.— Проголодалась небось?
Я молча кивнула головой.
— Не волнуйся, я здесь присмотрю, а ты пойди поешь! Скоро стемнеет, так что поспеши!
Я поблагодарила медсестру и пулей выскочила из палаты, насквозь пропахшей дезинфекцией и другими больничными запахами. На свежем воздухе я почувствовала себя как в раю, а ведь в больничной палате мне довелось пока пробыть каких-нибудь полчаса! За воротами больницы расположилось несколько маленьких харчевен, в которых продавали горячую лапшу, лепешки и пироги, завернутые в листья, разные фрукты. В этих харчевнях оказалось очень неопрятно, а цены были очень дорогими, тем не менее я отважно съела два пирога. В те времена один пирог с начинкой из бобов и мяса стоил пять хао, хотя величиной оч был с пиалу для риса. Двух пирогов было достаточно, чтобы у меня раздулся живот, однако я еще купила две большие конфеты, истратив в общей сложности один донг и один хао, так что у меня осталось два донга и девять хао. После этого я разыскала кухню при больнице и попросила напоить меня чаем. Когда я подумала, что мне надо возвращаться в палату, по спине у меня пробежали мурашки... Как бы то ни было, я не могла оставить мальчика в таком тяжелом состоянии одного на ночь. Открыв дверь, я чрезвычайно об-радовалась, увидев пышущую здоровьем медсестру, которая сидела в уголке и преспокойно что-то вязала. Я опустила москитник, устроилась на краешке кровати рядом с Ли и незаметно заснула.
Утром меня разбудил чей-то голос. Но он принадлежал не румяной медсестре, а незнакомому мужчине. На носу у него были очки в оправе из панциря морской черепахи.
— Как появилась в палате эта маленькая куколка? — спросил мужчина и погладил меня по щеке удивительно белой женственной рукой.
Я села и с изумлением уставилась на незнакомца, который говорил со мной полусерьезным тоном.
— Ты пришла к нам из витрины магазина? — повторил мужчина.
Я хорошенько протерла глаза, чтобы окончательно прогнуться, после чего обстоятельно объяснила, что я одноклассница заболевшего мальчика, что классный руководитель попросил меня подежурить ночью в больнице, поэтому я и оказалась в палате...
Я залилась краской стыда: от таких похвал, да еще в присутствии других, мне всегда становилось не по себе. Я огляделась: больные молча смотрели на меня, а две медсестры, сопровождавшие врача, понимающе улыбались. И тем не менее я не могла по-настоящему рассердиться, потому что у врача было такое открытое, такое доброе лицо! Я чувствовала, что мне все нравится в нем: и блестящие черные глаза за очками с толстыми стеклами, и чисто вымытые белые руки, и торчащий из-под халата воротничок клетчатой рубашки. Осмотрев больных и прописав им лекарства, врач позвал меня в свой кабинет. Я, конечно, тут же пошла за ним.
В кабинете все сияло чистотой. На стенах, выкрашенных под светлый мрамор, висели картины, на которых были только одни пейзажи.
— Угощайся! — сказал врач, пододвигая ко мне белую фарфоровую тарелку с разноцветной карамелью.— Во время ночного дежурства у меня на столе всегда лежат конфеты. Ну бери же! Не строй из себя взрослую гостью, чувствуй себя как лома!
Карамель оказалась очень вкусной, внутри она была твердая и прозрачная, а пахла, как засахаренные мандарины. Врач уселся напротив меня, положил в рот карамельку, налил себе чаю и стал отпивать из пиалы маленькими глотками. Он разговаривал со мной, а глаза его светились добротой, и я чувствовала себя очень свободно. За веселой беседой я чуть было не забыла о Ли и мысленно обругала себя за излишнюю беспечность: а вдруг он проснется в чужой больничной палате и испугается? Я положила назад очередную карамельку и решительно направилась к двери.
— Мне надо идти,— твердо сказала я.
Врач удивленно посмотрел на меня:
— А что случилось?
— Извините, мне надо вернуться в палату... А вдруг мой товарищ уже проснулся? — сказала я и тут же вышла из кабинета врача.
Он двинулся вслед за мной по коридору. Дойдя до поворота, я оглянулась и увидела, что он машет мне рукой.
— До свидания, малышка! — услышала я.
Голос врача звучал очень ласково. Больше мы с ним никогда не встречались, но в моей душе навсегда осталась добрая память об этом человеке.
Войдя в палату, я увидела, что Ли лежит с открытыми глазами: пока меня не было, он проснулся. Не успела я спросить у него, как он себя чувствует, а в палату уже ввалился лысый, грузный, дородный мужчина с животиком. В одной руке он держал тетрадь в клетку, в другой — карандаш. Войдя, он сразу же забарабанил карандашом по жестяной табличке на спинке кровати и грубовато спросил:
— Койка номер шесть! Новенький, что собираетесь заказывать в кухне?
Мы с Ли переглянулись.
— Чем вы собираетесь питаться? — повторил мужчина таким резким тоном, что нам с Ли стало не по себе.
— Ка-а-шей...— запинаясь, ответил Ли.
— На сколько дней заказывать?
— Как вы сказали? — испуганно спросил Ли.
Откуда нам было знать, что больному полагалось заказывать и оплачивать питание на несколько дней вперед? Между тем грузный мужчина снова нетерпеливо постучал карандашом по жестяной табличке:
— Живо решайте, на сколько дней вам заказывать питание. Я должен записать вас.
— На три дня,— ответила я наобум.
— Восемь хао помножить на три получится двадцать четыре. Восемь хао в день, за три дня с вас причитается два донга четыре хао, давайте деньги! — сказал мужчина и начал что-то торопливо писать в своей тетради.
Ли вдруг сильно побледнел. Я сообразила, в чем дело: у него не было ни единого су... Тогда я быстро достала из заколотого булавкой кармашка деньги, которые у меня остались, и протянула грубоватому мужчине. Он взял их и тут же вышел из палаты. А меня охватило беспокойство при мысли о том, что от первоначальной суммы осталось не больше пяти хао: я уже успела проголодаться, не говоря уже о Ли, который вчера почти весь день ничего не ел. «Больничную кашу принесут только в девять часов»,— подумала я и решительно направилась к выходу. За воротами больницы я купила для Ли несколько бананов, за которые заплатила три хао, а себе взяла на один хао вареного маниока . Вернувшись в палату, я отдала Ли оставшийся у меня один хао.
— Подкрепись бананами и снова спи! А мне надо отлучиться... Ни в коем случае не выходи из палаты — ты еще очень слаб!
Ли послушно кивнул головой.
Съев маниок, я в хорошем настроении вышла из больницы. У меня уже был наготове план. Больница стояла на холме, вокруг тянулись рисовые поля. До города надо было топать километров семь, а до школы — все пятнадцать, зато до пагоды Донгна отсюда рукой подать — немногим больше трех километров. В эту пагоду мы не раз наведывались в воскресные дни, потому что при пагоде был заброшенный сад, в котором росло множество гуайяв, сплошь усыпанных плодами. Были там и папайи — не меньше двух десятков, унаби — около десятка и две карамболы . Настоятельнице пагоды было за сорок. Она отличалась очень добрым нравом и любила, когда мы приходили к ней. Стоило нам появиться, как она принималась варить для нас рис, срывала самые сладкие, самые спелые плоды. Когда мы собирались уходить, она совала нам фрукты, чтобы мы угостили ими своих домашних. А как она умела варить рис! Это был не рис, а объеденье — разваристый и ароматный, мы его ели с бобовым соусом и солеными овощами. Беседуя с нами, настоятельница пагоды улыбалась своей на редкость приветливой улыбкой.
— Я очень рада вашему приходу,— неизменно говорила она.— Я весь день одна, дел у меня немного: то двор подмету, то соберу опавшие лепестки орхидей, одной мне очень тоскливо.
Расставаясь с нами, она всегда говорила:
— Недельки через две обязательно приходите снова, ладно? Буду ждать вас, детки!
Мы тоже приносили ей наши скромные подарки: свечи, пакеты с ароматными палочками, нитки с иголками, пуговицы и кнопки для одежды, масло для светильников, лепешки... Настоятельница принимала наши дары с такой непритворной благодарностью, что мы чувствовали себя совершенно счастливыми. Мы весело болтали с нею, и все вокруг казалось нам таким своим, таким родным: и маленькая старинная пагода с позеленевшими от мха стенами, и скрипучие ворота, и плодовые деревья, сквозь листву которых пробивались веселые солнечные лучи, и порхавшие с ветки на ветку птички, которые иногда оставляли нам свои «визитные карточки».
Я шагала по дороге, и на душе у меня было легко-легко. Мне хотелось поскорее увидеть милую моему сердцу пагоду. Я думала про себя: «Сначала я полакомлюсь рисом, который сварит добрая настоятельница, потом сорву для Ли несколько спелых плодов папайи и отнесу их ему в больницу. Было бы здорово, если бы в большом кувшине для риса оказались моченые плоды унаби...»
День обещал быть очень знойным. Когда я добралась наконец до пагоды, солнце начало сильно припекать, и моя спина взмокла от пота. Деревянные ворота были распахнуты настежь, однако во дворе никого не было. Я несколько раз позвала настоятельницу, но она не откликалась. Тишину нарушал лишь птичий гомон. Я обошла весь сад, но настоятельницы нигде не было, в ее покоях тоже было пусто. Рядом с крыльцом в двух больших плоских корзинах сушилась белоснежная рисовая мука, стоял большой кувшин с бобовым соусом, сверху прикрытый куском марли, на открытой веранде на протянутых веревках сушились связки чеснока. Я не была в пагоде больше трех месяцев с того самого дня, когда загадочно исчез худышка Зунг.
На всякий случай я еще несколько раз позвала настоятельницу, но результат был тот же. Отчаявшись ее найти, я подняла кусочек красного кирпича и написала на стене пагоды: «Я не застала вас и осмелилась сорвать без вашего ведома несколько спелых плодов папайи для больного мальчика, моего одноклассника. При случае навещу вас. Ваша Бе».
Мне было известно, что настоятельница знает национальное письмо ,— стало быть, она прочтет и не будет думать, что плоды папайи украл деревенский мальчонка, который пас неподалеку своих буйволов. Я присмотрела несколько самых спелых плодов на самом старом дереве и полезла за ними. Дерево было высокое, оно тянулось вверх, к солнцу, и ствол у него был совсем гладкий. Только смельчак отважился бы забраться на такое дерево. Я давно не лазала по деревьям, поэтому поначалу меня пробирала дрожь,— так мне было страшно, но, когда я добралась до середины ствола, страх вдруг прошел, я уверенно полезла дальше ив конце концов без особого труда сорвала два плода, которые росли на самой верхушке дерева. После этого я стала не спеша спускаться вниз. Едва мои ноги коснулись земли, как я услышала грозный окрик, который раздался у меня над самым ухом:
— Ага, попалась! Я тебе покажу! Ты у меня сейчас узнаешь!
В следующее мгновение кто-то крепко схватил меня за запястья. Это был пожилой мужчина с воспаленными мутными глазами, бритой головой, низким лбом и тяжелой челюстью, придававшей ему свирепый вид.
— Ой, мне больно! — пискнула я в испуге.
— Ты, негодная, никуда от меня не убежишь! Ты попалась на месте преступления! — заорал мужчина и куда-то меня потащил.
Не успела я сообразить, что к чему, как мужчина втолкнул меня в большой полутемный чулан, дав мне такого пинка, что я упала на пол, а сам закрыл снаружи дверь на щеколду. Я знала эту огромную щеколду из железного дерева и пришла в отчаяние...
— Дяденька, послушайте, что я вам скажу! — завопила я.— Вы ведь мне не дали даже слова выговорить. Настоятельница хорошо знает меня, она позволяет мне рвать фрукты, когда я прихожу к ней. Если не верите — прочтите, что я написала на стене пагоды! Дяденька, выпустите меня отсюда!
Мои вопли не возымели никакого действия: мужчина не отзывался.
— Дяденька, прочтите, что я там написала! Дяденька... Дя-я-денька!..— закричала я истошным голосом и заплакала, но и это не тронуло грозного стража: через крошечное оконце я видела, что он преспокойно уселся возле корзин с мукой, а плоды папайи положил рядом.
Горячие, соленые слезы потекли у меня по щекам, я слизывала их языком и громко всхлипывала, но чудовище в образе пожилого мужчины, видимо, уже забыло о моем существовании. Тогда я заревела во весь голос, но этот истукан оставался глухим к моим жалобам. Я поняла, что слезами этого типа не проймешь, и затихла. Мне стало так тоскливо, так одиноко в полутемном чулане, что я невольно начала думать о маме, о папаше Тхе, который, должно быть, уже начал урок, о своих школьных друзьях, которые в эту минуту сидят в светлом, залитом солнцем классе и слушают папашу Тхе... Никому из них и в голову не придет, что меня заперли одну в чулане. В этой тюрьме сколько ни плачь, все равно тебя не услышат...
Вдруг кто-то цапнул меня за пятку. Я вздрогнула от неожиданности и, к великому своему ужасу, увидела огромную крысу, которая нахально кружила возле меня. Крыса преспокойно пристроилась возле моей пятки, явно собираясь вонзить и нее свои зубы. Я изо всех сил наподдала ее ногой, так что она отскочила в сторону и противно пискнула. Потом крыса шмыгнула в какую-то щель и больше не появлялась, а я, чтобы успокоиться, принялась разглядывать покрытые скользкой плесенью кирпичные стены чулана. Это занятие скоро мне наскучило, я вдруг почувствовала сильную усталость, голова моя стала клониться вниз, и я погрузилась в тревожную дрему. Даже во сне меня преследовал запах прокисшего вина и запах плесени: в этот чулан редко заглядывали. В одном углу были свалены в кучу разные корзинки, в другом углу лежала груда таро . Раз в году — это случалось перед главным праздником, когда к пагоде стекалось много народу,— в чулане наводилась чистота, на полу устраивался настил, на нем расстилали циновки. Все это делалось для тех паломников, которым захотелось бы полежать, отдохнуть. А в остальное время это помещение использовалось как чулан. Если бы не щеколда из железного дерева, я бы, конечно, убежала отсюда, но, пока дверь закрыта на щеколду, о побеге нечего было и думать. Я открыла глаза и сообразила, что сижу возле крошечного оконца, обняв руками колени. Тогда я прильнула к этому оконцу, которое было не больше шкатулки для бетеля , и стала с тоской смотреть на ветку гуайявы, усыпанную плодами цвета слоновой кости. Ветка слегка раскачивалась на ветру, залитые солнцем плоды так и просились в рот... «Который сейчас час? — подумала я и сама себе ответила: — Верно, уже часа три, если не больше...» В животе у меня урчало от голода. Чем больше я думала о еде, тем мучительней становилось чувство голода. Меня прошиб холодный пот, перед глазами поплыли круги, в голове появилась страшная тяжесть. Я старалась не думать о еде, но, как назло, перед глазами стояла всякая домашняя снедь... Я и теперь отлично помню, какие у меня были любимые блюда в ту далекую пору: жареный окунь, заправленный рыбным соусом, бульон из крабов с таро и всякой зеленью, мясо с мякотью кокосового ореха, рыба под томатным соусом, вареные бобы, заправленные соусом из креветок, домашние сласти...
Ах, если бы в моей темнице появилась добрая фея, которая протянула бы мне волшебные палочки для еды! Постучишь легонько палочками — перед тобой появится блюдо с изысканными яствами. Но напрасно я ждала добрую фею: она, как назло, не появлялась. Тогда я стала мечтать уже не об изы-сканных яствах, а о пиале лапши от толстухи То или, уж совсем на худой конец, о вареных бататах. В животе у меня уже не урчало, а булькало, переливалось и кипело. Но в конце концов мой бедный живот устал протестовать и затих...
Солнце уже село, а я все томилась в своей темнице. Злодей, упрятавший меня в чулан, возился во дворе — готовил себе ужин. Через некоторое время до меня дошел аромат сваренного на пару риса, и я с тоской подумала о том, как настоятельница пагоды, бывало, угощала меня великолепно приготовленным рисом. Я закрыла глаза и представила себе простые кушанья, которые готовила для своих маленьких друзей настоятельница, и чуть не взвыла от голода. Но, как ни странно, я вдруг ясно осознала, что вполне могу потерпеть еще некоторое время. Я даже стала прислушиваться к звукам, которые издавал мой тюремщик, приступивший к ужину: он чавкал, двигая своей тяжелой челюстью, и чмокал, как свинья у корыта с отрубями. Теперь он мне уже не казался таким страшным, теперь я его не боялась, а презирала. Если он вдруг вздумал бы поделиться со мной своим ужином, я с негодованием отвергла бы эту милость.
На дворе стемнело. Когда холм Донгна погрузился в ночной мрак и в моем пропахшем плесенью чулане тоже стало совершенно темно, в голову полезли жуткие мысли.
Что будет со мною, если этот злодей с тупым лицом вообще забудет о моем существовании? А вдруг настоятельница пагоды так и не появится? Тогда мне суждено просто погибнуть в этом чулане. Полно, возможно ли такое? А почему бы нет?.. Очень даже возможно.
Когда я совсем потеряю силы от голода, изо всех щелей повылезают огромные крысы, которые сначала отгрызут у меня пальцы на ногах, потом на руках... В конце концов они доберутся до моего сердца, и не будет больше By Тхи Бе, единственной дочери учительницы Хань и любимой ученицы папаши Тхе, той самой By Тхи Бе, которая выступала на школьных концертах художественной самодеятельности, как настоящая артистка, которая была лучшей спортсменкой школы и не имела себе равных среди гимнасток, которая... От By Тхи Бе останется только скелет — в точности такой, как в школьном кабинете биологии. Отцу дадут увольнительную, и однажды он появится с рюкзаком за спиной на пороге дома. Еще с порога он спросит: «А где моя маленькая Бе? Почему она не встречает меня? Я привез ей коготь тигра! А еще у меня есть для нее мед и персики из Шапа!» Тут навстречу выйдет рыдающая мама и сообщит отцу страшную новость: «Нашей малышки больше нет! Ее загрызли крысы. От нее остался один скелет, теперь он в школьном кабинете биологии».
От таких мыслей мне стало еще больше жаль себя, и я в отчаянии заплакала. Плакала я довольно долго, а затем заснула. Посреди ночи меня разбудила возня крыс. Чтобы отпугнуть их, я стала махать руками и дрыгать ногами, а потом опять заснула, но скоро снова проснулась от противного писка вконец обнаглевших крыс. По-видимому, это были старые крысы, напугать которых было не так-то просто. Я опять завертелась, и все это продолжалось до самого рассвета. Едва я прислонялась к стене и начинала дремать, как тут же просыпалась, хотя глаза у меня слипались, а голова была словно чугунная. Вдруг сквозь полудрему я услышала, как кто-то отодвигает деревянную щеколду, на которую закрывалась изнутри комнатка рядом с моим чуланом, а вслед за этим послышался кроткий ласковый голос настоятельницы пагоды:
— Помоги-ка мне! Такая тяжелая корзина!
Я окончательно проснулась и стала прислушиваться к звукам снаружи.
— Осторожно! А то бананы помнешь... Дальнюю дорожку я одолела! Ты не забыл покормить моих милых дроздов? — говорила с кем-то настоятельница.
Знакомый мне грубый мужской голос односложно ответил:
— Нет.
— А это ритуальный рис. Пока я его несла, он немного подсох, но, если подержать его над паром, он станет мягким. Хочешь, отведай прямо сейчас.
Потом настоятельница принялась шумно обмахиваться веером, а старый злой монах начал с громким чавканьем уплетать рис. Некоторое время они оба молчали, потом он без всякого перехода выпалил:
— Я поймал девчонку, она воровала плоды папайи. Я ее запер!
Когда до настоятельницы дошел смысл его слов, она испуганно переспросила:
— Что ты сказал?
— Я сказал, что запер ее.
— О Будда, что за наказанье!—запричитала настоятельница.— Для кого мне беречь эти папайи? Ты посмел запереть чужого ребенка? Где эта девочка?
— Тут! — раздался односложный ответ.
Настоятельница кинулась к двери чулана и с грохотом
отодвинула щеколду. Я затрепетала от радости, но не сразу пришла в себя после ужасной ночи: из моих глаз хлынули слезы и неудержимым потоком потекли по щекам.
— О Будда! — воскликнула добрая настоятельница, узнав меня.— Это ты, Бе? Бедняжечка моя! И давно ты тут сидишь?
От обиды и гнева у меня комок подступил к горлу, я уткнулась лицом в стену и молчала. Тогда настоятельница накинулась на старого монаха, который стоял у нее за спиной:
— Посмотри, кого ты запер в темном чулане! Совсем маленькую девчушку! Человек ты или дьявол? Да за такое... За такое тебя надо бросить в котел с кипящим маслом!
От таких слов старик совсем опешил. А настоятельница обняла меня и заплакала.
— Прости меня, моя маленькая! Прости, моя хорошая! — приговаривала она сквозь слезы.
Увидев, что настоятельница очень огорчена, я оттаяла и прижалась к ней.
— Вот беда какая! Ну успокойся, моя детка! — продолжала причитать добрая женщина, утирая слезы платком, выкрашенным в такой же коричневый цвет, как и ее одежда,— она его достала из кармана.
Глядя на нее, я почувствовала, как сердце мое переполняется жалостью к ней. «С какой стати такая хорошая, такая добрая женщина должна жить в храме под одной крышей с тупым, злобным стариком? И почему в нашей жизни столько всяких нелепостей?» — думала я со смятением и изумлением. Мне, наивной девчонке, было трудно это понять.
Потом настоятельница стала угощать меня рисом и бананами. Сначала я отнекивалась и только после долгих уговоров съела немного рису и банан, чтобы не огорчить настоятельницу. Пока я ела, она завернула для меня в цветной целлофан рис и бананы, уложила свертки в маленькую корзинку и вместе со мною отправилась в путь. Она не давала мне нести легкую корзинку и проводила до самых ворот больницы.
Там меня ждали мама и папаша Тхе, они сидели в комнате дежурного. Оба очень переволновались из-за меня и кинулись наперебой расспрашивать, где я пропадала целую ночь. Мне пришлось рассказать им о моих невеселых приключениях в пагоде Донгна, а потом я заглянула в палату к Ли. Мальчик с жадностью съел весь рис, который я принесла. Заморив червячка, он заметно оживился и повеселел. Я пообещала ему, что буду его навещать, и мы с мамой отправились домой.