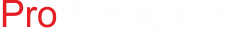КОНИ
Кони, грозно летящие в облаке пыли.
Здесь, на балконе, сердце сильнее стучит от затихающего цокота их копыт: красные вихри сквозь сумерки.
ЭЛЕГИЯ
Твои волосы — это созвездие, которое вспыхнуло новым светом.
Оно истекает кровью, как подстреленное животное на поле земли, в моей сокровенной мечте.
Там шагает оно в потемки каменной геометрией.
Никакие ветры тебя не касаются; сама ты лежишь под песком,
посеребренная им. Темнота опускается все темнее и накрывает меня, спящего; я поворачиваюсь на бок и обнимаю во сне мертвеца.
Приподнимаясь, ветер с моря в грудь мою проникает, хлопает слабо ладонями.
Но никакая река благословенной воды
не сливает больше, в сердце моем, людей и звезды.
Я вижу, как, освобожденная, мчится душа в свой ограниченный и бесконечный космос.
Кровь твоя там рассеялась в пене потемок брызгами, преображенная, стала созвездием смерти твоей.
В асбестовом саване
твоя медлительная сестра догоняет ракетой свое отражение.
Твои волосы — это созвездие,
которое вспыхнуло новым светом, когда ночью однажды сердце мое колотилось в своих швартовах под рассохшимися причалами звезд, под морщинами стен.
ПРИКОСНОВЕНИЕ
Я поворачиваюсь к окну, ландшафт поворачивается
в направлении ветра, и там, под рукой моей,
где пульсирует кровь как стрелка компаса, он склоняется,
стараясь прильнуть все ближе и ближе и все тесней к
тебе:
все время должны забывать мы слова свои, покуда отверженных, нас, не охватит любовь.
ЧЕЛОВЕК И ОБЕЗЬЯНА
Опять не находишь ты нужных слов, необходимой формы контакта: замкнутая и отрешенная, она отворачивается и нет ее. Лишь прутья клетки дрожат еще от быстрых прыжков.
СКОРО КОЖА РУКИ ОТДОХНЕТ
Скоро кожа руки отдохнет от вопросов. И темнота во мгновение ока рассыплется над поверхностью моря под ветром.
Ищущие защиты, как птицы, во внезапном цветении мы однажды станем пеплом в твоей любви.
РАССМАТРИВАЯ СТАРЫХ ФЛАМАНДСКИХ МАСТЕРОВ
1
Перспектива знакома. Мы проходим сквозь комнату. Ландшафт смещен, всего лишь фрагмент реальности. Мы ощущаем ее, не видя, и поэтому ею ослеплены. Наша кровь, приноравливаясь, течет совершенно
свободно,
завершая внешнее зрение зрением внутренней яви.
2
Она знает о тех страданиях, с которыми ей придется
столкнуться.
В своем белом жабо она сохраняет, однако, спокойствие. Даже детские руки ее отдыхают, и поэтому трогают нас, там, где прячемся мы за деталями, напоминая нам о нашем детстве и о грядущем, как неизвестный мастер.
Единственно необходимый признак любви: близость рук жены и мужа. А между ними — цветочная ваза с отраженьем решетки окна и серый фон, обои жизни: это основа наших проекций на них, они безмятежно глядят своими внимательными глазами.
4
Вечер с птицами угомонился и, отвернувшись внутрь своей комнаты, слышит он наши шаги, шаркающие по двору; они уже умирают; беспорядок, чуждый его экономным мазкам.
из «сюиты»
7
Даже дружбы, дружбы травы и зверья вы не сыщете. Я покажу вам эту дружбу. Вы ее не найдете.
Я прошу вас: выслушайте меня.
И мы слушаем. Слышим твои слова, возвращенные, вырванные обратно.
Я рисую тень убегающих слов, вашу кровь в их стремительных членах. Обескровленный, я возвращаюсь от вас. Больше мы ничего не слышим.
В этом свете и видим-то мы едва.
Только мельничное колесо поскрипывает, где-то хлюпает в тайниках ночи.
11
Я кладу свое слово на наковальню мрака и бью по нему звездой, твердой, как твой прищур, красота.
И при этом ударе птицы как пламя, сбросив тень, пробуждаются ото сна. Сброшу тень и я—и под ярким небом исчезает слово
в непостижимом,
заблудившееся, как облако в дереве, как любовь, заблудившаяся в тебе.
13
Если я задену рукой за ветку, дерево не перестанет быть образом, темным, но с кроной света.
И равнина поит меня водой.
Черный шторм погасит пейзаж когда-то; вот уже тишина становится глубже, и стоит это дерево, не шевелясь.
Так влечешь меня ты к загадке смерти.
СТАРЫЙ ГОРОД
Старый город, где колокольный звон сквозь одежду твою проникает.
Где песчинка бьется о стены, пока стены эти не рухнут.
Город, горящий во тьме как кристалл, где ты говоришь: «Свет режет глаза, давай куда-нибудь спрячемся».
Где вода воздушна, как тени.
Ты слышишь гул, как с запруженной площади, он ведет к тебе в комнату, где когда-то ты была ребенком, где отдыхала.
Кто-то скрипнул дверью—и ты проснулась: колокольный звон, как всегда немой.
ОДНА ИЗ ПОЭТИК
Самое важное, может быть, не сокращать, а исключить расплывчатый фон.
Из словесной пары родить наиважнейшее третье. Пусть вещи будут тем, что они есть, а бегство — бегством от умирающих, а присутствие — близостью к той, которая отдыхает теперь, но ее однажды не удастся нам разбудить.
Потому что кто-то требовал этого — части вещей,
потому что сумерки были и было окно, чтобы открыть его в небо.
Потому что других поизувечило и они горевали, если он не поднимался по лестнице, день за днем, отягощенный камнями.
Там повторение было больней, чем укус, который он должен был прятать под вытянутыми запястьями.
Там были свои мечты, иссушенные и большие, как голод в дрожащей постели.
Потому что была она, наконец, она с детьми.
Потому что жизнь была, неизбежная жизнь.
Как без хлеба, он должен был обходиться без смерти. Были требования не легче, чем камень стен.
Потому что кто-то, как он полагал, требовал этого.
ОСЕНЬ
Осень—мое время года.
Ясные или серые дни, дороги, залитые водой, рыхлый туман.
Ничего не требуй, не обещай слишком многого.
И все-таки: трупный запах тлеющих листьев,
прелое сено,
льдистая глина,
пустота, наполненная ветрами,
как саваны и паруса.
Все омертвевшее, угасающее, упокоенное: не преждевременно ль это чувство во всем, как тень,
как отшлифованный камень в тени июня?
РУКИ
Он сидел, а руки были его неспокойны, беспокойнее, чем я видел их, короткопалые, ко всему привыкшие: к каллиграфии, и к крючкам,
и к удочке,
не скажу, что ловкие, газету держать привыкшие, успокаивать,
со здоровьем молодости поднимать бокал,
руки пишущие: приезды, отъезды, градусы, отметки земли и места, чтоб дальше идти, гладящие, вытирающие носовым платком в табаке пятна у губ, растирающие широким пальцем соль, присыпанную на скатертное пятно,
окоченевше белые, без перчаток на холоде, он, замеревший разом, застывший в старости, замерший, и костяшки пальцев красные, и лицо, одинокое, как и руки,— они застыли,
наконец-то, вдоль тела, худющие, улеглись.
В СОРОК ШЕСТЬ
В сорок шесть, больше чем пол пути пройдя,
хорошо знакомые голоса станут, возможно, чуждыми,
как лед в июне,
как сказанное и увиденное,
и раны залечивать тяжелей.
Резок тот свет, тени отбрасывающий на то, что и так в тени, и то, что растет, в землю растет, вниз — и притом стремглав.
И только детские голоса да крик перелетных птиц.
КАРТИНА
Я родился, подолгу сидел в комнате с окнами настежь,
белая занавеска, воздух как после дождя,
жил, говорил, то ребенок, то взрослый,
оплакивал мертвых, живущих жалел,
один.
С открытой дверью, с глазами открытыми и с кислородной подушкой, с тишиной как гром и с лицом, которое на своем сосредоточивается.
Фрагменты воспоминаний: она встает,
босая, подходит к окну,
летние сумерки тихи—и он отдыхает,—
а в коридорах густо теснятся больные,
как на пастбищах приграничных теснится скот.
тихо
Ночь тиха, тот, кому ты вверила жизнь свою, у лестницы ждет.
Зябко, сядь здесь, будет теплее, когда ты рядом и грезишь вслух.
НА СЕВЕРЕ
Не поразительный вид на долины и горы открывается передо мной.
Немногочисленные цветы расцветают поздно здесь, и трава сквозь почву глинистую с трудом пробивается к свету кой-где в июне.
Дальнюю южную красоту я принимаю и передаю дальше как дар почти нереальный.
А здесь низвергается бездна совсем незаметно, прорезая серые дни и дымку миниатюрных провинций. Иногда у меня на большой высоте кружится голова, как в фильме с Гарольдом Ллойдом: это все перспектива, и прежде всего то, что она оставляет вне поля зрения.
То, что не видишь, так обостряет чувство,
что грозди рябины кажутся все горькими и красивыми.
Вечно кто-нибудь говорил о маленьком стихотворении. Видели, как оно, попискивая, порхает на хрупких крылышках, все выше, к розовым облакам, похожее на попугайчика
певчего.
Непросто было его подстрелить, голос всего лишь дырка, как от иглы, в той ткани виденного и сохраненного в
памяти,
которой мы кутаем наши углы.
А дырка всего лишь дырка.
Но смог же солнце от нас заслонить тенью мгновенной тот кто нас по лицу, как твердым крылом, наотмашь ударил
так,
что мы взглянули оторопело в лицо своему испугу.
Но как я сказал и повторяю: "птичка всего лишь птичка. Многое здесь зависит от резвости.
ЖИЗНЬ БЫЛА МНЕ ДАНА
Жизнь была мне дана утром в снежную бурю.
Узелки и платки вырывало из рук бедняков.
Море было без горизонта.
Патефоны, пропахшие дальними странами, скрежетали, как швейные иглы Патти, и чарльстон. Кровельные листы взбухали и разрывались с треском, мчались по воздуху старые капоры, тростниковые колыбел их кромсало трясущимися трамваями, меж высокими заиндевелыми рамами набивался снег.
Жизнь была мне дана, где другие ее лишались, присутствие невидимых тел чувствовалось впотьмах.
Это мертвые: о живых они все, вероятно, знали,
а живые о мертвых не ведали ничего.
* * *
Днями заполнил я жизнь свою, днями,
днями тяжелыми, прочь уносящими, неразличимыми,
затопил городами я каждый свой час, городами с их гулом,
и без отдыха отдыхаю, всю жизнь без отдыха.
РОДНИК
Где-то поодаль, через поля, слышится слабо, но ясно: бьется весенний родник.
Я слушаю, приближаясь.
В свежих,
солнцем пропахших лесах льется звон родниковой воды. Я иду своей тропкой на этот звон.
Средь крон осенних уже проглядывает ложбина, где скрытый журчит ручей.
Я должен передохнуть.
Не снег ли это?
Или устал я?
Я слышу, как в двух шагах, родник, то тише, то звонче, все время там, впереди.
ТЫ ПЕРВЫЙ И ТЫ ПОСЛЕДНИЙ
Ты первый и ты последний, в ветрах и травах лишь продолжающий жить,— чего ты достиг?
Остаться в живых?
С их старыми письмами, выжившие в страданиях, побежденные и забытые,
тени бурь на твоей стене.
Ты первый и ты последний, как стон их покинутой комнаты, где другие не спят, лежат, не смыкая глаз, во мраке мира и в гибельном свете.
ДЕТСТВО
Домик садовника в дебрях репейника, неприязнь, притупляемая к субботе, дочь беременная и бешеный ветер гармоники, в неглубокой канаве безжизненная луна. Лошадь у изгороди, глаза, косящие в сторону, которые видели то, что слушаешь ты.
ОБРАЗЕЦ
Образец прекрасного мира: класс для занятий, чувство любви,
мертвые дали нам это знание,
готовые образы и ответы,
дождь, промывавший глаза, разруха
и утренняя свобода—
терять.
ИЗОБРАЖЕНЬЕ ТВОЕ
Изображенье твое: желтая брошь с цветами, кроткая их роса, шип под листом, и где-то—
солнечный свет в окне, запах двора и крики, руки на чистой странице, глаза твои, наши глаза.
ззо
Сырость на лестнице, изморось. Воспоминанья о завтраке, темные, самосветящиеся. Ржавая газовая плита.
Изображенье твое: страх твой, четкие листья на фоне стены. Отец в нас отдыхает тоже.
Там, где тяжелые плечи, были когда-то крылья.
ПРЕДВОЕННОЕ ЛЕТО
В клубах пыли промчался автомобиль, наполовину скрытый солнцем. Поля разбухли. Сначала кисель из ревеня, потом молоко, горькое, как металл. Духота без ветра.
Помню: проволока колючая вскрыла нарыв, удлиненные тени — и вода слепит нестерпимо, жгучими незаметно уколами той поры.
Предвоенное лето: обжигающий дух металл, да, и даже вода тепловата, мутна, противна. Из-за черных деревьев молния вспыхнула вдруг близко-близко. И гром загремел в ведерке.
ДРУГОЙ язык
Попробовать говорить на другом языке, построить комнаты для исстрадавшихся: кровати, ширмы, ребра и позвонки.
Попытаться изобразить их, чужой рукой:
голова, обезображенная водянкой,
спинка кровати, слюна, которую нужно стереть.
Научиться колени подтягивать, руку кусать, стареть и бродить по осенней траве в одиночку, строить их, стариков и детей, как ширмы в мозгу.
Так и идти заросшей дорогой к старости.
Колодец с метровым слоем глины на дне.
Ржавые кольца, мертвый источник. Потом говорить.
СТАРЫЙ ПОЭТ
Чтобы заполнить свою записную книжку, он жил еще несколько лет.
В письмах затрагивал второстепенные вещи:
«Я живу, а ты как живешь?»
Больше не объяснял ничего, только смотрел, но пришлось под конец объяснять его.
ВИДЕНИЯ РАЯ (АНРИ РУССО)
Зачем ты льва за гриву увел в прохладную тень, зачем ты пальмы связал наподобие врат пустыни и допустил, чтоб как птица за солнцем вода ушла в темную глубь, и до того чернотой заляпал глаз огромного льва, хоть салфеткой стирай.
Зачем ты жизнь как лучину зажег в неловких руках и побросал как монеты звезды горстями в реку и на скале, причитавшей навзрыд, расплющил цветок, пока, забытый как желудь, ты слушал ее стенанья и видел, как с рук твоих ангел вспорхнул голубой.
Ты линию жизни провел до конца, и там, где ты лег, вода подошла к тебе осторожно, едва касаясь, и лев подошел, большими глазами смотря на тебя, и, может быть, море и тени вместе ушли, истаяв, снова к себе, со своей прохладой, в единый рай.
КТО, ЧТО, КАК
Что дождь означал, что доказывал мрак, кто выдумал смерть, растворившись в любви, как сумерки нависали —
что сказано было двумя одинокими, что жило еще в их иссохших руках, как правдоискатель добился —
что было убито, кто всходы побил,
как жизни свои диктовал он условия, как флюгер скрипящий, ветра послушник.
ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ
А ныне я говорю тебе: иди окольным путем к источнику, кратчайшей дорогою к колокольчику, звенящему тихо под облаками.
А там, у изгороди ветров, найдешь того, у кого ты спросишь:
— Не ты отец мой? —
Он поглядит— и словно лет твоих не бывало.
СКАЗИТЕЛИ
Они рассказывали о картинах, запавших в душу, и о снах, посещавших пристанища бедняков.
Даже серый день для рассказчика был как праздник, как на лбу болящих целительная рука.
Все еще их говор в глуши двора за листвою слышен, в завываниях ветра и в смене времен и дней, говорят о розе они, средь зимы цветущей, о покое, светящем негаснущею свечой.
Шли они, заслоняя трепет ее от ветра, чтобы тьма отступила. Ты в комнату к ним войди — нищета поразит! И вспыхнет в окне, возможно, проблеск рая, как ветер в кронах, или толчок под ребром, или взгляд ребенка, небесно ясный.
ГОРОДА
Города зияют разверстыми стенами.
Ветры треплют неуправляемые суда, то туда, то сюда бросают, бьют о причалы. Колесо обозрения в парке с аттракционами ветром разорено.
Бежит Богиня мира, слепая и позолоченная, мерцает в воде.
Фонтан на площади высох.
В банки, посольства и министерства свободный вход.
Мертвые голуби в сточных канавах, мертвые чайки вдоль набережных.
Люди.
А где же люди?
КУСТАРНИК
Кустарник туманом окутывал дом, где все уснули.
Лица покоились как улыбки на белых подушках.
Кустарник разросся в свод, как от гула небо качнулось.
Кто-то свистнул?
Собака проснулась, но и хвостом не шевельнула, голову вытянула меж лап, глухо вздохнула.
Дверь отлетела, годы скрипели.
Спящие не очнулись.
Им снились парящие их жилища в снегу зимних улиц.
Это явью было и сказкой, за сказкой где-то, где начало всегда светло, а конец без просвета.
КАК ОГОНЬ
Не поворачивайся с презрением
и безразличием
спиною к камню,
или к песку,
или к застывшей лаве:
деревья и травы перегорают, вода испаряется,
человек отпечатывается в пространстве как тень на скале.
Камень,
песок,
застывшую лаву
можно кинуть в вечность далекую как огонь.
ПОРТРЕТ
В карманах позванивают монетки,
ночь холодна и знобяща, как запоздалый май
с желтыми клейкими листьями, только что
распустившимися, похожими на осенние под лампой настенной в углу. Разницы никакой меж годами и чудесами.
Разницы никакой меж глубинами и облаками, только малое повышение уровня материка: и все же ты тяжелее и старше, не можешь подняться, чтобы гримасой одновременно не сморщить лица.
Вода из-под крана горька, но, поскольку нет лучшей, ты ею утоляешь ночную жажду.
С внутренней стороны
монетки позванивают за подкладкой. Кто-нибудь
застонал?
Нет, холодильник. И вот тогда — как отражение
в зеркале—
в черном окне, при трепещущем свете мглы, раскидывает незнакомец руки и застывает в танце?
Тот, кого ищешь,— нет его нигде.
ТАК ВОТ С ПЬЕСАМИ
Так вот с пьесами: песни—лишь извинения.
Так с конгрессами и конференциями — тишина. Кто-то в себе изучил кого-то до смерти и толкается в очереди в загробную жизнь.
Так с игрой, ролями и жизнью — пути окольные.
Этот камень молнией в небе сверкнул ночном или птицей мелькнул, покуда не попал в тебя, был весомым. Запечатлей же в себе толчки, это вечное колотье, и назови словами, чтоб глаза не мозолили — это ведь твой приют. Так терпеть и учиться, тонуть и учиться плавать в море жизни, над темным дном.
милость
Я не стучался к тем, кто сидел по домам.
Я пошел к неуверенным и одиноким.
Эта милость восходит дымом из-под руин!
Все источники и ручьи давно пересохли!
Я мечтал о крыльях для тех, кто сломился, чтобы горький размякший хлеб стал снова свежим. Небо весеннее приподнимало дворы как посильную милость для обреченных.