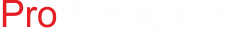ЧАСТЬ III. ЭПИЛОГ
23. Вернер и фон Адлер
Теплый и темный августовский вечер. Большинство дачников уже разъехались из Нювика.
— Как ласточки,—говорит фон Адлер, раскуривает трубку и не спеша гасит спичку. Дым едва заметными кольцами плывет через перила, а доктор глядит на тихую бухту и редкие газовые фонари. Темные облачка замерли в густеющей синеве неба, утка прокладывает зыбкую дорожку по серо-серебряной воде. Мельтешат в сумерках ласточки.
— «Нет ни уголка, ни выступа стены, где б эта птица не прилепила зыбкую постель. Я замечал, что где они плодятся, там воздух чист» ,—декламирует Вернер Фрид.
С минуту оба молчат.
— «Ромео и Джульетта»?—гадает фон Адлер.
— Куда кровавее: «Макбет».
Оба думают об одном и том же, о событиях недавнего прошлого. Фон Адлеру видится пароход «Онни», медленно отходящий от пристани теплым, пасмурным июльским днем, и две темные фигуры на корме—Сесилия и Луиза. «Приезжайте к нам в Стокгольм, дорогой друг»,—сказала она, сжимая его руки.
Но оба знали, что разлучаются навсегда. Он просто помог ей, однажды,— вот и все.
— Не выжидай я так долго в тот раз, в саду Редингов...— задумчиво говорит Вернер.
— Чего бы ты добился? Вся семья стала бы жертвой скандала, невинные настрадались бы еще больше...
Вернер хочет ответить, но молчит. Смотрит на друга: как же он бледен. Печаль сдавливает сердце. Он поднимает рюмку с янтарной жидкостью, бросает в окно веранды взгляд на шхеры и говорит:
— Почва явно оплывает, и скоро наш век неумолимо сползет в грязную яму будущего, сползет со всей своей бутафорией, с декорациями, кулисами, условностями, затхлыми спальнями и тайными преступлениями. Как ты думаешь, что запомнится людям о нашем времени? О нашем патетическом, фальшивом, пропахшем водкой, странном времени? Деспотизм и рабство, ненависть, рожденная голодом, нуждой и отчаянием... А главное, страх. Страх Рединга. И страх Анны, Страх всех и каждого.
Вернер думает о сыне: Пер стал такой серьезный. Когда уезжала Луиза, стоял молча, едва рукой махну Фон Адлер вспоминает лицо консула, закрывает глаз веки болезненно дергаются.
— А что за отчаяние снедало нашего Кассия? спрашивает он.
В стеклах его очков отблеск заката.
Вернер пристально разглядывает свою рюмку, пот говорит:
— Быть может, отсутствие любви. Еще в детстве е обделили любовью, а в итоге он и сам оказался способен любить, хотя под конец, мне кажется, испытал нежность и пусть запоздало, но понял...
Фон Адлер отворачивается, смотрит на шхеры, молчат.
— Быть может,—добавляет Вернер,—мало-помалу завладело одно-единственное ощущение—ощущение полнейшего душевного разлада, безмерное отчаяние, замаскированное под целеустремленность...
— Ты хороший диагност, Вернер. Мог бы мне пособить, когда я теряюсь. Или продолжить, когда меня н станет.
Вернер хочет что-то сказать, но фон Адлер жестом останавливает его.
— Нет, Вернер, не надо ничего говорить. Я спокоен, я живу спокойно, и делаю что могу. В бога я не верю, а стало быть, не верю и в то, что некий бог может предать меня анафеме. Я верю только в работу. Звучит прозаически, так ведь я и есть прозаик. Не оптимист и н пессимист, когда как: утром оптимист, вечером пессимист или наоборот. На человечество в целом я смотрю пессимистически, на отдельных индивидов—оптимистически, вопреки всему. Да, вопреки всему, потому что наше настоящее исполнено страданий, страхов, насилия и апатии. Привидения и ведьмы — только плоды фантазии, а вот привычка и обыденщина нас убивают. Попав в западню, человек стремится на волю. Оружие одного—любовь, другого—убийство. Человек не может быть добр или зол, он и добр, и зол, и обстоятельства, благие либо враждебные, толкают его то туда, то сюда.
— Можно и побороться,— вставляет Вернер.
— Да. В этом смысл нашей жизни. Надо действовать, а не теоретизировать. Наши противники вопят о человеческой ценности, в виду же имеют человеческие жертвы. Нас они с издевкой именуют либералами... я видел тех, кому от них досталось, и пытался вернуть их к человеческой жизни. И я горжусь, наперекор всему ничтожному и благодарному в моей работе. И думаю, это наша общая гордость, Вернер. Я знаю, когда меня не станет, ты будешь горевать, сдержанно, зато искренне. Ты поймешь, но значит жить и чувствовать, и это твое право, как и наше. Когда я навестил Эжена в больнице в Гельсингфорсе, одна его фраза врезалась мне в память: «Меня, зрячего, держат под замком, а слепцы гуляют на свободе».
— По моей вине. Ведь это я довел его до болезни,— говорит Вернер.— Забыть не могу.
— Он бы так или иначе попал туда.
— Ты думаешь?
— Слепцы гуляют на свободе...— медленно повторяет Бернер-—Как странно. Как ужасно.
Солнце село, мягкий ветерок шевелит листву деревьев.
— И все же,— тихо, как бы себе самому, говорит фон Адлер,— все же мне кой-чего недостает... кой-чего, что есть у тебя, Вернер. Увлеченности, горячих чувств, страстного взгляда на мир. Этого у меня нет. Я верю фактам. А ты... ты смотришь глубже, под них. Я решительно склонен думать, что нювикскнй полицмейстер— маг и чародей.
— Думай что угодно, дружище. Моя вера наивна и проста, как вера в бога. Когда-нибудь придет день — и свершится правосудие. Я вот думаю об Акселе... он — малая частица того, что все мы скрываем, недуг, бремя которого целая эпоха несет так же, как горбун несет свой горб... Стоп, что-то я расфилософствовался. А ведь мы живем и проверяем себя поступками. А еще памятью и мечтами... потому что это тоже поступки, движения души. Мне помнится серебряная дорожка за парой лебедей, что плыли здесь в июне, в тот вечер, когда мы с Мандой шли с праздника... В воспоминании как бы переживаешь все заново, как бы расставляешь вехи- поступки... Для Акселя такой вот вехой была обмолвка, которой он не мог избежать...
Церковные часы отбивают свои серебристые удары. Из ресторана по ту сторону бухты тихонько доносится «Баркарола» из «Сказок Гофмана» .
— Впервые,— говорит фон Адлер,— я встретил Сесилию Рединг в Венеции. Строго говоря, это был единственный раз. Когда она после смерти первого мужа осталась одна, я уже был болен и знал об этом. История с Франсом, скорей всего, тоже от одиночества и отчаяния.—И он с улыбкой добавляет: — А я, Вернер, вроде как день, когда сумерки бледнеют на закате.
Он не договаривает. Оба знают, чувствуют, что о хотел сказать.
— Странная штука—жизнь,—помолчав, говорит фон Адлер.— Мы исчезаем, как сухая осенняя листва, а слова живут. Что останется от нашей жизни? Через сто лет эта бухта, возможно, несколько изменится, но не слишком, и двое друзей будут вот так же сидеть тут, на стеклянной веранде, и вести задушевный разговор, и деревья будут вот так же шуметь, и волны будут биться о берег, и какой-то оркестр в ресторане будет играть «Баркаролу» из «Сказок Гофмана»... А на кладбище будет тишина.
— Да. Благословенная тишина.
— А что останется от этого года, года тревоги нашей?
— Может быть, отблеск рассвета, какое-нибудь «Я обвиняю».
— И, отягощенный обвинением, наш век вступил в свой последний год. И поделом ему... Я что-то замерз. В воздухе уже веет осенью. Вот пройдет большой осенний убой, а там Нювик может опять погрузиться в ожидание... Все станет холодным, голым и ясным, и людям придется посмотреть правде в глаза. А это всегда утешение, хоть иной раз и плохое. Но у тебя-то утешение есть. Так что радуйся.
— Я и радуюсь,— отзывается Вернер. При мысли о жене на сердце теплеет.— Манда приготовила маленький ужин. Пойдем и давай-ка забудем о лете. К тому же нынче у нас еще один гость.
— Кто же?
— Франс.
— Он вернулся? Значит, бросил...
Но Вернер качает головой.
— Нет, это она. Видно, пробилась на волю. И Франс приехал, чтобы остаться. Городу, как он говорит, необходим художник, который поддержит его и поможет перебраться через порог нового столетия, в новое, чудесное время.
Расплатившись, они встают и выходят на улицу, шагают мимо безмолвной гавани, где у причалов еще стоят одинокие парусники, меряя темными мачтами расстояния от звезды до звезды. А звезды обсыпают быстро темнеющее небо холодными, еле заметными огоньками. Вернер и фон Адлер поворачиваются спиной к полоске под черной каймою туч. Луна—точно бляшка над темной опушкой леса за шхерами. Дома и переулки молчат. Поравнявшись с домом Рединга, оба на миг останавливаются. Мертвые окна глядят на них. Но вот из тишины долетает мягкий баритон, это поет Франс, слов не разобрать, мелодия печальна и вместе с тем полна у тешения и надежды. Когда они сворачивают в темную калитку, песня становится громче, из окна кухни струится уютный свет. Там хлопочет Манда, Пер сидит с книгой, а Франс поет, подыгрывая себе на гитаре.
Вернер кладет руку на плечо фон Адлера. До чего же щуплое и родное, думает он. И бок о бок друзья входят в тепло и уют.