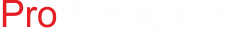ЧАСТЬ II
12. Аксель
Поезд трогается с тяжелым стоном, вагоны скрежещут и трясутся. Туча мельчайшей пыли летит мимо окон к некрасивому деревянному зданию — Нювикскому вокзалу.
Плюшевые диваны в единственном вагоне первого класса опрысканы розовой водой, и все-таки чувствуется слабый запах газа и мочи. Как в уборной шикарного борделя, думает он. Проветривает. Смутное воспоминание всплывает на поверхность, чтобы вновь кануть в пучину. Он усмехается, одергивает жилет и пиджак, щелчком смахивает пушинку с подбитых ватой плеч. Душно, но его это не беспокоит.
Медленно отодвигаются назад дровяные склады, лачуги, серые от непогоды домишки пригорода. Над зеленью деревьев маячит церковь, потом исчезает — поезд делает поворот, и на передний план выступает Гора, серолиловая, с бедняцкими халупами, льнущими к ее склону, как дети к матери.
Город — это всего-навсего беспорядочное скопление улиц и домов, где из года в год осенью забивают скотину; кругом пышно цветет июнь, ему же в лицо ударяет запах крови, как только за окном появляются и в тряске бегут мимо загоны для скота. К осени они наполнятся жалобным мычанием, а у торговца Петрена начнут тем временем вострить топоры да ножи. Петрен и сам похож на свои жертвы: глазки у него маленькие и злые, лицо бледное, обрюзгшее, ходит медленно, вперевалку, не человек, а пародия какая-то.
Коровы, телки чуют свой конец... Консул закрывает глаза, уголки губ опускаются. Он вспоминает.
Собственно говоря, жить бы следовало только самым красивым, самым благородным, самым выдающимся, думает он, постукивая пальцами по колену и глядя, как медленно, словно пластинки веера, плывут мимо поля и перелески. От чувственного надо подняться ввысь, в мир идей. От путаной, беспорядочной, жалкой повседневности— в мир совершенного знания и красоты. Смотреть и восторгаться. Прекрасное—да, конечно: освобожденное от скверны и грязи, от грубости низших классов и тупого политизирования власть имущих. Невежество, жажда власти, недостойная заговорщическая деятельность — ему это омерзительно.
Его будто незрячий взгляд устремлен на пыльный извилистый большак, что ведет в Або и некоторое время тянется параллельно железнодорожным путям, а после сворачивает в лес. Редкие повозки, овечьи стада, женщины в длинных коричневых юбках, иной раз подоткнутых так, что видны белые ноги, мужчины в черных костюмах ; и широкополых шляпах, в грубошерстных штанах, заправ-ленных в сапоги, голоногие ребятишки в картузах и рваных рубашонках — они, как муравьи, повсюду и везде. Шум, крик, убожество.
Он осторожно приглаживает редкие волосы. А проти-воположность всяческому шуму и крику? Что это— молчание, раболепие, угодничество, фарс, разыгрываемый в сенате? Перешептывания, «конфиденциальные» беседы; которые зачастую подслушиваются и передаются дальше? Это он знает и помнит, по Гельсингфорсу.
Он тогда ушел, противно стало.
Теперь сенат обнародовал февральский манифест , и на глазах у консула по стране прокатилась волна ненависти и патриотизма. Сам он хладнокровен и не в состоянии по-настоящему ощутить ни ненависти, ни энтузиазма. Бесстрастный расчет — вот что необходимо. Это, и только это, можно противопоставить грядущим страданиям, жертвам, потокам крови.
Он чует запах смерти, запах тлена, ощущает горький привкус во рту.
Главное—видеть вещи такими, каковы они есть. Он закрывает глаза, легонько покачивается в такт ходу поезда, видит перед собой лицо Сесилии, оно совсем близко, такое теплое, нежность заливает сердце, он тянется к жене, хочет поцеловать, но ее лицо меняется, кривится, тает... маленькие черные глазки на напудренной физиономии, кроваво-красный провал рта, желтые зубы, оскаленные в усмешке... и вновь черты становятся тоньше, определеннее, и в конце концов он глядит в лицо Луизы.
Какая боль — что эго, сердце? — он невольно прижимает руку к груди. Ощупью отыскивает фляжку с коньяком, отвинчивает крышку-стаканчик, пьет, а глазами следит, как покачивается пустая багажная сетка. Он один в вагоне. Мягкое тепло растекается по телу. Дорога бежит теперь среди густого темного ельника, и он видит свое отражение в окне.
Скорей бы уж зима, думает он. Городская квартира; размеренная, упорядоченная жизнь, холод—как вызов на битву.
Если б те, кто нынче, подобно попугаям, пищит под огненную музыку некоего Сибелиуса песню алчущих крови, по-мальчишечьи дерзких рюдберговских афинян, взяли у зимнего дня хоть половину холода, кровавые жертвы принесла бы в будущем вражеская сторона. А нынче... нынче этот век торопится сойти в общую могилу.
Что бы этим крикунам, заговорщикам, идеалистам, романтикам, слабоумным от старости попутчикам и молодым горячим головам, подстрекателям, безумцам от искусства и мечтателям поскорее рухнуть туда, думает он. Могила их заросла бы травой, цветами, источала бы ароматы, пестрела красками...
Он делает еще глоток. Мысли переключаются на Франса Альмгрена. На Франса и его представления о любви! Любовь—это вне пределов чувственного, вне эмоций, беспрестанно смущающих душу. И все же он понимает Франса. Понимает его жажду света. Ведь у обоих одна любовь—красота.
Потом аккуратно завинчивает крышку, прячет фляжку в кожаный футляр, а футляр—в специальное отделение саквояжа. Еще осталась рюмочка-другая на сон грядущий. Поезд замедляет ход, вот уже потянулся, сбегая к реке, бесконечный лабиринт деревянных хибарок, вот вагоны с грохотом промчались по мосту, мелькнул собор, и опять—лачуги, повозки, женщины возле уличных колонок, серо-черные и коричневые фигуры, закутанные с ног до головы. Щека непроизвольно дергается, он подносит руку к лицу, крепко прижимает кончики пальцев к вискам—жгучая боль пронзает мозг и вдруг исчезает.
Консул прокладывает себе путь в вокзальной толчее; царские солдаты толпятся на площади в пыльном солнечном свете, по булыжнику грохочут тяжелые, обитые железом колеса экипажей, дребезжит подъезжающая конка, но он решает пройтись пешком, прогуляться. Собственно, его время настанет только вечером, когда в июньских сумерках вспыхнут газовые фонари и женщины начнут медленно прохаживаться по Эриксгатан, вокруг площади и у реки.
Сейчас ему предстоит лишь повидаться с несколькими! деловыми знакомыми, договориться о страховке за смолокуренный склад и о ссуде, а позже—вечеринка у «асессорши» Мартинёль, женские тела, музыка, хрусталь, беседа—как колдовство. При мысли об этом он оживает, чувствует себя свободным.
Лучше пройтись не спеша мимо развалюшек к музею искусств. Здесь, на холмах, кипит стройка, поднимаются каменные дома. На один из них он имеет виды. Если с обязательствами все уладится, половинчатые обещания сразу обретут четкость.
Он и сам вполне сведущ в том, как подмазать нужные колесики. Только делает он это без подобострастия. Помощь оказывает.
На лестнице музея он останавливается и глядит на город. Небольшой по сравнению с Петербургом или Стокгольмом, но достаточно крупный, чтобы ему здесь хоть как-то нравилось. А до чего же хочется окунуться с головой в суету Копенгагена, закружиться в вихрях Парижа, осуществить свои мечты...
Внизу, у речного берега, высится целый лес мачт, на площади с раннего утра идет бойкая торговля. Вереницы лошадей, многие из окрестностей Нювика. Нювик— ничтожный, крохотный городишко! Ему там едва хватает воздуха. Ощущение такое, будто этот уродец вот сию минуту повис у него на спине; впервые за весь день консул замечает, что вспотел. Снимает котелок и платком промокает лоб. Поворачивается, входит в музей. Внутри прохладно, пусто. В одном из залов консул садится на стул; по стенам — картины. В сущности, они ему не интересны. Певцы света—их совсем немного. Тьма, тени, обнаженная натура—это он разглядывает пристальнее. Безжизненные холсты.
Но в другом зале ему попадается на глаза картина, которая притягивает его к себе: «Вызволение Сампо» Галлёна . Перед ним жестокая битва, битва добра со злом, искусства со смертью, он разглядывает пышущие ядом черты Лоухи, разящий меч Вяйнямёйнена, от картины веет холодом и мощью — именно так нужно вырубить все низменное, вышвырнуть за борт всю грязь. Чистой, ясной, вдохновенной — вот какой должна быть жизнь. Если б у него достало сил.
Сейчас ему необходим глоток спиртного. Быстро спустившись с холма, он сворачивает направо и входит в гостиницу «Феникс». Еще рано, по-летнему безлюдно, маркизы опущены, площадь как пятно света, а большой столовый зал гостиницы с ослепительно белыми скатертями погружен в сумрак. Пол застлан красными коврами, пахнет застоявшимся теплом, чадом. Ему хорошо здесь.
Официант подбегает—похоже, дела у хозяев «Феникса» идут скверно. Надо будет выяснить. Он заказывает молодой картофель и чтобы побольше укропа, блюдо дорогое, но стоит того. Прикрытый салфеткой, дымящийся, пахнущий укропом картофель, а к нему сельдь в горчичном соусе и ледяная водка. Пенсне приходится снять, он ест почти вслепую, пот выступает на висках, взгляд туманится, мысли уютно дремлют, а глаза следят за официанткой, которая обслуживает посетителей несколькими столиками дальше,— как она выпрямляет стан, бедра, ноги.
Он едва замечает упавшую на столик тень, это градоначальник Лехто из Нювика. Делать нечего, надо встать и жестом пригласить его к столу. И вот уже совсем рядом рябое краснощекое лицо, ершистая рыжая шевелюра, кустистые брови и вся шумливая фигура нювикского заправилы. Консул пробует отодвинуть свой стул немного назад.
— А где же фру консульша?—любопытствует градо-начальник, властным тоном распорядившись о напитках и холодных закусках для себя.
— Прихворнула слегка,—отвечает Рединг.— К тому же мои дела вряд ли ее интересуют.
— Вот как? Однако для многих они далеко не безын-тересны,— гудит градоначальник, лукаво глядя на него. И продолжает в своей грубоватой манере: — Говорят, у тебя затруднения, и начались они еще до пожара.
Слово «до» он подчеркивает.
Консул смотрит на Лехто в упор, но холодный его взгляд не производит ни малейшего впечатления. И то сказать, выскочка, спекулянт, деляга, вылез на банкротстве других и сумел угодить и нашим и вашим — и русским властям, и финским. Кстати, и в Петербурге большие связи завел. Нельзя ли ими воспользоваться?
— Мои затруднения невелики, их можно мигом устранить,— говорит консул.— Если хочешь знать.
— Возможно,—соглашается Лехто.—Но пока не уста-новлены причины пожара, страховку ты вряд ли получишь. Это ведь поджог.
Тут градоначальник вспоминает про бумаги, с которыми—черт бы их побрал!—ему помог консул. Надо быть поосторожнее, и он примирительно замечает:
— Да стоит ли вспоминать о неприятностях в такой чудесный летний день. Давай потолкуем... ну, скажем, об искусстве и культуре. Тебе ведь это по душе, а?
Лехто и сам не знает, как набрел на эту тему, на вынужден продолжать:
— По слухам, твоя красавица жена не меньше тебя интересуется искусством... Франс Альмгрен...
— Франс Альмгрен пишет портрет моей жены, да-да, по моему заказу. Композиции его гроша ломаного не стоят, но портреты он писать умеет. Надо бы ему написать и твой. Ты... необычайно живописен. Волосы, глаза, рот, бакенбарды! Загляденье, да и только!
Во взгляде градоначальника сквозит неуверенность, глаза бегают, он поспешно опрокидывает рюмку водки, таращится, как рыба, чихает, сморкается в не вполне чистый носовой платок, потом говорит:
— О-о, фру консулына куда более интересный объект для Франса, чем моя скромная персона! Ха-ха! — И, ловко совершив разворот по ветру, торопится лечь на другой курс: — Ну а что ты думаешь об убийствах и пожарах в нашем городе? Мы становимся популярны, Аксель. Город, я имею в виду. Я пытался поговорить с Вернером, но он будто спит на ходу. Сказать по правде, уж и не знаю, каков он есть на самом деле. Надо бы убрать его.
— Каков он есть? Благонадежный, типичный благона-дежный патриот, разве нет?—В голосе Рединга звучит издевка, ненависть вдруг прорывается наружу: — Честный и усердный, как за своего царя, так и против...
— Значит, по-твоему... по-твоему, он ведет двойную игру?..
Слюна течет из уродливой пасти градоначальника, глаза — консулу видно—слегка налиты кровью. Весьма скоро его хватит удар, и тогда, пожалуй, можно бы выставить... А ну-ка подольем маслица в огонь, раз уж мои дела плохи, думает консул и коварно продолжает:
— Что до меня, то мне ничего не известно. Собирать сведения—твоя задача. Но разговоры я, конечно, кой- какие слыхал, в довольно высоких сферах. Ты все же остерегайся. Он хитрее, чем ты думаешь. Хоть и спит на ходу, но глядит в оба, а сны у него, возможно, куда опаснее, чем тебе кажется. Так что мысль убрать его, наверно, не столь уж и глупа. Если ты его осилишь.
— Черт побери, я да не осилю?! — Голос Лехто невня-тен; с полным ртом говоришь, ах ты свинья, думает
консул. За удовольствиями гоняешься? Так на вот тебе:
— Во всяком случае, он делает все, чтобы происшествия в городе, сами по себе не очень значительные, обрели... как бы это выразиться... некие ложные, таинственные, гипертрофированные размеры. Его манера молчать, шпионить и беседовать с глазу на глаз способствует возникновению слухов и только накаляет атмосферу.
— Ты полагаешь, что он сознательно провоцирует...
— Дорогой Рейно, ты ловкий делец, но в изощренных лабиринтах человеческого духа ты теряешься. Поверь: люди ведут двойную игру весьма и весьма хитро... А сейчас я расплачусь и уйду, и, надеюсь, все, что я сказал, останется между нами, как и прочие дела.
Лехто жмурится, склоняет голову чуть набок, выглядит это до крайности забавно, консул невольно растягивает рот в улыбке. Но глаза градоначальника холодны.
— Разумеется. Можешь на меня положиться.
Они обмениваются рукопожатием, у консула рука худая и твердая, у Лехто—мягкая и влажная. На пути к выходу Рединг ощущает мимолетную неловкость, сглатывает ком, подступивший к горлу при воспоминании об инсинуациях градоначальника, но берет себя в руки, одергивает жилет, крепче сжимает трость. Он выходит в город, направляясь к площади и к реке. Времени еще сколько угодно, он медленно шагает по улице, изредка отвечая на приветствия, теряется в толпе.
Но позже, в сумерки, когда блестящая речная гладь, как зеркало, отражает невысокие белые дома, когда слышится женский смех, он встает с постели в безмолвной спальне городской квартиры; все предметы вокруг до странности нереальны, зеркало в передней рисует лишь загадочный образ-шифр — узкое лицо, волосы, кто-то глядит на него, испытующе, холодно. Да, он холодно смотрит на себя самого, потом уходит прочь, плывет по течению, все—голоса, запахи, само одиночество,— все ведет его ближе и ближе к салону «асессорши» Мартине ль. Разве сердце не бьется быстрее, разве не становится ему все трудней сосредоточиться на том, чтобы только лишь смотреть и слушать? Мелькают обрывки грез, проносятся мимо, как осколки льдин, и вот он уже шагает тверже обычного, сворачивает в знакомые ворота, своим ключом отпирает дверь, его приветствуют, и он погружается в мягкое тепло, в забвение. Лампы под розовыми абажурами, белотелые девицы в розовых платьях, вправду оскверненные и все же такие соблазнительные, порочные, запятнанные и вместе с тем чистые,— его влечет к ним. Смех клубится вокруг золотой пылью. Консул и здесь, и в то же время не здесь.
Позднее... имя ее ему неведомо... позднее он срывает с нее одежду, замечает, что она притворяется, видит ее глаза, они не умеют лгать, они говорят о страхе, дарят ему наслаждение, беспамятство, забвение.
Среди ночи он вдруг просыпается, сна как не бывало. Ему слышится странный звук: будто вдруг что-то сломалось—брус, дверной косяк. Неизъяснимый ужас охватывает его, он тянется рукой к жене. Тоска так сильна—до боли в пальцах. Он приподнимается на локте, хочет погладить лежащую рядом безвольную руку.
И тут приходит в себя. Тихо, почти не дыша, опускается на подушку. Лавина одиночества едва не погребла его под собою, и никого не позовешь на помощь...
13. Вернер
Он идет по кладбищу. Здесь всегда прохладно, тихо, глубокие тени вокруг. Галки снуют то на колокольню, то с колокольни, он привык к насмешливо-бодрым крикам птиц и едва их слышит. Старинные надгробия с замысловатыми надписями, читаными-перечитаными. Ближе к бухте, за церковью, ляжет и он, рядом с женою. Так он полагает. Если, конечно, его отсюда не переведут или он не снимется с места сам.
Или не женится вторично.
Одиночество мучает его сильнее чем когда-либо. Вернер кладет на могилу Эльсы букет из маргариток и васильков, с минуту стоит в задумчивости.
Все мое время, думает он, отдано умершим.
Анне, старику Блому, Эльсе...
Какая странная коллекция! И все-таки одно у них общее: они мертвы.
Он поворачивается и идет прочь.
Понятно, старик мог поскользнуться и упасть, удариться затылком. Он верит самым естественным объяснениям, упрямо держится за очевидное до тех пор, пока факты не доказывают, что это ошибка.
Однако с необъяснимым Вернер тоже сталкивался и смотрит на него уважительно.
Опять фон Адлеру работенка, думает он. Погрубее, да и почета меньше—то ли дело пользовать в Водолечебнице анемичных барышень и тучных стариков, врачевать грязевыми и водными ваннами, пароструйным душем и массажем аристократическую истерию и чахотку, легкие нервные расстройства и громадное себялюбие. Надо признать, фон Адлер никогда не жаловался. Как и самого Вернера, его не удивляют ни болезни, ни смерть в любом их обличье, он спокойно встречает сюрпризы жизни и всеми силами старается помочь и утешить.
Вернер всегда относился к доктору с большим уважением, и оба они хорошо понимали друг друга. Без лишних слов. Могли молча посидеть вдвоем, чувствуя усталость и сознавая, что сделано все возможное. Но вчера... вчера фон Адлер, казалось, был на себя не похож, затравленный какой-то, словно ему невмоготу. А теперь вот еще и старик.
Из прозекторской фон Адлер вышел с отсутствующим видом, что-то пробормотал: дескать, само время движется к распаду, и скоро он станет слишком стар, чтобы...
Н-да, Вернеру это тоже знакомо. Потаенное... а ведь мертвецы—всего-навсего внешние его проявления... как и разбитые окна, о которых уже начал шушукаться Нювик. Те, кто с ним раскланивается, делают это, пожалуй, торопливее и сдержаннее, чем раньше. Словно о чем-то знают или к чему-то причастны, к какому-то злодеянию, и сгорают от стыда... И в результате рождается страх.
Будто теперь и без этого мало насилия и жестокости.
Все взаимосвязано, размышляет он. Страхи провинциального городка и страх огромный, всеобъемлющий, утеснения и жажда свободы, бытовые синяки и более чувствительные тычки, идущие сверху.
Его дело—слушать, себе на пользу. Если б мог, он бы пустился за мальчишками, которые, как пух одуванчика, летают по пристани и по переулкам, кричат, шепчутся,—да вот беда, телесная оболочка мешает, и на подъем стал тяжел с годами, и подурнел, черт побери; он останавливается, проводит ладонью по волосам, думает: в таком случае будем зарабатывать на жизнь мозгами. Когда надо, они у меня быстро шевелятся. Самое главное — не доверять самоочевидной бе змятежности, быть постоянно начеку. Не слишком доверять, поддерживать в себе здоровую подозрительность, но не ожесточаться.
Сколько уж мерзостей видел, сколько пережил — отчего не пережить и это. Если чья-то слепая злоба плетет паучьи сети беды, выясни, почему да как, а после — кто. Нет такой идиллии, которая не может рассыпаться в прах, нет такой мирной беседы, которая не может закончиться криком и безмолвием.
Надо запастись терпением. Только бы сон по ночам был лучше.
Мимо киоска с безалкогольными напитками и водопроводной колонки он спускается к пристани, проходит через маленький Водолечебный парк, поднимается в гору, на Хенриксгатан. И, уже намереваясь свернуть к себе, сталкивается с Эженом; юноша бледен, глаза запали.
Вернер хватает его за плечи:
— Стоп! Не спеши. Давненько я тебя не видел. Ты был у Пера?
— Его нет,—бормочет Эжен. Светлые волосы его растрепаны, рот перекошен — право же, вид у него перепуганный.
Вернер тащит Эжена в дом.
— Пер наверняка скоро будет, заходи, подождешь у него в комнате, я могу пока составить тебе компанию.— Голос Вернера мягок, доброжелателен.
Эжен идет за ним как во сне, послушно садится на стул в углу, молчит, но он и всегда-то был неразговорчив.
— Папа небось поехал в город,— продолжает Вернер,— я, кажется, видел его на вокзале, но к балу-то он, верно, приедет?
Эжен смотрит себе на руки, говорит упавшим голосом, не поднимая глаз:
— Не знаю. Наверно. А что?
— Так ведь он — один из столпов местного общества, разве можно представить себе летний бал без него?
— А может, крысы покидают тонущий корабль?
Эжен явно горячится, к удивлению Вернера. Вновь
этот знакомый страх... Какова же его причина?
— О чем ты? — спрашивает он.—По-твоему, город тонет?
— В песке. Медленно погружается в песок. Смердит. И не только у пристани. Везде — на Горе, на улицах, в комнатах,— везде смердит! И не одной только тухлой рыбой.
— Возможно.
— С-с-смердит покойниками! Покойниками!
— Ты имеешь в виду Анну Перс?..
— Всех, всех, всех я имею в виду! — Он вскакивает, кричит Вернеру в лицо: — А Анна Перс была ш-шлюха! Так ей и надо!
— Ну-ка сядь и успокойся,— резко и сурово бросает Вернер.— Вот тебе носовой платок. А теперь рассказывай.
Эжен вдруг начинает июль и падает на стул, йотом поднимает голову — дверь отворяется, на пороге стоит Hep. Смотрит на них.
— Что здесь происходит? Допрос?
— Эжен вообразил, что город тонет в песке,— отвечает Вернер,— что здесь полно покойников. И в общем-то, он, пожалуй, прав. Старик Блом приказал долго жить. Его нашли в прибрежных камнях за дальним причалом—разбил затылок.
— Знаю.
— Откуда?
— Вся пристань знает. И про окна тоже. И про Анну Перс. Говорят, сам нечистый, сам сатана вырвался на свободу, а имеют в виду вовсе не черта. Два солдата, полупьяные, тащились за мной до самой калитки. И слава богу, я достаточно знаю русский, чтобы понять: выкрикивали они отнюдь не комплименты. Рискуют сесть в каталажку и получить порку, а им плевать.
— Тоже показательно,— замечает Вернер.
— Крысы,— бормочет Эжен,—крысы.
На миг повисает тишина, с улицы не слышно ни звука.
— Нет,—говорит Вернер, грузно вставая,— ни демоны, ни злые чары, ни дьявол, ни ведьмы, ни духи, в которых вы и прочие обыватели, возможно, верите по простоте душевной, тут ни при чем. Тут действуют самые обыкновенные смутьяны и убийцы, такие же люди, как мы с вами, у них и ноги есть, и носы; и руки, которые могут ударить и задушить, но и утешить,— вот в них я верю. Я, мальчики, верю реальным фактам, таково мое кредо, иного у меня нет, равно как и бога. Факты бывают сколь угодно темные, но они конкретны, в них можно разобраться. Не верьте ни во что другое. Я видел лицо Анны Перс. Вы тоже. И старика Блома видел. А рано или поздно увижу и того, кто бросил камень, и убийцу.
Он смотрит на них.
— Проповедь окончена. Марш отсюда. Между прочим, в Водолечебнице нужна помощь. А с меня покуда
Он уходит в контору; Пер и Эжен остаются вдвоем— бледные лица в зеленом полумраке комнаты.
Вернер садится, глядя на портрет жены. И думает: хорошо мертвым, когда они в самом деле мертвы.
Он поднимается, подходит к окну, отворяет его, а мысли бегут дальше: существует ли она, целостная картина? Что, если никакой такой картины нет?
Внезапно он оживляется. Под окном идет Манда, до чего же красивая у нее походка. Заметив Вернера, она на миг останавливается, с улыбкой поднимает руку.
И Вернер в ответ тоже улыбается, хочет окликнуть ее, но не находит слов. Манда отворачивается и идет дальше, он провожает ее долгим взглядом.
14. Луиза и Эжен
Он стоит на пороге большого обеденного зала, и, увидев его, она зовет:
— Иди помоги мне!
Он не двигается, бледное лицо пятном белеет в сумраке, тонкая фигура странно беззащитна, потеряна.
Серпантин, как петли силков, змеится между хрусталь-ными люстрами, за окнами плывут летние облака, вымпелы реют на свежем ветру. Резные белые перила балконов тянутся вдоль фасада, обращенного к морю, столики и шаткие штабеля венских стульев покуда прислонены к стенам. Всюду деловито снуют женщины в белых платьях, а то мелькнет темная мужская фигура в парадном костюме, в крахмальном воротничке; вносят цветы, как на похоронах. И вот в зале появляется кучка мужчин, они без пиджаков, щеки горят жарким румянцем; в воздухе веет ожиданием, роскошью, деловитостью — мужчины по- военному отдают друг другу какие-то команды и принимаются таскать столы.
Луиза идет вниз по ступенькам; чтобы не упасть, она вынуждена приподнять юбку; поручик Вйрек пронзительно свистит, и девушка заливается краской. Эжена она догоняет в темном вестибюле, где уже теперь пахнет чадом.
— В чем дело? Что-нибудь случилось?
— Б-б-блом! Ты знаешь!
— Что с ним стряслось?
— О-он был в-весь в к-крови! Я в-видел! А Фрид т-т-теперь д-думает, что я...
— Успокойся, идем в парк, там и поговорим.
Как маленький, думает она, такому постоянно нужна защита. Да только у кого достанет времени? Она берет его за локоть и тащит вниз по лестнице к павильону-бювету; он вырывается, но сестра держит крепко, у нее много сил, она сама чувствует, она цепкая, выносливая, как старые пальмы в кадках по бокам лестницы, они были здесь сколько Луиза себя помнит, еще при жизни папы. Отец вспоминается ей как ласковая тень, улыбка, страдальческий взгляд. Она смотрит брату в глаза, Эжен отводит их в сторону. Лицо у него бледное, застывшее, будто от мороза,—и это в середине июня! Смеясь, мимо проходят три молоденькие барышни, придерживая руками белые поля шляп, кричат: «Здравствуй, Луиза! Здравствуй, Эжен!»—и со смехом идут дальше. Невольно она спрашивает:
— У меня что, странный вид?
Эжен не отвечает—ей это не в диковинку,—потом вдруг останавливается.
— В лунном свете лицо у него было совсем черное,— неожиданно говорит он, четко, ясно, спокойно. Луиза пугается.
— Разве ты не мог сказать об этом Вернеру?..
Он качает головой.
— А тебе не приснилось?
Они садятся на белую парковую скамейку, Эжен глядит на свои узкие ладони.
— Нет, не приснилось. Я п-пока в с-своем у-уме.
— Помнишь, ты разбудил нас среди ночи, в первый день рождества, потому что, дескать, увидел консула мертвым...
Она готова откусить себе язык, сама не знает, как это у нее вырвалось, понимает, насколько неудачен пример. Глаза Эжена тускнеют.
— Мне бы хотелось, чтоб на том месте лежал он!
— Не смей так говорить! — Но слова ее звучат беспомощно, неубедительно. В музыкальном павильоне октет в голубых костюмах начинает распаковывать инструменты; Луизе кажется, будто все смотрят на них. Солнце сияет, зелень кругом, а они сидят и говорят о смерти, о смерти, о смерти...
Она бы с радостью убежала, бросив все, спряталась где-нибудь на берегу, легла бы на землю, и пусть мысли плывут, как облака, пусть солнце согревает ее... Беспокойный ветерок приносит из гавани душный запах смоленых бочек и пеньки, высоко в небе машут крыльями галки, борются с ветром, но он сильнее: точно крупные хлопья сажи, птицы летят назад к колокольне, которая поднимается над морем зелени.
Луиза обнимает брата за склоненные плечи, оба легонько покачиваются, словно им и дела нет до окружающего мира, только Луиза невольно закрывает глаза, чтобы от всего отрешиться. Что делать и как быть—она не знает.
— Раз ты не можешь поговорить с Вернером Фридом,— наконец советует она,— поговори с Пером. Мне пора обратно, нужно еще накрыть столы до репетиций,
— Он прикоснулся к тебе!
— Да, поцеловал мне руку, что здесь особенного?!
— Эжен,— говорит Франс,—одумайся и уймись.
— Грязь! Свинство! — Эжен выплевывает эти слова и отворачивается.
— Послушай.—Франс пытается взять его за плечо, но юноша резко отталкивает руку, Франс делает шаг назад, а Эжен почти бегом устремляется прочь. Луиза бледна как полотно.
— Он болен,— тихо говорит она.
— Быть может, ему стоит пойти к врачу...
Луиза опускается на стул, Франс садится рядом, она говорит с ним как с преданным другом, а он будто во сне, будто слышит голос Сесилии...
— Эжен твердит, что сегодня ночью видел старика Блома, и думает, что каким-то образом причастен к его смерти... Говорит, что... что у него кровь на руках...
Она закрывает лицо ладонями. Франс бережно кладет ей на плечо руку, чувствует, как девушка дрожит, как трепещут ее худенькие птичьи лопатки, внезапно перед ним всплывает лицо Анны Перс, ее плечи, ее тело, беззащитное, как у птенца, потом Сесилия, отвернувшаяся к окну,— в порыве жалости он шепчет ее имя:
— Сесилия, Сесилия! Не плачь!
Луиза отшатывается. Поздно, ничего уже не исправить, ничего.
Неожиданно со скрипом распахиваются двери балкона, резкий порыв ветра рвет алые и желтые бумажные гирлянды.
— Простите,— говорит он,— простите меня, Луиза.
Девушка отворачивается, встает и уходит. Франс хочет
догнать ее, но не может. Неудачник, думает он, неудачник. Вот кто я такой. Чего ни коснусь—все идет прахом.
Надо разыскать Сесилию, поговорить с ней, решает он.
Бросив все, он выходит на улицу и вскоре чуть ли не бежит. На углу возле клуба ему встречаются Вернер и фон Адлер, здороваются, он неопределенно машет рукой, спешит дальше. Он сам не знает, что его гонит; они что-то кричат ему вслед, да что толку? От сильного ветра и от страха он их не слышит.
15. Вернер
Физиономия у градоначальника еще краснее и грубее, чем обыкновенно, и видом своим напоминает один из многих его земельных участков. Волосы топорщатся в
разные стороны, телеса с трудом помещаются в сюртуке, но глаза щурятся из-под косматых бровей настороженно и бойко, а голос гремит:
— Этот город все больше донимает разное отребье да земные личности, которые норовят поломать установленный порядок!
— Установленный порядок, говоришь? Кем установленный?
Вернер Фрид не расположен глотать эту пилюлю, он переходит в контрнаступление прямо у стола с закусками, все равно уже спокойно не поешь; благоговейное молчание, каким принято встречать заявления градоначальника, взрывается смехом, шепотом, разноголосым гулом.
И без того известно, что они не в ладах, с тех самых пор, как Вернер однажды явился к Рейно и вынудил его отказаться от продажи под застройку участков на Горе, ведь сделка эта лишила бы многих бедняков последнего достояния. Вернер, говорят, чем-то пригрозил, и операция, в которой был замешан некий весьма знаменитый юрист из Або, расстроилась.
— Чего? —не слишком интеллигентно изрекает градоначальник (противники из тех, что поглупее, таким его и считают—неотесанным мужланом, они не сталкивались с его деловыми талантами).
Передернув плечами, Лехто восстанавливает равновесие, точно большая хищная птица. Бьет веснушчатым кулаком по ладони.
— Кем установленный? Поколениями послушных закону граждан! Всеми, кто стоит на страже закона и порядка...
— Царского закона и порядка! — выкрикивает владелец сапожной мастерской Хювяринен и тотчас перепуганно озирается по сторонам, мечтая удрать отсюда, да поскорей.
Лицо градоначальника наливается кровью, однако он как ни в чем не бывало продолжает:
— Да будет вам известно, господа, что начальник полиции в Або придерживается того же мнения. Мы можем вызвать усиленное подкрепление.
— Чего ради, Рейно? Ради твоего «отребья»? Но в том-то и беда, Рейно, что мы не знаем, где проходит граница между «отребьем» и «послушными закону гражданами», как ты их называешь.
— Слушайте! Слушайте!
Вернер, спокойный, но злой, наклоняется над салатниками.
— Да, вот именно! Здесь, в нашем маленьком городе, сталкивается множество факторов: махровый фанатизм, унаследованный от средневековья, когда жгли на кострах ведьм и кости их швыряли за кладбищенскую ограду, и новехонькая, беспардонная жажда наживы, когда вера в мамону не слабее веры в господа бога... что ж, всегда ведь можно откупиться, пожертвовав церкви подсвечник.
Кто-то громко фыркает, но Вернер быстро продолжает:
— Прислушайся к дрожащим гневным звукам, что доносятся вечерами из приходского дома,—в эти минуты с куда большей страстью, чем всевышнего, заклинают сатану. И вот тебе второй конфликт: с одной стороны, обитатели лачуг на Горе с их ненавистью, голодом, воплями о справедливости, а с другой—богатые щеголи, чавкающие, принимающие ванны, играющие, ведущие закулисные махинации, то есть все, кто торчит в Нювике с июня по сентябрь, а порой всю зиму... Видимая и незримая стороны Луны... Кстати, нынче явно будет полнолуние, как я понимаю. Блеск в бальном зале, а прямо под его стенами — нищета и убожество лачуг...
Все вокруг притихли, потому что никогда раньше от Вернера подобных речей не слыхали, а его словно несет на волне давно сдерживаемой ярости.
— За всем этим, Рейно, прячется затаенная ненависть, а для нее нет почвы благодатнее, чем голод, и унижения, и зрелище летней праздности. Или вот еще конфликт— между рыбаками, которые в ночь-полночь идут проверять сети, и скупщиками да посредниками, которые только и ловят случай, чтобы к ним присосаться, как пиявки. И наконец, ненависть между послушными закону гражданами и теми, кто мечтает о чем-то более великом, свободном...
— Ты что же это говоришь, а?! — Градоначальник почти шепчет, хотя вообще-то шептать не привык.— Хочешь, чтоб тебя от должности отстранили?! Не подчиняешься законам страны!
— Вот именно подчиняюсь. Законам этой страны. Финляндки.
— Ты осмеливаешься...
— Да, осмеливаюсь предостеречь тебя и тебе подобных. В виде исключения. Заметь, в мои обязанности не входит стоять разиня рот и смотреть, как ты вылезаешь тут с чепухой, подобранной тобою же или кем-то из твоих дружков на рыночной площади в Або. Не осложняй ситуацию вызовом солдат, это ничего не решит, только вконец все испортит. В происшедшем виноваты вовсе не «отребья», как ты говоришь. Тут действуют иные силы. Город—это теплица, а в теплице есть и плотоядные растения. И не всегда просто определить, что ядовито, а что нет.
Градоначальник подается назад, откашливается, но ничего толкового сказать не может, и на помощь ему никто не спешит. Он единым духом осушает свою рюмку, в одиночестве, вкус у водки горький. Лехто озирается по сторонам—он запомнит эти замкнутые лица. А Вернер, черт бы его побрал, знай себе продолжает:
— Не думай, что затопчешь сапогами кровавые следы. Пока не получен приказ об отстранении меня от должности—ты ведь так говорил? — за порядок в городе отвечаю я, за наш, финский порядок. А кроме того, господа, поясню: то, что произошло, складывается в определенную картину, и теперь надобно правильно поставить кое-какие вопросы, а не воображать, будто знаешь готовые ответы. Волк, быть может, совсем рядом, только прикидывается овечкой...
— Может, может! Может, это—он?!—бурчит Лехто, потрясая тарелочкой с заливной рыбой.
Вернер резко обрывает смех.
— Да, может! Не принимай ничего на веру загодя! Будь начеку, Рейно! Все мы по проволоке ходим, и падаем, и сталкиваем, наверное, многих. Чем выше башня, тем больше грому, когда она падает, так вроде бы написано в моем учебнике латыни. Давай, стало быть, рассмотрим это заливное повнимательней. В городе у нас сколько угодно пищи для огня, и не только на смолокуренном складе. Тут и старые деревянные халупы, и тюлевые занавески, и юбки—мигом вспыхнут!—и испанский тростник, и керосин—рано или поздно выйдет отличный костер, руку можешь дать на отсечение, Рейно...
Общий смех разряжает обстановку, но Вернер уходит в курительную. Шум усиливается; градоначальника кольцом обступают приверженцы и те, кто надеется получить награду за хорошее поведение. Толпа у стола с закусками редеет, водочный графин почти пуст, и аптекарь Вйднес, как обычно, жаждет, чтоб его поскорей наполнили. На дворе поднимается ветер, по белым скатертям и сверкающим лысинам временами проплывают тени. Среди этой сумятицы голос консула Рединга точно рыба в воде; консул вдруг появляется в зале, хоть и запоздал, но уже в центре внимания.
— Наш век сойдет в могилу явно не без крови. И не без кровопролития. Такова природа вещей. Подъем, прогресс требуют жертв. Чем был бы наш город без запаха рыбы, скажем точнее, без вони! И еще: чтобы приготовить доброе заливное, подчас надобны крепкие специи...
На щеке у консула порез, да какой! Он размахивает вилкой, словно желая отделить нежный запах жасмина от быстро вянущего букета в вазе перед градоначальником. Шум то стихает, то нарастает, все искоса поглядывают в курительную, на Вернера Фрида, рядом с ним стоит фон Адлер, но в основном вокруг толпится мелкая сошка, граждане, добившиеся приема в клуб благодаря собственной энергии и предприимчивости. Этому долго противились, однако же клубные финансы...
Слегка пахнет уксусом от рулета из салаки; кто-то выглядывает наружу и объявляет, что тучи несутся по небу как от погони, тогда и остальные смотрят в окна: действительно, собирается июньская гроза, и, как назло, сегодня! Кто-то чокается с градоначальником, верно из сочувствия, а отчасти из солидарности, даже консул Рединг поднимает рюмку, но на его губах играет легкая язвительная усмешка—презрение бывает разное, консул предпочитает весьма тонкий его вариант.
Вернер Фрид говорит между тем:
— Вот до чего мы сами себя довели—до полного разобщения. Богатые отмежевались от бедных, поместное дворянство—от выскочек, сельское население — от городских ремесленников, деревня и город отрезаны друг от друга, человек отрезан от человека... вместо того, чтобы объединиться, создать общий фронт против...
— Тс-с!—решительно останавливает его фон Адлер.— Ты уже достаточно наговорил, Вернер. А как раз сейчас нет никакого резона забывать об осторожности. Ведь ты ставишь под угрозу не только свое положение, но и безопасность в городе. Нельзя тебе поддаваться на провокацию...
— Господи, на провокацию! — вздыхает Вернер, тогда как старички встречают слова фон Адлера одобрительным гулом.— На провокацию! Насилие, убийство, подспудную чертовщину не всегда можно побороть тайком.
— Верно,— соглашается фон Адлер.— Но иной раз стоит выждать.
— Я устал, в том числе и от ожидания,—тихо говорит Вернер Фрид.— Слишком много закусок, слишком все сыты и слишком слепы. Как ты их терпишь?! — Он кивком показывает на зал и добавляет:—Лечить их выдуманные хвори, окунать их в грязевые ванны, купать в щелочах и кислотах, в солоде, сосновой хвое и бог знает в чем еще, смотреть, как они, жирные и рыхлые или, наоборот, девически худощавые, выходят из облака пара, чтоб окропиться чистыми водами источника... и продолжить потом свои застольные бдения, вкушая закуски и пунш... Как ты их терпишь?
— Тем я зарабатываю себе на хлеб. Пытаясь лечить. Может, заодно и душу какую исцелю...
— Господи, тяжкий же у нас с тобой хлеб: ты продлеваешь людям жизнь, я оберегаю их от смерти. Похоже, нынешним летом ты удачливее меня.
Вернер грузно опускается в одно из глубоких кресел с высокой прямой спинкой, сидеть ему не слишком удобно, он бледен.
— Следовало бы, наверное, рекомендовать тебе больше двигаться на воздухе,— как бы между прочим говорит фон Адлер.—Только в меру, без натужных плясок вокруг покойников, без буйных страстей и аффектов, без необузданных излишеств, без мрачных сновидений, без азартных игр с власть имущими, без гнева, без зависти, без тревог—словом, без всего того, что способно разрушить душевную гармонию. Быть может, самое лучшее — это вести спокойную, размеренную жизнь, любуясь вечерними зорями—да простится мне поэтический образ!—и соблюдать диету, подобранную специально для мечтателей...
Теперь они смеются, Вернеровы друзья, смеются добрым смехом, фон Адлер тоже, но внезапно доктор закашливается, быстро достает белый носовой платок, невольно ищет опору, опускается на диван, на лбу выступает пот; когда он прячет платок, на нем виднеются пятнышки крови. Кто-то спешит к доктору со стаканом воды. Из бильярдной доносится глухой, но отчетливый стук шаров: они сталкиваются друг с другом, катятся в свои лузы, следуя законам математики. Вернер молча наблюдает за другом.
Клуб понемногу пустеет, люди идут домой переодеться к балу. Среди колеблемой ветром зелени за окном библиотеки стоит, словно политый сахарной глазурью, павильон для лечебной гимнастики—новая готика, розовая с белым. Вернер глядит на него и толком не видит, размышляет о фон Адлере, потом смотрит на доктора, догадывается, и даже больше чем догадывается. Фон Адлер блекло улыбается в ответ. Им не нужно слов, не нужно притворства. Выйдя на крыльцо, они сталкиваются с Франсом, который спешит куда-то, будто земля горит у него под ногами
— Вечером увидимся! — кричит Вернер.
Но художник лишь неопределенно машет рукой, слова уносятся прочь, быстро, как облака. Из гавани слышен резкий хлопок, словно вседержитель, грозный и мрачный, бьет ладонью по желтому небу.
19. Нильс
Узкой тропинкой он взбирается на Гору. Резкий ветер раздувает полы потрепанного форменного сюртука. Добравшись доверху, он машинально бросает взгляд на пролив и на море. Пойди он по стопам отца, тоже стал бы рыбаком.
Путь его лежит на теневую сторону — Горы к бытия,— к кучке деревянных хибарок, разбросанных среди чахлого ельника, можжевеловых кустов да редких сосен. Сюда заглядывает раннее колючее солнышко — будильник ничуть не хуже всякого другого в летнюю пору, когда заспанным обитателям Горы пора идти на фабрики, или на поденные работы, или к лодкам.
Ноги шагают, а мысли текут своим чередом: от протокола вскрытия к Вернеру, от Вернера к старику Блому, а от Блома к празднику, на котором ему только предстоит блюсти порядок.
Но сперва надо повидаться с дядей Анны Перс. Нильс руководится советом, много лет назад полученным от Вернера: «Коли у тебя есть путеводная нить, иди за нею один, и как гсжио дальше. Помни: наша работа досуга не оставляет.
А еще нужно смотреть в оба. Все имеет значение. Он схож с ядом чаек: ветер крепчает, поворачивает их вспять,— смотрит ка рваные желтые облачка. Бухта Напоминает цветом глину. Нильс обдумывает, как начать разговор, чтобы вытянуть из Лapcа хоть немного. Может, не начинать вовсе, просто выждать. Вернер и этому учил. Мол, умей ждать и слушать.
Нильсу вспоминается гнетущее безмолвие родительского дома, безмолвие, рожденное суровостью жизни и нищетой. Ему ли не знать свой лачужный город. Родился он, правда, в другом месте, но здесь запах такой же — запах скученности, салаки и селедки, каши и картошки, кислый запах сна и мыла.
Больше всех трут да моют те, кто из последних сил воюет с бедностью. И разговоры в «обществе» обычно вызывают у Нильса неприятное удивление: для этих господ бедность равнозначна грязи. Так тоже бывает, думает он, но только когда всерьез запивают. Или когда мать заболеет и сляжет.
Мысль об этом причиняет боль, будит воспоминания: темная комната, бледное лицо матери, едва слышный голос, одиночество.
Он вырвался оттуда — на свободу.
Обойдя овечий загон—желтая трава вытоптана, пере-пуганные овцы тревожной блеющей кучей сбились в дальнем углу и уставились на него,— Нильс отворяет калитку и направляется к дому, где обитает дядя Анны Перс. Несколько раз стучит в рассохшуюся дверь, усеянную дырками от сучков, и входит в кислый полумрак.
Ларе сидит у маленького оконца, обрубок руки белеет в сумерках. На нем белая рубаха, словно в праздник. Но праздник тут ни при чем, таким манером дядюшка Анны Перс сберегает в себе самоуважение, тем более что он принадлежит к немногим счастливцам, которые имеют собственный угол и живут одни. Говорят, его щедро наградили, когда однажды ночью в шторм он спас от смерти сынишку шкипера, а сам защемил руку между планширом и причалом и получил заражение крови. Еще говорят, будто он промышляет контрабандой. Однако Нильсу сейчас не до этого.
Поздоровавшись, Нильс усаживается напротив Ларса. Оба молчат. Тикают на стене часы, глотают время, словно хотят его уничтожить, взблескивает маятник, будто сигналит кому-то. Диван, где некогда помещались трое детей и где родились и Ларе, и Пер Якоб, и Анна, застлан вязаным покрывалом. На треноге в печи стоит кофейник. Все чисто прибрано, Ларе хозяйничать умеет. Облик его говорит сам за себя: глубоко посаженные ярко-голубые глаза нет-нет да и вспыхнут пронзительным блеском, фигура приземистая, но внушительная, голос густой, зычный. Волосы седые, однако ж пышные. Слышно, как на улице колют дрова—должно быть, это кто-то из женщин, потому что все мужчины и дети сейчас на работе.
Молчание ни Ларсу, ни Нильсу не мешает, они и так понимают друг друга.
— Ты, поди, знаешь, зачем я пришел.— Нильс вытаскивает трубку и кисет, закуривает, протягивает кисет Лapcy. Тот с не меньшей обстоятельностью набивает свою трубку, внимательно разглядывая табак.
— Да не иначе как из-за смерти Анны.
— Ее убили, тебе известно...
По лицу Ларса пробегает болезненная дрожь, он выпрямляется в своей качалке, рука стискивает подлокотник.
— Об этом я знать не знаю. И вот что тебе скажу: она была хорошая девушка! Что бы там люди ни болтали. Порядочная она была и красивая.
Оба молчат, Ларе мало-помалу успокаивается. И тогда Нильс нарушает молчание:
— Сначала Пер Якоб, потом Анна. Случайно ли это?
Ларе посасывает трубку.
— Почем мне знать? Такая уж судьба. Когда мера наша отмерена, мы уходим.— И добавляет: — Пера-то нашего водка уморила, оттого и утонул. Но Анна...— Его светлые глаза смотрят в окно.
— Так как с Анной? Ты не видал ее на этих днях? — спрашивает Нильс.
— Видал. Боязливая она была. Насмешничала и робела, как водится. Только вот пугалась любого звука, а это на нее не похоже. Говорила, мол, чувствует, будто за ней следят, и хотела уехать.
— Куда? В Або?
Ларе качает головой.
— Просто подальше отсюда... Дверь бани хлопнула, а она как вскочит...
В тишине слышно: за стеной беснуется ветер, рвет кусты и траву. Скрипит в стенах, свистит в закопченных печных трубах, поднимает вихри золы в печах — воздух на улице кажется молочно-белым.
— Он был здесь. Мальчонка,— неожиданно говорит Ларе.
— Пер?
— Нет. Консульский мальчонка. Завсегда торчит тут, на Горе, по расщелинам прячется да дрожит, как птенец.
— Эжен?
— Он самый.
— Ну и что?
Ларе погружается в свои мысли, но все же умудряется вынырнуть из этого омута, хотя поначалу глядит на Нильса как слепой; взгляд отрешенный, далекий, а ощущение такое, будто насквозь тебя видит, думает Нильс.
— Тоже боялся,—помолчав, говорит JIapc.— И еще того хуже. Сказал, что пришел-де искупить...
— Смерть Анны?
— Толковал про грехи, про позор и вину, про карающую десницу, путано говорил, ничего не разберешь. Норовил деньги мне всучить. Бедняга.
— Неужто ты думаешь...
— Я ничего не думаю.
— Раз сказал «а», говори уж и «б».
— Не моя это азбука.
— Азбука для всех одна, Ларе.
— А для меня нет.
Оба молчат. Глаза привыкают к темноте. В доме чистота и покой; наверно, и у Анны было так. Наверно, многие это чувствовали.
Нильс встает и, наклонясь к окну, разглядывает упрямые можжевеловые кусты: у них только верхушки и гнутся от ветра.
— Отец сказывал, однажды тоже вот крепкий ветер дул, и вдруг тишь настала. Судно скользило вперед под всеми парусами, а вода была как зеркало. Глядь, что-то блестит среди зыби—дохлая рыбина брюхом кверху. Громадное скопище дохлой рыбы поднялось из глубины. Никто слова не вымолвил. Похолодало, будто сквозь ледяную стену прошли. После этого, сказывал отец, все переменилось.
JIapc кашляет, прочищая горло.
— Это как же?
Нильс садится.
— Мальчишку-стюарда ночью убили. А кто— неизвестно. Нашли в койке с перерезанным горлом. Капитан начал запираться в своей каюте: пусть, мол, провидение командует. Отец сбежал в первом же порту.
— Не хотел помирать.
— Видать, так.
Лapc задумывается, потом говорит:
— Вот и нам, должно, сквозь ледяную стену пройти надо.
— Эжен что-нибудь говорил про смерть Анны?..
— Нет, не говорил. Сказал бы, может, кабы припадок не случился.
— Припадок?
— Падучая у него. Я взял нож да сунул ему промеж зубов. Шкурой его накрыл... Ну, теперь я вдоволь наговорился.
— Когда это было?
— Вчерась ввечеру.
Нильс Нильссон молча разглядывает прожилки на деревянных половицах—какие плавные изгибы, словно женские бедра. Что ему еще тут делать? Хочется сразу встать и уйти, но он себя останавливает.
— Еще словечко напоследок, Ларе. Про Пера он ничего не говорил, про Вернерова мальчонку?
Ларе мнется, потом нехотя отвечает:
— В помрачении городил что-то про Пера и про какую-то коляску, что-де катафалк с коляской вроде как близнецы, нетто его разберешь... Хворый он был, вот что. А может, и не так хворый...
— Не так хворый?
— Чтоб не схитрить.
— Ты на что намекаешь?
Но Ларе качает головой.
— Будет на сегодня.
Что-то мелькает за окном, оба выглядывают наружу.
— Ширится,— замечает Лаос.
— Буря?
— Поветрие моровое. А я один остался. Смерть могла бы забрать меня. Ну зачем ее, такую молодую? Можешь ты мне ответить, Нильс, ты, у которого так много вопросов?
— Видать, кто-то боялся ее. Вдруг, мол, она расскажет кое-что, о чем знала и что скрывала.
Ларе прикрывает ладонью лоб и глаза, в другой руке у него нераскуренная трубка. Нильс встает, прощается, на пороге еще раз оглядывается.
— Коли захочешь что добавить, обращайся к Вернеру или ко мне.
Шагая по Горе, Нильс замечает: ветер утих. В окнах Водолечебницы свет. Он достает записную книжку, и первое, что бросается ему в глаза,— это запись: «Спросить насчет старика Б.».
Помедлив, Нильс идет дальше. Из Ларса сегодня больше ничего не выжмешь.
Дорога к пристани ведет мимо одинокой лачуги столяра Хофрёна, оттуда доносится плач вперемежку с криками. Нильс по некотором размышлении сворачивает к домишку, распахивает дверь и оказывается в единственной комнате, где стоят раздвижные койки и на пол брошено несколько одеял; вокруг ползают малыши, а в углу нараспев голосит мамаша Хофрен. Нильс слов не разбирает, да и ни одна живая душа не поймет, это песнь ненависти, обращенная к небесам. Между тем Хофренша уже только тихонько, неразборчиво подвывает, глаза ее полузакрыты, бутылка самогона в руке почти пуста. Нильс знает, от нее не добьешься ни звука о том, откуда взялось спиртное: даже совершенно пьяная, она держит язык за зубами, ненависть сильнее опьянения. Она «укрепляет» семью подзатыльниками, пока дети не вырастут настолько, чтобы дать сдачи. Сам Хофрен большей частью норовит улизнуть из дому.
Сейчас весь клан подозрительно глазеет ка Нильса, их общего врага.
— Где Хофрен?
— Проваливай отсюда, ищи своих покойников, а со своими я сама управлюсь! — Она издает пронзительный, пьяный, кашляющий смешок. И продолжает, показывая на Нильса бутылкой:—Скоро вся шайка в ад загремит, а заодно и все предатели! Сатана их заберет!
— Как забрал Анну Перс и старика Блома?
На миг Хофренша застывает, лицо ее дергается, будто вот-вот развалится на куски, но в следующую минуту она уже орет:
— Убирайся! Вон из моего дома!
И здесь страх, думает Нильс, выходя на улицу. Глубоко вздыхает, смотрит на бухту. Размышляет о белизне — на лицах, на брюхе снулой рыбы, размышляет о мертвых. Мертвые, они мастера ждать.
Только вот чего они ждут? — спрашивает он себя.
А ведь ответ ему известен.
Они ждут других покойников.
20. Сесилия и Франс
Она сидит перед зеркалом. Стекло трижды отражает ее облик. Три роли играет она—супруги, матери и любовницы. Не болезнь ли это— ухитряться играть их порознь? Не болезнь ли — ке знать, где же именно твоя подлинная жизнь, да и живешь ли ты вообще? Она наклоняется, внимательно изучает свои черты, спокойные и правильные. Что-то чужое, холодное проглядывает в них и делает отражение нереальным. Сесилия проводит ладонями по еще гладкому лицу. Что, опять играет роль? Страх начал вгрызаться в ее плоть. Она больше не в состоянии следить за своей комнатой. Тут небрежно брошена какая-то вещица, там забыта чайная чашка— прежде она сама убирала за собою. Теперь предоставляет это горничной.
Что-то ускользает из рук; может быть, годы и счастье — оно было, его уж не вернуть.
Впереди бесконечная вереница дней, полных притворства, молчания, легковесной болтовни, потом дети вырастут и оставят ее и его одних, в доме, где так редко светит солнце.
Консульша опускает веки, закрывает рукой свое отражение, прислоняется головой к стеклу и сидит так. Сил нет даже вынести тишину, которую она раньше благословляла, ту самую тишину, которая приветно струится от каждой стены, от каждого предмета, едва за ним захлопнется дверь и он уйдет в свой мир, к своим падениям.
При мысли об этом ей становится тошно. Когда-то она воображала, что сумеет помочь ему, разобьет преграды, возместит жаром страсти недостаток любви, но продолжалось так недолго, ответом ей была пылкость автомата— безразличие.
После этой неудачи она пыталась прибегнуть к деликатной нежности. Но все оборачивается притворством. И только Франс способен дать ей забвение. Не защиту—тут он слишком слаб.
Страх захлестывает Сесилию, она мечется по комнате, ломая руки; чтобы успокоиться, кусает себя в запястье. Беззвучно текут слезы. До бала четыре часа. Акселя все нет. Его манера откашливаться, его манера говорить... ужасно!
Да полно, ведомо ли ей, что значит жить? В стихах утешения нет, в детях тоже. Чуть ли не все бессмысленно, непонятно, запутано...
Гулко хлопает дверь—Сесилия на миг застывает, невольно прислоняется к стене, ужас вскипает волной и снова откатывается, она медленно идет в переднюю, но там никого нет.
— Манда! — кричит она, и тотчас в дверях буфетной появляется спокойная фигура.
— Вы звали меня, фру Консультантша?
— Скажите... скажите, что я ушла прогуляться, что я скоро вернусь...— Собственный голос звучит как посторонний, в нем сквозит фальшь: — Пожалуйста, приготовьте мое бальное платье, Манда, и... и...
Она закрывает лицо руками и чувствует, как экономка осторожно берет ее за локоть.
— Вы не одиноки, фру Консультантша,—говорит Манда,— не одиноки, пока у вас есть сердце...
Что говорит эта особа?! Жаркий стыд захлестывает
Сесилию, она отдергивает руку, устремляется вон из дома, будто за нею кто гонится. Сочувствие от прислуги! И смеясь, и плача, она почти бежит, сама не зная куда, ноги ведут ее вперед, к мастерской.
Запах скипидара, такой близкий, такой родной! Запах скипидара!—стучит у нее в висках. И вот она уже у калитки в заборе, поспешно отпирает ее, даже не оглядевшись вокруг, а через минуту—стоит в мастерской.
И замирает как вкопанная. Глаза щурятся, руки сплетены. Вот они, портреты—ее и Анны Перс, рядом. Живая на холсте мертва, а покойница светится жизнью. Он что, издевается над нею? Или видит ее уже мертвой?
Сесилия беспокойно кружит возле портретов, словно ищет чего-то на оборотной их стороне. Останавливается, смотрит в окно и опять продолжает свое круженье.
Она старается ступать как можно тише, чтоб никто не услыхал. Задерживает дыхание, от страха. Какая-то тьма сочится из стен и пола, надо быть осторожной, не наступить в нее. Анна Перс, распутница!
Любовь задушена! Задушена!
На старом деревянном столе лежат палитры, стоят в банках кисти, приготовлены шпахтели.
— Франс,—жалобно, как ребенок, зовет она.
Франс недалеко, он только что позвонил в дверь
консульского дома. Открывает ему Манда, смотрит прямо в глаза, качает головой.
— Нет, Консультантша недавно ушла.
— Куда?
Манда медлит, испытующе глядит на него; не сознавая, что делает, он в темноте передней протягивает руки и крепко берет Манду за плечи.
— Куда?
— Ей нужна помощь и защита. Торопитесь же...
Он поворачивается, сбегает с крыльца и, в тот же миг натолкнувшись на консула, отскакивает в сторону. Консул останавливается.
— Чему обязаны такою честью?
— Я только хотел сообщить о переносе сеанса...
Голоса звучат деланно, они смотрят друг на друга, и
художника охватывает ощущение, что он глядит на консула снизу вверх, заискивает перед ним. На глазах выступают слезы. Но консул как бы и не видит этого, проводит носовым платком по безобразному рубцу на щеке. Заметив, что за ним наблюдают, поворачивается и, нимало не интересуясь больше Франсом, поднимается на крыльцо.
Франс спешит прочь и, помня, как удивились Вернер фон Адлер, старается не привлекать к себе внимание прохожих. Деловито бежит в гору по каменистой дороге и, только добравшись доверху, обнаруживает, что по ошибке направляется к Анне Перс, опирается на штакетник, переводит дух, смотрит вниз на Хенриксгатан. Какое странное освещение! Напоминает о болезни, о гное и боли. Небесная желтизна начинает распадаться на лоскутья туч. Ветер налетает слабыми порывами, Франс его не замечает. Будто увечный, медленно плетется к мастерской. Безмерная тяжесть и изнеможение навалились на него, он мечтает только об одном—броситься на постель.
Портрет Анны Перс на полу, весь искромсанный, изрезанный, изодранный в клочья. Франс глядит на него, с трудом соображая, что могло произойти. Убита, думает он, еще раз убита. Бросает взгляд на мольберт—портрет Сесилии исчез. Франс стряхивает оцепенение.
— Сесилия!
Он кричит как от муки, подбегает к двери в спальню.
Портрет Сесилии возле кровати, целый и невредимый. А на кровати сама Сесилия — щеки пылают румянцем, волосы растрепаны, в руке рюмка.
— Дома к-коньяк невкусный, дря-ань!— криво улыбается она.
Художник тупо глядит на нее, потом опускается на край кровати, берет в ладони разгоряченное лицо Сесилии, голова ее мотается из стороны в сторону. Как ни тяжко жить, а жить нужно, думает он, а губы произносят:
— Сесилия! Любимая!
Она безвольно повисает у него на руках, приходится опустить ее обратно на подушку.
— Нет сил... я больше не могу так...—бормочет она.
— Ты совершенно пьяна, а через несколько часов бал. Тебе надо отрезветь!
— Я мертвая,— твердит она.— По-твоему, я мертвая...
— Ты не могла не убить Анну, не могла, да?
Его слова звучат, скорее, как заклинание. Она так забавно таращит глаза, старается держать его в фокусе, говорит:
— Ее т-ты любил...
Струйка слюны течет у нее изо рта, Франс стирает ее рукой, трясет Сесилию. Наконец ему удается поднять ее, закинуть ее руку себе на плечо; он тащит Сесилию к умывальнику, льет ей на голову холодную воду. Она вцепляется в умывальник, отталкивает Франса, слышно только тяжелое дыхание.
— Не волнуйся. Дай мне полчаса...—невнятно произносит она.
Он не знает, что ответить, падает на кровать, а она медленно раздевается до пояса, как во сне начинает умываться.
Он ненавидит себя за то, что не в состоянии сказать ей ни слова. Пусть уходит, стучит в мозгу, но другая часть его существа жаждет заключить ее в объятия, прижать к себе, обогреть. Он ловит себя на том, что следит за каждым ее движением, наблюдает за ней, словно желая запечатлеть на холсте все до мелочей.
— Не смотри на меня,—просит она.— Главное, ты здесь, рядом.
Он подходит к ней, поворачивает ее к себе и держит так.
Она не произносит ни слова, высвобождается и только потом, уже одетая, стоя у двери, говорит:
— Меня ты можешь больше не бояться. Никогда.
— Сесилия! Сесилия! Мне было страшно за тебя! — только и способен вымолвить он.
Их губы лишь бегло касаются друг друга, взгляд Сесилии спокоен и пытлив. Она уходит.
Когда ее давно уже нет и кругом царит тишина, Франс ложится и закрывает глаза.
— Ушла,— роняет он вполголоса.
Почему — он не знает. Погружается в сон, как утопающий.
21. Пер
— Салака и картошка,—тихонько бормочет он себе под нос,—молочный суп и хлеб, салака и картошка, молочный суп и хлеб.
Что это — заклинание от бедности, которую он видит вокруг, или колыбельная, которая навевает сое и уводит от чего-то, что внушает одновременно и страх, и жгучее любопытство, пли всего-навсего слова из монотонных будней заштатного геродка?
Самое ужасное, думает си, что все повторяется. Но ведь он молод и должен смотреть на мир молодыми глазами! Мелькает воспоминание: Манда, которая видит его насквозь, сказала как-то: «У тебя отцовские глаза».
А у Вернера глаза старые и усталые.
Пер идет по кромке прибоя, парусиновые туфли он снял и несет в руке. Вода лижет ноги, стирает следы, покрывает рябью песок. Дома у него есть красный камешек с поверхностью волнистой, как этот песок,— волны будто замерли в нем навеки. Море свинцовое, ветер притих, но дальний берег безжизнен и черен, а небо мало-помалу затягивается облаками, серыми и желтоватыми. На смотровой вышке—несколько темных мужских фигур и одна женская—в голубом. Наверно, слушают легкий гул, доносящийся с юго-запада, словно невидимый пчелиный рой гудит в небесном улье. Из дачников никого больше не видно—они дома, готовятся к балу. А с церковного холма, возвращаясь с полей, длинной вереницей спускаются оборванные ребятишки, исчезают на время и появляются вновь—взбираются на Гору. Их матери и отцы еще на работе, а эти маленькие рабы не чают добраться до дому и отдохнуть. Вид у них совсем не детский. Пер останавливается, провожает их взглядом. Найдут ли они в себе силы прийти под окна Водолечебницы, когда начнется праздник? Получат ли хоть несколько мелких монет? Салака и картошка, молочньй суп и хлеб.
Луиза сейчас, наверное, переодевается. Стоит в полумраке перед зеркалом, кожа ее светится белизной, как песок в отблеске луны, и такая же нежная.
Чем сильнее он к ней привязывается, тем меньше уверен в собственном чувстве, да и в ее чувстве к нему. Чем сильнее его к ней влечет, тем труднее одолеть сумятицу эмоций, вертящихся вокруг одного- единственного подспудного стремления.
Стремления к чистоте. И Анна... Что же, она была недостаточно чиста?
Смерть, смерть... В какие же игры он играл? Рассказывал сказки Луизе, а Луиза ему—детские забавы! Игры у Анны — это уже всерьез! И последняя ее игра, игра кошки с мышью: он тогда ненавидел ее и как сейчас помнит ее смех и шепот: «Папаша Пер, папаша Пер, Пер папаша, Пер папаша...»
Она танцевала по комнате, а ему было холодно, пусто. В ней чувствовалось что-то натянутое, странное, отчаянное, он ведь сказал об этом Эжену или нет?
Кругом был сплошной сумбур, но он так и хотел, хотел просто быть с нею рядом, точно она и мать ему, и защитница. Потому и приходил снова и снова...
Пер смотрит на церковный холм, вода все плещет о его ноги, он вспоминает, как ветер бил ему в лицо там... не было ли с ним коляски? В тот вечер он лежал в траве, глядел в небо, но ни единой звездочки не увидел, хоть и прикрыл один глаз рукой.
А потом столкнулся со стариком Бломом.
Пер глядит прямо перед собой, на волны: ветер хоть и улегся, а море еще бурлит. Очень, очень многое не расскажешь никому, даже Вернеру. Почти все. Самое страшное надобно хранить в себе.
«Думай, выспрашивай, действуй»,—любит повторять Вернер.
Ему легко говорить!
Пер хочет крикнуть, сделать что-нибудь, пускается бегом, все быстрее, шлепает по кромке воды, брызги летят во все стороны, он мчится к сосновому лесу, ноги вязнут в песке. Наконец, обливаясь потом и запыхавшись, он добирается до опушки и бросается в траву.
Он—отец! Да как только можно было принять это всерьез, тем более что в тот единственный раз он потерпел неудачу, Анна даже утешала его. Или насмехалась? Или просто играла.
От людей надо держаться подальше, всегда, от всех!
Пер перекатывается на живот, кладет голову на руки, потом поднимает глаза: кто-то мелькает среди деревьев. Сердце его молотом бьется о землю—она!
Он встает навстречу девушке.
— Я думал, ты переодеваешься к празднику,— говорит он, ничего умнее в голову не приходит.
Луиза совсем близко, ее лицо похоже на застывшую маску, на щеках следы слез.
— Ты плакала?
Она садится на траву, он —рядом.
— Франс и мама, они... они...—бормочет она, глядя в сторону, и бьет узкой ладошкой по земле, бьет и бьет.
— Но... мы же говорили о том, что... она одинока, не может любить... консула, что ей нужен друг...
— Друг! Этот... этот... бабник!
Прежде чем выговорить это слово, Луиза собирается с духом, глаза ее горят возмущением, лицо перекошено. Она сейчас просто уродлива, однако же Пера захлестывает волна нежности. Он берет девушку за плечи, встряхивает, она падает на спину, увлекая его за собой, и все повторяет шепотом:
— Бабник, бабник, бабник! И даже хуже!
От Луизы пахнет лавандой, свежестью, ему хочется обнять ее, но девушка тут же, как кошка, вонзает ногти ему в лицо. Она и прижимается к нему, и отталкивает. Пер хочет поцеловать ее, а с ее губ срывается:
— Свинья! Свинья!
Пер слышит горькие рыдания и выпускает ее, тихонько гладит, утешает, но она не отзывается, его слова и нежность не трогают ее.
— Луиза, послушай, Луиза! — говорит он с отчаянием.— В любви нет ничего постыдного, ничего недостойного, пойми!
Она садится, отчужденно смотрит на него и говорит монотонным безжизненным голосом:
— Я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался.
— Но, Луиза...
Она встает, лицо разглаживается, платье расправляется, с минуту она смотрит на море. Пер берет ее за руку, она недвижна и холодна. Потом Луиза отнимает руку и идет прочь.
Все происходит странно замедленно, как во сне. Это не мы, думает Пер.
Глядя ей вслед, он вдруг чувствует, что щеки у него мокрые, утирает слезы рукой. Его бьет озноб — в летнюю-то жару.
Как автомат, он шагает к городу. Луиза исчезла. На секунду в разрыве туч проглядывает солнце и вновь прячется — стволы сосен гаснут. По улицам спешат прохожие, но Пер их едва замечает. Идет с туфлями в руке, сворачивает на Родмансбриккен и вот уже стоит у калитки; не заперто — он входит, дверь Анны не опечатана. Будто его здесь ждут. Увидев его, Эжен вскакивает, жмется в угол. И опять Перу чудится, что все это уже было. Только окно закрыто.
— Ты тоже,— говорит он,— ты тоже...
Эжен молча по стенке обходит приятеля, ни на миг не сводя с него глаз, точно Пер может броситься на него.
— Эжен, неужели мы должны?..
— Кровь! — вот единственное, что выкрикивает Эжен, показывая на его лицо: — Кровь!
Пер проводит рукой по лбу, но там крови нет.
А Эжен уже возле двери, быстро выскакивает на улицу, убегает. Пер слышит его шаги.
Сошли с ума, думает он. Мы все сошли с ума.
Садится на кровать, страха больше нет, только усталость. Весь город сошел с ума, мелькает у него в мозгу. Или болен. В самом деле болен. И был болен еще до того, как ее задушили. Поэтому ее и задушили. Из-за всей этой неправды.
Он сидит, окруженный теми немногими вещами, что остались после Анны, и горюет. Но ему удивительно спокойно.
При желании он умеет действовать быстро. Зря потерял время в клубе и теперь спешно отдает приказания. Четверо полицейских, которых он просил в помощь, уже прибыли, он всех их знает.
Сам идет взглянуть на проститутку из Або; эта особа с пьяными воплями объявилась на площади возле одной из телег—видно, спала там, хорошенько спрятавшись. Она так распоясалась, что пришлось отправить ее за решетку, хоть ему это вовсе не по душе. Теперь через окошечко в двери Вернер наблюдает за нею, а она за ним—зрачки сужены, взгляд колючий, пронзительный, его трудно выдержать, лицо бледное, каждая морщина словно ножевой порез. В ответ на вопросы арестантка дерзит. Вернер медлит. Хмель с нее давно слетел, от злости, зато осталось какое-то исступление, а как раз от этого нынешний вечер необходимо оградить. Пусть ее посидит ночку.
Ее взгляд преследует Вернера и в собственной комнате, когда он наклоняется к зеркальцу. Сколько жестокости бывает в человеческих глазах и сколько ласки.
Вновь поднялся ветер, оконная рама дрожит на петлях под его напором. Вернер надевает форменный сюртук— что поделаешь: надо. Опускаются сумерки, в зеркале видно, как в саду беспокойно трепещут кусты сирени, мелькает серебристая изнанка листьев, ветви мечутся туда-сюда. Он пытается пригладить щеткой волосы, но ничего не выходит. Внезапно ему кажется, будто он подброшен ввысь и смотрит на город с птичьего полета— крыши сняты, люди перед зеркалами наряжаются к празднику, а по краю этой безмятежной картины кишит стая каких-то темных созданий, все начинает медленно кружиться, как бы в гротескном вальсе. Вернер обеими руками опирается на умывальник. Что же это с ним? Глаза арестованной... такие могут быть у убийцы. Этот холод...
Он глядит в окно, рама все дрожит, дрожит. А за стеклом чья-то темная фигура, он едва не отшатывается — фигура машет ему рукой. Ну, дождался, думает Вернер.
И в тот же миг понимает, что это Виденша, жена церковного сторожа, одна из обитательниц переулка Родмансбринкен.
Он подходит к окну и высовывается наружу. Виденша стоит возле самой стены, прикрывает рот рукой, словно шептать собралась.
— Я их видела, мальчишек-то! Только я вам ничего не говорила!
— Войдите!
— Нет! Пьяные они были. Один зашел к Анне, второй побрел дальше...
— Кто?
Она качает головой.
— Не знаю. И ничего я не говорила!
— Ну-ка, фру Виден, успокойтесь. Я не доносчик.
Она глядит на него снизу вверх, во взгляде сомнение: с
какой такой стати она должна ему верить!
А воздух и ветер—совершенно желтые.
— Потом кто-то зашел в переулок, и я быстренько убралась в дом.
— В переулок зашел? Следом за ребятами?
— Ага. Он на косогоре постоял, а после за углом скрылся.
— Он?
Виденша кивает, расплывается в беззубой ухмылке, ни с того ни с сего, точно кто-то на миг сплющил ей лицо.
— Петушки на воле! Хи-хи-хи!—дробно смеется она.
— Погодите минутку!
Но женщина спешит прочь, грязно-белую юбку как ветром сдуло. Вернер так и стоит, высунувшись в окно, идти за ней нет времени.
Он закрывает окно, поправляет подтяжки на широких плечах, достает старинные серебряные часы-луковицу, полученные в наследство от отца. Идет к Перу—тот лежит на кровати, спит, полуоткрыв рот. Совсем мальчик, думает Вернер. Что-то невысказанное, сиротливое витает в комнате. Он бережно накрывает сына одеялом, уходит.
Чистя щеткой мундир, Вернер размышляет о том, по-прежнему ли Виденша помогает мужу гнать самогон. Дополнительный заработок. Он пробовал прикрыть этот гешефт, но самогонщики — народ ушлый, их так просто не поймаешь. И осенью, в пору убоя, когда город наводняют скупщики, торговля самогоном особенно процветает. Людей у Вернера мало, с ними эту проблему не решишь. Прямо голова кругом идет.
Мимоходом он еще раз заглядывает к арестантке. Она сидит все в той же позе, в какой он ее оставил, поворачивает к Вернеру апатичное лицо, в нем можно прочесть и одиночество, и опустошенность, и бездушие — все то, что в недобрые часы он подмечал и в себе.
— Вам ничего больше не нужно?—спрашивает он.
Она не отвечает, ложится на нары.
Мальму (он стоит в карауле) Вернер велит:
— Дай ей еще одно одеяло. И проследи, чтоб еда была горячая.
По Хенриксгатан, вздымая пыль, гуляет морской ветер. Мачты качаются, небо затянуто тучами, вода в бухте бурая, как глина, а среди шхер мелькают белые барашки. Скрипят вывески, стучат флагштоки, трепещут деревья и кусты. Люди идут молча, поеживаясь. Там и сям маячат темные платки женщин, ребятня то выбегает откуда-то из-за деревьев и сараев, то исчезает вновь.
Вернер надвигает форменную фуражку поглубже на лоб. Он ничего не забыл? Скорей бы уж этот вечер миновал! Вернер оглядывает гавань, на глаз проверяет швартовы лодок; ближе к островам в прорехах между тучами видны желтые полоски—и там глаза, только прижмуренные. Он торопливо спускается с крыльца и вот уже чуть ли не бежит. Бог весть отчего.
23. Июньский праздник
Соленый рыбный запах от береговых сараев образует резкий контраст легким облачкам ароматов одеколона и туалетной воды, исходящих от избранного общества. Мерцают люстры и канделябры, хотя на улице еще светло. Стулья потрескивают под тяжестью городских властей. Фраки топорщатся на багровых загривках, втиснутых в белые воротнички, кругом пышные рукава и не менее пышные бюсты.
За стенами зала шум праздника напоминает плеск воды из мощного душа. Те, кто за дверьми, переговариваются шепотом. Те, кто внутри, нет-нет да и бросят взгляд на бухту, на море в белых барашках пены, и сердца их охватывает тревога. А с улицы за ними пристально наблюдает простой люд — мещане, рабочие, рыбаки с детишками—господи, сколько же у них детей! Клены, покрытые свежей клейкой листвой, кажутся почти черными. У входа горят факелы, пламя вьется на ветру, как алые клочья ткани, и шеф добровольной пожарной дружины, призвав на помощь Вернера, заставляет владельца ресторана потушить их. В воздухе долго висит запах копоти. Был ведь уже пожар на складе, неужто мало? Дети, шныряющие кругом, недовольны. Нянюшки в передниках, поднимая вверх похожих на кукол младенцев, показывают на окна.
— Вон там твои мама с папой! Глянь-ка!
Но ветер крепчает, и они выбираются из гудящей толпы, спешат по домам. Достаточно одного взгляда—и сразу ясно: тут, на улице, собрались обитатели лачуг и всякая шушера с Горы.
А в зале — какое благоухание, какие краски! У почетного стола градоначальник Лехто склоняется к украшенному рюшами декольте полковницы Дален, будто сейчас нырнет туда очертя голову:
— Позвольте пригласить вас на первый вальс.
О, он чересчур напорист. Полковница с неудовольствием глядит на его напудренные бакенбарды, потом, осклабясь, наклоняет голову, медленно, снисходительно. Полковник Арцыбашев в полной парадной форме беседует по-французски с консульшей Рединг, произношение у него превосходное, консульша говорит не так бегло, но речь ее полна очаровательной неуверенности, повторов и пауз. Она очень бледна, глазам недостает живости, взгляд редко задерживается на ком-либо из присутствующих. Щеки она подрумянила, может быть, немного слишком, но все равно хороша. Полковник Арцыбашев ходит гоголем. Струйки дыма плывут к потолку и, точно конфетти, смешиваются с обрывками фраз:
— В Саммервахене целых две водолечебницы...
— ...и бильярдное сукно распоролось, как нижняя юбка...
— ...морской воздух чересчур влажен...
— ...удушение и изнасилование, вот это по ней, а то больно уж заскучала...
— ...слава богу, я знаю этот колесный пароход, там, поставив на корму бокал с пуншем, можно вовсе не заметить тряски...
— ...а кровь ка-ак брызнет фонтаном у него изо рта — он так и сморщился, как пустой мешок, все произошло в один миг...
— ... лучше бы только шампанское...
— ...а как же предостережение фон Адлера от неистовых плясок?..
— ...четыре раза бросали камни, о чем это говорит? Да о том, что все в кем изверились...
— ...я определенно предпочитаю крейцнахские воды...
— ...видели, как она туда вошла, только лучше помал-кивать, я сплетничать не люблю...
— ...а на столе не осталось ни одной бутылки «Мариенбадской», эта жирная свинья Шульце все с собой увез...
— Еще вина, фрекен, да поживее!
— ...затылок разбит, как яичная скорлупа, и, правду
сказать, внутри было не больно-то много,..
— ...да как ты смеешь меня трогать!..
— ...запыхалась, бедняжка...
— Да, приходи завтра вечером...
— Ваше здоровье!
Потные, разгоряченные официантки снуют из буфетной в зал и обратно. Кухня похожа на сумасшедший дом: гремят конфорки, суетятся повара, красные руки что-то помешивают, пробуют, передники развеваются, становясь с каждой минутой грязнее, объедки летят в бочки, тут и там мелькают подносы.
В зале у гостей распирает жилеты, надо их расстегнуть, более или менее украдкой. Столы уставлены бутылками, рюмками, тарелками, завалены окурками сигар. То слышен раскатистый хохот и пронзительный смех, то повисает почтительное молчание, когда с губ сильных мира сего слетают напыщенные фразы.
Наступает время живых картин. Сольное пение фрёкен Русенблад, пухленькой дочери торговца Виктора Русенблада, благополучно подошло к концу. Скандинавские романсы —как истошные вопли о помощи. Господи, еще и это, думает Вернер Фрид, стоя в углу и пытаясь следить за происходящим. Ему бы надо сидеть за столом, а он поминутно вскакивает. Весь этот дом для него —аквариум с гнутыми прозрачными стенками. То они выгибаются наружу, то внутрь. А за шторами бежит средь облаков бледный серп луны, словно за ним гонятся демоны.
Кто-то слишком откидывается назад и падает вместе со стулом. Крики, смех. Фрёкен Сюннеретранд по капле вливает свою желчь в уши глухого адвоката Рооса. Ну и на здоровье. Глядя ка мясника Брудйна, тотчас вспоминаешь его лучших породистых быков, а супруга торговца Петрена, похоже, решила посоперничатъ с Брудином. Табачник Кольтхоф шныряет между столиками, как серый таракан, что-то нашептывает на ухо то одному, то другому. Где же Франс? Художника не видно. Нильс Нильссон деликатно сообщает: драк нет, пока. Солдатам запрещено покидать казармы, как и хотел Вернер. Он бросает взгляд в бильярдную, там светло и тоже стоят столики. Балконные перила за окнами кажутся вырезанными из бумаги. Силуэты, думает Вернер, пройдет этак лет пятьдесят, и все это обратится в прах, исчезнет, а деревья будут, как прежде, шевелить ветвями, и ветер будет дуть, как прежде... Суетность...
Подходит фон Адлер.
— Что, силы свои считаешь? Я тоже на посту: покуда ни сердечных приступов, ни почечных колик, ни судорог, лишь несколько ожогов на кухне. Даже обмороков не было. Только фру Бёккельман жаловалась на сердцебиение, хотела, видно, чтоб я пощупал ее бюст. А как у тебя?
— Покойников нынче нет. Побитых тоже, по крайней мере до поры до времени.
— Иной раз думаешь, будто все это безобразие— дырявый шар: его медленно накачивают ядовитым газом и рано или поздно поднесут к огню... Я имею в виду не только наш июньский праздник, я имею в виду...
— Знаю я, что ты имеешь в виду...
Но тут свет приглушают, шуршит занавес, на скрипучих подмостках — средневековье, выспренние словеса, траченные молью плащи. Зрители вытягивают шеи.
— Гляди: монахиня, вон там, слева, уж не дочка ли Лехто?
— Она? Монахиня?! Хороша шуточка!
Меловые лица, красные губы, черные пасти, патетически воздетые руки и выпученные глаза—средневековый Нювик глядит в новое время, на ломящиеся от яств столы, на денежных тузов и красивых женщин, на здешних спесивых помещиков-дворян, на представителей искусства и культуры, не говоря уж о большинстве — простой дачной публике. А новое время глядит на старое. Влажные ладони оглушительно хлопают, изо всех сил стараются подбодрить родных и друзей на сцене. Занавес закрывается, потом раздвигается вновь, перенося зрителей в эпоху Французской революции, в которой Нювик, похоже, сыграл центральную роль, был тем логовом, где ковались самые черные заговоры против благородного королевского дома Франции. Градоначальник утирает слезу, но его совершенно глухая супружница трубит во весь голос медицинскому советнику Граузаму:
— По-моему, гидротерапия себя изжила!
По залу пробегает смешок и тонет в недовольном шиканье, только какой-то остряк успевает выкрикнуть:
— Da capo!
Его тоже мигом утихомиривают.
Голос как будто знакомый, думает Вернер, пробирается ближе к сцене и задумчиво рассматривает гильотину, на верху которой что-то поблескивает. Мягко, но решительно волокут на верную смерть закутанную в покрывало женщину—одна из нювикских монахинь забрела в Париж, мелькает в мозгу у Вернера. Только вот...
Несколько быстрых больших шагов—и он возле сцены, спотыкаясь, взбегает по лесенке, в зале тут и там
раздаются аплодисменты и озорной свист, и в ту самую минуту, когда палач включает гильотину, Вернер резко отталкивает женщину в сторону.
— Браво! — кричит кто-то.
Зал взрывается хохотом.
Занавес закрывается, из палаческого плаща с капюшоном выныривает возмущенный торговец Блумквист.
— Ты что это себе позволяешь?
— Взгляни на нож,— говорит Вернер.— Включи-ка.
Он опускается на корточки возле Манды, которая
сидит, обхватив голову руками, а нож тем временем с лязгом падает вниз. И на полпути останавливается.
Но что это—там ясно видно острое стальное лезвие, которого раньше не было. Дурная шутка. На сцене появляется градоначальник, спрашивает:
— Ты и представление решил испортить?
Однако Вернер, не обращая на него внимания, помогает Манде встать.
— Революция требует жертв, рано или поздно...— говорит она.
— Мне казалось, это консульша должна была...
— Да, ко ей нездоровилось, и я ее подменила. Ты что, думаешь...
Секунду они смотрят друг на друга.
— Зайди ко мне на кухню, когда будет время,— просит Манда.
Шум по ту сторону занавеса стал громче, к нему примешиваются звуки хлынувшего вдруг дождя. С минуту все слушают ливень, потом отворачиваются и от мрачного неба, и от громовых раскатов, которые то и дело обрушиваются на веранду, полную притихших людей. Парк заливает темнота, гуляющая публика спасается бегством, вокруг шныряют только мальчишки, они будто растут в непогоду. Мачты парусных лодок тычутся в небо, не дай бог фалинь плохо затянут—мигом перетрется. Ветер над морем крепчает. Торговец Петрен рыгает, и соседка по столу полушутя шлепает его веером. Гости собираются группками, глядят на густеющий мрак.
— Это просто шутка,— говорит Франс.—И все-таки. Мы же проверяли, лезвия не было. Но стопоры-то выдержали.
— А если б нет? Кстати, где консульша?
— Я думал, она вышла...
Вернер проталкивается к выходу. Дождь перестал так же быстро, как начался,— занавес, небрежно задернутый и вновь исчезнувший в кулисах города. Месяц плывет своей дорогой, прояснилось, воздух дышит ароматом, голоса в сумерках кажутся звонкими и прозрачными. Странная тревога гонит Вернера к ближнему причалу, где какая-то одинокая фигура смотрит на воду. Он тотчас угадывает, кто это, медлит в нерешительности. Но консул Рединг говорит:
— Привет блюстителям порядка. Небесная анархия подавлена.
— А фру консульша... где же она?..
— Легкое недомогание, пошла домой отдохнуть, но, наверное, вернется, здесь ведь столько друзей...
На миг воцаряется тишина, слышен только плеск волн.
— Мы то на «вы», то на «ты», давайте перейдем на «ты» окончательно. Итак, я торжественно говорю «ты». Ты, Вернер, после этого веришь в добро? Понимаю, тебе нужно за многим следить, за гильотинами, драками, пожарами, несчастными случаями,— но хоть когда-нибудь у тебя мелькает мысль, что этот ад, в котором мы живем, сменится раем?
— Мы сами превращаем жизнь в ад,— медленно произ-носит Вернер. Они оба словно два заговорщика, которые ощупью пробираются куда-то.
— В детстве я думал, что ад создала мать, и надеялся, что она не замедлит туда убраться. Отец довел ее до душевной болезни, а меня до...
Он умолкает. Вернер не говорит ни слова. Газовые фонари, зажженные в честь праздника, бросают на воду дрожащие блики. В лунном свете лица у людей кажутся бледными-бледными, думает Вернер.
Консул Рединг вздыхает, потом доканчивает:
— ...а меня до страха. Н-да. Только вряд ли это тебя интересует.
— Отчего же. Меня интересует все, о чем мне рассказывают. Страсти, желания, одиночество, смертельный ужас... Но и теплые чувства, дружба, любовь...
— Ты их встречал?
— Да.
Консул облокачивается на перила, глядит в воду.
— Упади туда кто-нибудь... кто-нибудь из наших прелестных дам—так бы и поплыли себе по волнам, как белые кувшинки, как белые кувшинки...
Он трясется от смеха, на щеках что-то блестит—что это? Какая мысль обуревает его? Вернер смотрит на консула, борется с желанием положить руку ему на is лечо...
Рединг оборачивается, непринужденно спрашивает:
— Ты задержал убийцу?
— Пока нет, но скоро задержу.
— Ты думаешь? А если он ловкий притворщик? И уже уехал отсюда, чтобы сыграть роль убийцы в другом месте?
Вернер качает головой, огромная усталость охватывает его.
— Нет. Он не уехал, он где-то здесь.
— Ох эти мне уверенные, спокойные, целеустремленные люди! Так и рвутся вперед, к тому, чего нет. Жизнь, Вернер, штука бессмысленная. И все, что мы творим в бессмысленности, тем паче лишено смысла. Только остановив время, прекратив всякое движение, мы, быть может, и пожили бы сполна, один миг, всем своим существом...
Рядом шумело море; консул продолжал:
— Я вот тут философствую, лезу в область абстракции. А ты, счастливчик, живешь среди конкретного...Что ж, идем обратно.
Они молча возвращаются в праздничный зал.
Октет «Луи» исполняет «Венскую кровь»
24. Вернер, Манда
Ненастье утихло, месяц сыплет свое серебро, но волны еще с силой бьются в причалы и набережные. Гости по двое, по трое спускаются к морю и снова возвращаются потанцевать. Польки, мазурки и вальсы слышны даже на том берегу.
Пора начинать фейерверк. Многие боялись, что его отменят, но после не долгих пререканий власти все же дали согласие. Падает первый звездный дождь, со свистом и треском взлетают гроздья шутих, а вон вспыхивает алая звезда, разбрызгивая огонь по совсем уже спокойному небу. Зрители глядят вверх, хлопают в ладоши, треск и запах пороха, как на поле боя.
— Не скрою, глядя на все это, испытываешь некоторую патриотическую гордость,— говорит градоначальник Лехто фон Адлеру, который, на беду, стоит рядом. Но в ответ фон Адлер сухо роняет:
— Гордость? За кого—за Финляндию или за Российскую империю?
Градоначальник поворачивается к нему спиной, свирепо пыхтит сигарой. Фон Адлер усмехается, но улыбка выходит весьма горькая. Какое одиночество—чем больше людей вокруг, тем оно острее. Интересно, где Вернер? — думает он.
А Вернер сидит в большой ресторанной кухне, в углу, за громадным столом. Пьет, закусывая хлебом и сыром; рядом с ним Манда, взгляд ее спокоен и безмятежен. Вернер задумчиво рассматривает ее крупное, красивое, чуть угловатое лицо. Несмотря на возраст—ей, верно, лет сорок,— она как бы лучится молодостью. Глазами да и всем обликом она очень напоминает Эльсу. Вернеру вдруг становится здесь уютнее, чем в собственном доме, среди одиночества. Кругом шум, беготня, кричит главный повар, кричат официантки, а ему все равно хорошо сидеть тут, даже дела отступают куда-то вдаль. От Манды веет покоем, и не только покоем. Он глядит на ее рот — пухлый, красивый.
— Консул любит рассуждать о белых кувшинках?
Манда поднимает взгляд.
— Странный вопрос. Очень странный. Ты говорил с ним?
— Да.
— Однажды он долго беседовал с консульшей о кувшинках, об их запахе, напоминающем ему о смерти. Я помню, потому что консульша не хотела слушать, а он знай толковал о своем. О корнях в песке, о длинных вьющихся стеблях, о кувшинках в живописи, о тлении...— Помолчав, Манда добавляет: — Он ужасно одинок.
Вернер думает так же. Спрашивает;
— Отчего ты не уйдешь?
— Ее жалею. Да и куда мне идти? Я много лет неотлучно была при ней и при детях.
Она отводит взгляд, молчит, рассматривая свои руки.
— История с гильотиной — просто ребячья шалость. Тебя ведь не это тревожит, Манда?
— Нет.
— Что-нибудь в консульском доме?..
— Да,— кивает она.— И не только там. Ночью проснусь, бывало, и слышу странные звуки, будто кто-то стучит в стену, какая-то неведомая беда, она в самом воздухе, которым мы дышим.
— Это наш век потихоньку сходит в могилу. Ты не бойся. Полицмейстер всегда тебя защитит.
— Вернер сам чувствует, что пошутил неудачно. Он накрывает ладонью руку Манды, толком не зная, можно ли задержать ее там, но она свою руку не отнимает. С каких это пор он так во всем сомневается?
— Вечер-то какой стал,— говорит он,—ясный, спокойный.
Оба смотрят в окно—лунный серп, два одиноких облачка в вышине, небесная глубь, куда ни глянешь, а круженье праздника —это лишь обманчивый образ,, отраженный в зеркале. Какое им дело до всех проказ, маскарадов, праздников, криков, голосов? Если можно посидеть вот так. Какое им дело до путаных картин жизни? Постоянно доискиваться до глубинного смысла...
Заметив Нильса Нильссона, Вернер машет ему рукой.
— Я здесь. Садись-ка выпей пива.
— Благодарю.— Нильс вежливо отказывается, лицо у него усталое, осунувшееся.— Я оставил у тебя на столе кой-какие заметки...
— Ларе?
— Да.
— Слушай, Нильс, не в службу, а в дружбу: передай консулу с супругой и Франсу, что я хочу встретиться с ними, скажем, послезавтра утром либо у меня в конторе, либо дома у консула, смотря как им удобнее. То же передай и фон Адлеру.
Нильс открывает рот, как бы желая что-то сказать, но, передумав, молча кивает и уходит. Только теперь на Вернера наваливается усталость. Видно, уже за полночь. Со сном по ночам стало худо, еще до убийства Анны Перс. Что-то словно утекает у него между пальцев. Высший смысл, если он когда-либо верил в него. И страх, который шныряет всюду, словно сорванец мальчишка с Горы, за которым гонится другой, больше и сильнее,— смерть. Глаза слипаются. Манда помогает ему надеть форменный сюртук.
— Можешь меня подменить? Скоро уже конец,— говорит он в вестибюле Нильсу Нильссону.
Да, скоро конец. Еще продолжаются танцы, но танцоров поубавилось. Голоса звучат невнятно, что-то бормочут, пищат, выкрикивают.
— Ты тоже идешь? — оборачивается он к Манде. Та кивает.
Улицы и переулки объяты покоем, деревья и дома погрузились в тишину. Далеко впереди виднеется какая-то пара—женщина в воздушном белом наряде, мужчина почти скрыт тенью. Потом и эти исчезают.
Манда и Вернер медленно шагают по берегу. С парусников доносятся голоса, тихие, как вечерние волны. Ка лунную дорожку вдруг выскальзывают два лебедя. Манда хватает Вернера за плечо.
— Смотри!
Они провожают взглядом темных птиц, на секунду сверкнувших белизной оперения.
Внезапно, неведомо чем испуганные, лебеди взмахивают крыльями, сперва тяжело, потом все быстрей, быстрей— слышатся хлопки, будто стреляют из пистолета; птицы скользят по воде, вспарывают ее, как кожу, крылья мерно и громко бьют по воздуху. Манда сжимает руку Вернера, сердце ее бьется так же громко, так же испуганно.
Огромные птицы растворяются во мраке.
— Наверно, это было знамение,— шепчет она.
— Знамение чего? — шепчет он в ответ. Смотрит на Манду — какое серьезное у нее лицо.
Они медленно продолжают путь, останавливаются у его калитки. Смотрят друг на друга, идут дальше в темноту. В комнате Пера приоткрыто окно, Вернер вслушивается — ни звука. На миг он привлекает Манду к себе, и она не отстраняется. И у него в комнате тоже, и потом, когда он в конце концов засыпает, усталый и счастливый, рядом с нею.
Рано, на рассвете, когда всюду разлита молочно-белая тишина, Манда тихонько встает, одевается, тихонько закрывает дверь и ощупью выбирается наружу. Все спят, только птицы уже поют свои гимны во славу лета. Все чисто и ясно, каким и должен быть июнь в дачном городке вроде Нювика. Никем не замеченная, она входит к себе, сбрасывает платье, даже не думая аккуратно его сложить, вытягивается под влажной простыней, глядит на белый потолок и думает: к чему все эго — суета, недо-вольство, отчаяние? Какая глупость и безумие — убивать, жечь. Ведь божий мир так прекрасен — деревья и море, земля и живность, все-все.
И как хорошо, что можно любить.
25. Развязка
Солнечные лучи пробиваются сквозь нежную зелень, тени мягко скользят по двум простым деревянным гробам, что стоят на кладбище, каждый возле своей могилы. Копать здесь нетрудно, думает Вернер, почва песчаная. С мертвыми хлопот куда меньше, чем с живыми.
Он смотрит на серо-буро-черную группку старух, без которых не обходятся ни одни похороны; нередко они держатся поодаль, но сегодня сгрудились вокруг пастора, ловят на лету его слова об очищении испытанием, о поверженных, которые возвысятся, о последних, что будут первыми. Вздохи и жалобы слетают с их губ. Старика Блома проводить некому, родных у него не осталось, и мало кто помнит о нем в этот день—только полиция, да Вернер, да фон Адлер. Они стоят молча, на лицах печать усталости. Здесь же у гроба Анны и Ларе Перссон, а с ним безмолвная горстка обитателей Горы, принаряженных, неловко сжимающих в руках букеты сирени и полевых цветов.
Из Або не приехал никто.
Опустив в могилу бренные останки Анны, Ларе и еще трое обветренных загорелых мужиков берутся за гроб старика Блома. Ничто не нарушает покой этого места, лишь визгливо хохочут церковные галки, но они всегда здесь. А колокола звонят так мирно.
Вернер и фон Адлер неторопливо шагают по дорожке. Шум рынка у пристани все громче. Жизнь продолжается.
— Я хочу, чтоб ты пошел со мной,— говорит Вернер,—потому что целостная картина — или ее отсутствие— одним боком смыкается с болезнью, а это твоя вотчина.
— С душевной болезнью? Ты же знаешь, я пользую всего-навсего водами да грязями.
— Ты достаточно видел таких вещей.
У дальней калитки оба останавливаются, смотрят на город, залитый утренним солнцем.
— До чего же он юный, наш мир,— произносит фон Адлер.— Мы уйдем, а все это: трава, деревья, море, и торговцы на рынке, и лодки в гавани, и возы на дорогах, и великаны дубы у нас над головою,— все будет жить как ни в чем не бывало. И через год-другой о нас вообще никто не вспомнит. Как странно. Как быстротечно.— И добавляет: — Слушай, Вернер. Когда я умру, пусть сделают вскрытие, но священника не надо. Если захочется, скажи несколько слов, от себя. Ты можешь за этим проследить?
— Конечно,— кивает Вернер. Солнце так слепит глаза, что он невольно щурится.
Они глядят на крыши домов, ка зеленую воду, на пухлые летние облака, на беспокойную пестроту жизни. С кортов доносится веселый смех и удары ракеток по мячу.
В летней кофейне под открытым небом, у лодочной пристани, полным-полно разодетых господ и дам, кругом зонтики, тросточки, летние шляпы, вуалетки. Караульный—городовой Шёман — приветствует их у рединговской калитки, став во фрунт. Они проходят сквозь полумрак в прохладу и зелень заднего двора, где их ждет кофе. Манда постаралась на славу.
Все уже собрались, кроме Франса и Эжена. Пер сидит на качелях, против него Луиза. Качели почти не двигаются. Пер и Луиза тоже. Консул и консульша—в своих летних креслах. Сквозь листву огромного дуба на всех струится свет.
— Мой сын придет с минуты на минуту, он поздно встает,— говорит консульша. Она бледна, хрипловатый голос звучит еще глуше обычного, темные тени под глазами старят ее.
Зато консул выглядит свежим и отдохнувшим. Приглашает всех сесть, восклицает:
— О, доктор фон Адлер, какая приятная неожиданность!
Не успел он договорить, как появляется Эжен. Встает позади кресла матери, резко бросает:
— Можно начинать представление!
— Повременим. Наш замечательный художник заставляет себя ждать. Вот придет он—тогда, как ты говоришь, можно будет начать представление. Мы все сгораем от любопытства.
Манда приносит кофейник. Она без передника. Заметив это, консул недовольно морщится, но не говорит ни слова. Пока она разливает кофе, все молчат, только забавницы ласточки рассыпаются щебетом над цветущим зеленым садом. Наполняя чашку Вернера, Манда стоит совсем близко, он даже различает светлый пушок на ее загорелых руках. Усилием воли он направляет свои мысли к предстоящему, надо сосредоточиться и разрушить торжественность минуты, вдребезги разбить эти декорации.
В калитку входит Франс Альмгрен, под мышкой у него две картины.
— Дорогу искусству!—кричит он.—Дорогу революции!
И быстро ставит один подле другого портреты консульши и Анны Перс, прислоняет их к крыльцу; взгляды присутствующих устремляются на холсты. Портрет консульши выписан тщательно, в реалистической манере и едва ли не статичен—только лицо полно жизни. Отблески красок, свет меж деревьями, тени и легкий утренний ветерок делают его еще более живым. Картина дышит суровостью и безысходностью, думает Вернер, только Франс, наверно, и изведал такое. Любопытно, видит ли это консул? А рядом Анна Перс, торопливый набросок, новый вариант, поспешные грубые мазки шпахтеля — вот она, мертвая, воплощение смерти.
— Ну?! — нетерпеливо восклицает Франс.
— Уберите Анну,— ровным голосом говорит консул,— контраст слишком велик.
— Еще бы! — кричит Франс, и все замечают, что он слегка навеселе.— Контраст! Жизнь против смерти! Красота живая против красоты мертвой!
Его голос так не вяжется с листвой и цветами, с тишиной и напряженным ожиданием.
Вернер Фрид наклоняется вперед.
— В умирании нет красоты, Франс. В смерти, быть может. Но никак не в убийстве. Анну задушили. Вот исходная точка. Начало чего-то, что, как я думал, складывалось в целостную картину...
Он умолкает, глядит на всех. Консул закуривает, Франс, лежа на траве, мерит соломинкой небо. Эжен, как и раньше, стоит за спиной матери, Сесилия касается его руки, но только на миг: он тотчас отдергивает руку. А качели вдруг начинают раскачиваться, ножка в белом чулке выпрямляется. Время будто замирает, обратившись в слух.
— Думал? — переспрашивает фон Адлер.— Значит, по- твоему, никакой целостной картины нет?
— Смерть Пера Якоба Перса...—Вернер откашливается.—Убийство Анны. Пожар. Старик Блом. Гильотина. Была ли тут связь? Не похоже. Потому-то я и решил, что она была, в особенности когда узнал, что Ларе Перссон того же мнения. Я начал проверять факты. А при ближайшем рассмотрении они склонны утрачивать четкость, расплываться и сбивать нашего брата с толку. На факты слепо полагаться нельзя. Факт—это нечто происшедшее и одновременно кое в чем уже забытое.
На минуту он умолкает. Франс приподнимается на локте.
— Это же лекция по философии или о том, как...
— К делу,— перебивает консул Рединг, покачивая ногой в белом ботинке.
— К делу,— соглашается Вернер и проводит рукой по волосам.—Франс нашел Анну мертвой. Когда я осматривал ее комнату, все там было аккуратно прибрано, даже слишком аккуратно. Только постель говорила о том, что в ней лежали двое. Вторым был Пер. Он в конце концов рассказал, как все было, спьяну он и не заметил, что Анна мертва, только после разобрался. История по-детски бесхитростная, до того бесхитростная, что вполне могла оказаться правдой... Или ложью. Смерть манила тебя, Пер, с той самой поры, как... как умерла твоя мать. Вон Луиза свидетель, в какие игры вы играли на Горе, какие сказки рассказывали про злую безвременную смерть...
— Мы просто играли! —кричит Луиза, она даже привстала, вся в белом, словно вобрала в себя свет до последнего лучика. Но Пер заставляет ее сесть.
— Да, но разве это что-нибудь доказывает? — говорит
он.
— Только одно: прямо-таки напрашивался вывод, что именно ты...
Консул улыбается, стряхивая пепел.
— Но я же...
— Алиби у тебя нет,— перебивает Вернер сына, быть может излишне резко.— Но у других его тоже нет. В том числе и у Франса.
— У меня? Но с какой стати мне убивать Анну?! — Франс сверлит Вернера взглядом, точно вдруг увидел в нем врага.
— Вот как? А разве тебе она не грозила отцовством?
Пронзительно, резко щебечут ласточки, их гомон
только подчеркивает напряженную тишину. Консульша подается вперед.
— Выходит, девушка была...
— ...беременна? Да, совершенно верно. Кто был отцом ребенка, нам неизвестно. Подозреваю, что это один из присутствующих.
— Безумие! — бросает консул Рединг бесстрастным тоном.
— Да, безумие! Оно ведь частица целого. Отчаяние, угрозы, внезапное бешенство... можно себе представить. Итак, во-первых, вопрос Перу: тебе она угрожала?
Луиза сидит как изваяние, глаза опущены, а от этих слов руки на коленях вздрагивают.
— Да. Только я не понимаю, как... Я же тебе рассказал...— хрипло отвечает Пер.
Но Вернера теперь не остановишь, он перебивает:
— Есть тут еще кто-нибудь, кому она грозила разоблачением?
Франс опять укладывается на траву.
— Мне она намекала... что, мол, изменится как натурщица. А больше ни гугу.
Сесилия встает, консул поднимает глаза, но она, не говоря ни слова, медленно идет к крыльцу, потом возвращается на свое место. Лицо ее — непроницаемая маска.
— Есть еще одна деталь,—продолжает Вернер.— Повыше склада я нашел перочинный ножик со сколом на рукоятке. Нильс Нильссон обнаружил недостающий обломок... у тебя в комнате, Пер.
— Я тут совершенно ни при чем! — выкрикивает Пер, голос его дрожит.— Ножик я потерял давно, чуть не месяц назад! И на церковном холме я не был...
— Не был? А память ты потерял вечером накануне убийства. Когда вы с Эженом бражничали в обществе изысканной бутылки коньяка, которая явно попала к вам из запасов консула, притом без его ведома. Кстати, точь-в-точь такая же бутылка была найдена у Анны Перс, верно, Эжен?
Эжен не отвечает, покачивается из стороны в сторону, красные пятна выступают на бледном лице, будто сыпь. Взгляд бегает. Бедняга, думает Вернер, а вслух говорит:
— Вся эта история с коляской—обыкновенная шалость, правда? Кукла, поджог...
— О-он все время твердил, что будет отцом и что ему сей же час нужна детская коляска...
Эжен прямо захлебывается словами, рукой показывает ка Пера, а тот кричит:
— Ах ты, Иуда!
Консулыиа прикрывает ладонью глаза, Луиза отворачивается.
— Где вы ее нашли? —быстро продолжает Вернер.
— Как где?
— Пер говорит, коляска стояла на Хенриксгатан, во всяком случае он вез ее по этой улице.
— Точно, там она и была!
— Но как же так? Сперва ведь она стояла на улице Бадаллён, у дома Даленов. Выходит, кто-то отвез ее на Хенриксгатан. Зачем? Зачем бы пьяный Пер стал это делать? Уж не по твоему ли наущению? Не ты ли наговорил ему про какое-то темное преступление, про ночь у Анны Перс...
— У этой шлюхи! — кричит Эжен, отшатываясь назад. Консулыиа сидит как каменная, не в силах обернуться.
— Но это же абсурд! Я протестую...— говорит консул.
— Минутку,— останавливает его Вернер.— Откуда у нас сведения о коляске? От Эжена. Почему Эжен ходил к Ларсу Перссону? Зачем ему понадобилось упоминать, что «коляску взял Пер»? Пер тебе рассказывал, что Анна грозила ему отцовством. А ты обозлился, да? На Пера. У тебя в комнате полно кукол. И разве не твоя кукла сгорела там, на складе? Ты ведь слышал, как она кричала?
Эжен затыкает уши.
— Нет!
— Стащить у Пера ножик было проще простого, а подбросить к нему в комнату отбитый кусочек—дело и вовсе пустячное. В последнее время тебе, конечно, становилось труднее и труднее удерживать все под контролем. Слова старика Блома о том, что «отец не ведает, чем занят сын», с таким же успехом можно отнести к тебе и твоему отцу, как ко мне и к Перу.
— Он мне не отец! И я не убивал!
— История с гильотиной — это шутка, ты хотел только припугнуть, верно? Но коляску и пожар шуткой не назовешь. Ты сжег ребенка, Эжен, живого ребенка, а под ногтями у Анны Перс мы обнаружили обрывки ниток...
— Я тебя ненавижу, ненавижу! Всех вас ненавижу, всех! — Эжен с криком отступает назад.— Вы все меня обманывали! Мама с Франсом, Луиза с Пером, Пер с Анной, все, все! Все вы замараны, все в крови— посмотрите на себя!
— Посмотри и ты на свои руки! — бросает Вернер, громко, отчетливо, беспощадно.
Эжен с воплем бежит к невысокому соседскому забору, туда, где в живой изгороди из сирени виднеется просвет, вспрыгивает на штакетник—и исчезает, крики его стихают вдали, как крики птиц.
— Черт побери!
Все испуганно вскакивают, а Вернер в ту же секунду устремляется к уличной калитке, на бегу кричит караульному:
— Шемаи, скорее! За ним!
Шёман неторопливо поднимается из травы в сквере Рунеберга и глядит вслед Вернеру, который уже сворачивает за угол, на Хснриксгатан. Вернер знает свой город, знает, что путь у Эжена только один. Вон он, выбежал из переулка Сниккаргренд.
— Стой! — кричит Вернер, но Эжен мчится во весь дух, только белая рубашка мелькает, прохожие расступаются, Эжен летит прямо к человеческому муравейнику на пристани. Шум, пестрота, все в непрестанном движении, кулисы-дома бегут мимо, крики Вернера несутся вдогонку. Вернер бросается наперерез по прибрежной лужайке. Днем раньше садовник Койву повалил наземь причудливо извитой бортик из крашенных в зеленый цвет металлических колец, Вернер его не видит, не знает, что он там, и—с размаху падает, вздымая тучи пыли.
Наконец он встает, ладони в кровавых ссадинах, а Эжен уж на причале, бежит, натыкаясь на людей. Слишком поздно, не успеть—Вернер слышит гомон чаек и грохот опрокинутого рыбного лотка. Из груди у него рвется крик, последний пронзительный вопль о помощи,— белая фигура впереди на миг повисает в воздухе и исчезает в волнах.
26. Черта подведена
Эжена вытаскивают из воды, и она бросается к сыну, но ее отталкивают. Вернер с фон Адлером тормошат его, вода льется у мальчика изо рта, а сам он вял и безжизнен, как кукла. Люди сомкнулись вокруг безмолвной стеной. С колокольни доносятся одиннадцать серебристых ударов. Сесилия склоняет голову, слышно только ее мучительное, хриплое дыхание, она словно хочет последовать за сыном.
Но вот он поводит головой, начинает дышать! Хлюпает мокрая одежда, он поджимает ногу, открывает глаза. Только в них нет ни проблеска узнавания. Мать держит его лицо в ладонях, прижимает его к груди, а он, воскресший из мертвых, лежит будто неживой.
— Эжен! — шепчет она.— Эжен, мальчик мой!
Он садится, без посторонней помощи, утирает рукою рот, потом отталкивает Сесилию, медленно, точно старается повалить стену. Губы его полуоткрыты. Консул, не сводя с него глаз, нагибается к жене.
— Дорогая, не надо, он еще в шоке...
— Луиза горько плачет, Пер уводит ее. Эжена несут в коляску, которая ждет неподалеку (об этом распорядился Шёман), народ молча расступается, потом в толпе возникает тихий гул—так бывает, когда усиливается ветер.
Бережно поддерживая жену, консул ведет ее по Хенриксгатан, они идут в полном молчании. Консульша как мертвая. У калитки их встречает Манда с бутылкой коньяка.
— Вот! Это хороший коньяк,— говорит она, глядя на консула. Голос ее резок, лицо сосредоточенно.
Вместе они провожают Сесилию в ее комнату, Манда помогает ей лечь, консул молча стоит рядом.
— Он жив!—произносит Консульша, ища его глазами.
Консул не отвечает, укрывает ее одеялом, потом выходит в сад. Там все как прежде —кресла, стол, кофе, зелень, цветы, деревья. Одно кресло опрокинулось, он поднимает его, ставит на место. Достает из кармана фляжку, медленно отвинчивает колпачок, садится, наливает себе, запрокидывает голову, пьет. Коньяк обжигает горло, он закрывает глаза. И видит ее лицо, обращенное к нему из мрака: «Он жив!»
Пальцами, ногтями он с силой проводит по своему лицу, будто желая оживить его или содрать, как маску. Тени листьев скользят по белой скатерти, по его фигуре. Шум на пристани нарастает, слышен грохот экипажей, громкие голоса, крики чаек, в листве над головой гуляет ветер, небо синее, глубокое, подернутое облаками.
В калитку входят Вернер и Нильс Нильссон, их шаги гулко стучат по песчаной дорожке. Консул не оборачивается, жестом приглашает их сесть.
— Эжен вне опасности,— тихо сообщает Вернер.
— Он что-нибудь сказал? — спрашивает консул.— Сумел объяснить?..
— Нет.
— Бедняга.
Все трое молчат, потом консул осведомляется:
— Вы не откажетесь выпить рюмочку?
— Благодарю, с удовольствием,—кивает Вернер, к изумлению Нильса Нильссона. Консул зовет Манду. Сколько же молчания меж людьми, пока они ждут.
— Он не ведал, что творит, когда убивал ее,— говорит консул.— Я сделаю все, чтобы его оправдали...
— В этом нет необходимости.— Вернер устало приглаживает еще мокрые волосы. Глядит на себя: одежда в пятнах, висит мешком. Надо бы принять горячую ванну, думает он.
— То есть как?
— Эжен не убивал.
Консул смотрит на Вернера, тот отвечает ему пронзительны м взглядом.
— Это что еще за игра?
— Что верно, то верно: мы все — участники игры. Я был вынужден пойти на эго, чтобы добиться ясности. Очень жаль, что моя затея кончилась трагически. Ведь своим допросом я хотел вывести ка чистую воду насто-ящего убийцу. Пожар на складе, без сомнения, дело рук Эжена, так он излил свою ненависть к тебе. Но убить он не мог. А вот для убийцы все это было прямо подарком судьбы: и пожар, и Эжсповы неловкие попытки свалить вину на Пера... Не хочешь да подумаешь, будто он норовил скрыть убийство.
— Прелестно.— Консул наклоняется вперед.— История просто невероятная. Значит, тут замешан кто-то неизвестный, этакая тень на заднем плане?.. Но давайте выпьем, господа!
Вернер единым духом осушает рюмку, кривится.
— Бр-р! Так дорого стоит, а на вкус—жуткая горечь. Как у Анны Перс, тютелька в тютельку. Когда я осматривал ту бутылку, у меня тотчас мелькнула мысль, что ее мог принести Эжен, только вряд ли он стал бы так тщательно прибирать комнату.
Консул снимает пенсне и, протирая стекла большим белым платком, с отсутствующим видом роняет:
— Вот ка-ак?
— Другой вариант—это ты.
Консул изучает стекла на свет.
— Вздор.
— Она и тебе грозила. А что в этом удивительного? Ты же наверняка знал ее по Або. Своими угрозами она могла вызвать скандал и вконец подорвать твои и без того уже пошатнувшиеся дела. Разрушить все, что ты оберегаешь. Ты педант, все вокруг тебя должно быть упорядочено, должно следовать определенному образцу, складываться в определенную картину. Ты терпел связь своей жены с Франсом, покуда она была тайной. К Анне ты являлся и исчезал как тень. Но порою и тени оставляют следы.
Консул Рединг снова закуривает, гасит спичку, оцепенелым взглядом смотрит на Вернера.
— Фантазер! Ты всегда был фантазером! Выдумываешь бог знает что. У тебя нет даже намека на улики.
Нильс Нильссон не смеет шевельнуться, только руки невольно сжимаются в кулаки. Вернер всем телом подается вперед.
— Кое-что есть. На рейке оконного переплета я нашел обрывок нитки, от пиджака...
Консул презрительно глядит на Вернера, глаза его сужаются, пальцы скрючиваются, как когти.
— Я был без пиджака!—бросает он.
— Знаю,—тихо говорит Вернер.
Очень медленно консул откидывается на спинку кресла, прикрывает ладонью глаза. Вдруг наступает тишина, даже тени словно замирают. Кожа на лице у консула так натянута—вот-вот лопнет; когда он отнимает руку, в глазах нет жизни, только стеклянный отблеск. Взгляд устремлен на Вернера, но видит ли он его? Со стороны кажется, будто эти двое без слов понимают друг друга, будто они вместе оплакивают какую-то утрату.
— Я просто обмолвился,—говорит консул.—Но мне не хочется вносить поправку.
— Ты не обмолвился,—качает головой Вернер.
— Поверишь ли, ко еще ребенком я хотел... умереть. От людей я слыхал рассказы о любви... И все же не знаю, что это такое. Может быть, то, что встрепенулось во мне... на миг... вот сейчас, после несчастья с Эже-ном...—Помолчав, он медленно продолжает:—Причину надо искать в далеком прошлом. Ведь я был приговорен еще до того, как... Я убивал вовсе не ее, а что-то иное, все мертвое, все безжизненное во мне самом—вот что я пытался уничтожить... чтобы могли жить другие. Чтобы могла жить Сесилия.
Тишина. Звуки голосов—как эхо.
Консул встает.
— Вся моя жизнь, наверное, шла к этой обмолвке, Вернер. Веришь ли, но я испытываю огромное облегче-ние.
Вернер тоже встал.
— Да, верю.
— Аксель! — На крыльце стоит Сесилия, бледная улыбка блуждает на ее губах.
— Вы позволите? Всего одну минутку?—говорит консул.
Вернер кивает. Аксель Рединг подходит к жене, она припадает к нему, он обнимает ее за талию, уводит в дом. Нильс Нильссон устремляется было за ними, но Вернер его останавливает.
— Не надо. Да и Манда там, присмотрит за нею после.
В доме ни звука. Сидя у постели Сесилии, Манда едва
слышит, как консул бережно кладет руку жены на одеяло и тихо выходит из комнаты. Все вокруг обмякло в изнеможении, будто сию секунду миновала какая-то опасность. Пo-прежнему тихо Рединг выходит в переднюю и открывает дверь на чердак, потом затворяет ее за собой и запирает на ключ.
Наверху темно, пахнет как в детстве — старым деревом и солнцем. Манда сняла высохшее белье, веревка провисла. На миг он заглядывает в комнатушку Эжена, из дальнего окна льется свет. Перепуганная ласточка вспархивает, мечется под стропилами—и вот уже летит сквозь разбитое чердачное оконце прочь отсюда, к зелени и лету, на волю.