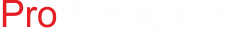ЧАСТЬ I
1. Пер
Она лежит, касаясь плечом края кровати и отвернув голову. В сумраке июньской ночи волосы как смутная тень на белой подушке. Окно распахнуто настежь, но занавеска не шелохнется.
Пер стоит, прислонясь к дверному косяку, совсем холодному на ощупь, и напряженно вглядывается в темноту. Потом подносит к пылающему лицу зажатый в кулаке ключ. Он понимает, что пьян, хриплое дыхание рвется из груди. Только бы лечь, заснуть, догнать сном одиночество, быть может, найти хоть немного тепла, укрывшись полумраком. Он проводит рукой по глазам. Прислушивается. Но вокруг все молчит. Ему сейчас ничего не надо от нее. И ей от него тоже—спит она, крепко спит. А вдруг он ее разбудит, вдруг она ринется на него, с жаром отчаяния, так хорошо ему знакомым?
Он очень устал. Опускается на стул, снимает башмаки, покачиваясь взад-вперед. Комната полна сладкого аромата, наверное, это жасмин—вон сколько пышных кустов темнеет в саду среди ночного безмолвия. Пер икает, пробует задержать дыхание.
Под окном слышен шорох, мелькает призрачная тень, он не успевает разглядеть, что это, сидит будто завороженный. Чувствует вдруг, как тяжел воздух в доме. Он лениво течет по комнате, собирается в углах, густо обволакивает каждый предмет—стол с чашкой и кофейником, несколько рюмок, стулья, умывальник, кровать, где, как неживая, лежит она.
Нащупывая опору, чтобы встать, Пер слышит серебристый бой часов, доносящийся с того берега бухты, из монастырской церкви. Горло перехватывает, глаза наполняются к спящей, и вот уже его рассудок и тело медленно скользят в пучину сна.
Ее глаза полуоткрыты, остекленевший взгляд устремлен на стену, губы кривит гримаса отвращения. Косынка тугим жгутом сдавливает шею, простыня наполовину сползла, скрюченные пальцы замерли у горла. В комнате и правда висит сладковатый запах, запах смерти, и все цветы июньского сада не в силах заглушить его. Сонный шмель, жужжа, тычется в стены, потом летит к светлому прямоугольнику окна и выбирается на волю.
Проходит час, другой, третий—Пер просыпается. Во рту какой-то мерзкий привкус. Он со стоном садится, опускает ноги на сверкающий чистотою пол. Заметив на полу ключ, решительно поднимает его; широкие, добела выскобленные половицы прохладны и гладки, будто жи-вое тело. Пер тупо глядит на свои башмаки, брошенные под стул, машинально переводит взгляд на плетеное кресло, куда она обычно аккуратно кладет свою юбку и корсаж. Там пусто. Он вздрагивает как от удара, обора-чивается и нащупывает ладонью ее плечо, а у самого сердце замирает от страха; наконец он откидывает про-стыню. Девушка не шевелится.
— Анна! — шепчет он.— Анна!
Половицы пружинят под ногами, когда он обходит кровать и останавливается по другую сторону. Теперь ему видно: она лежит на спине, в глазах безжизненный стеклянный отблеск рассвета, но своего огня в них нет. Язык, губы—распухшая масса над петлей косынки.
Шатаясь, он пятится назад, из груди вырывается глухой стон. Рука что-то задевает—умывальный кувшин падает и разбивается, вода растекается по полу, меж черепков с орнаментом из роз. Все распадается, в полной тишине.
Смотреть нету сил—Перу удается кое-как прикрыть ее простыней, теперь на постели просто некий предмет, чуждый ему и далекий, издевательски ухмыляющийся. Корчась от боли, он идет к стулу, шарит под ним в поисках башмаков, а широко раскрытые глаза неотрывно глядят в окно, за которым едва брезжит утро. Но вот он обулся, смотрит на кровать, непослушными руками пытается расправить одеяло. Немного погодя у порога взвизгивает половица, громко хлопает дверь, однако соседи ничего не слышат.
Неожиданно совсем рядом раздается скрип, и тотчас откуда ни возьмись выныривает старик Блом со своей тележкой—к пристани спешит. При виде Пера он застывает, но не произносит ни звука.
Потом, все так же молча, вдруг стаскивает с головы ветхий котелок, гримасничает, машет руками, кланяется, приседает; обтрепанный черный сюртук, полученный некогда в подарок от вдовы градоначальника, топорщится на нем, словно чересчур просторный заскорузлый панцирь; внезапно Блом показывает на Пера пальцем. Лицо старика, неопрятное, заросшее щетиной, перекошено, на нем будто застыла маска смерти. Пер прикрывает глаза рукой.
— Нет!—шепчет он.— Нет!
А когда убирает руку, Блома как ветром сдуло, лишь скрип тележки удаляется по Хенриксгатан. Пер делает несколько неуверенных шагов, озирается по сторонам, но старик точно сквозь землю провалился. Далеко внизу свинцово поблескивают волны; рассыпанные по склону дома—зеленые, желтые, красные стены с белыми угла-ми— хранят безмолвие, окна закрыты белыми гардинами. Все спит.
Опустошенный, скованный душевным оцепенением, Пер бредет дальше, пересекает Хелманов пустырь, отыскивает просвет в живой изгороди из кустов шиповника и через секунду оказывается у себя во дворе. На миг приникает ухом к двери—тишина. В передней— всегдашний сухой запах краски и кожи.
Ему вдруг мерещится зов: «Пер!»
Это ее голос, громкий, испуганный. Вздрогнув, Пер замирает как вкопанный, но крик не повторяется, во дворе бело и пусто. Он с трудом переводит дух.
Дверь его комнаты приотворена—забыл закрыть, только вот когда? Он тихонько подходит к своей кровати, никого там нет, никто не умер, ему привиделся дурной сод, кто-то хочет его погубить; он ложится на постель, скользит взглядом по стыкам досок на потолке, будто висит на границе сна и яви, как в силке, а покуда петля затягивается, привстает на локте и кричит:
— Это не я!
Кричит? Или шепчет? Потом вновь падает на подушки, проваливается в сон.
В курятнике у возчика Йонссона ехидно горланит петух. Солнце мало-помалу согревает смоленые гонтовые крыши Нювика. Оживает городская пристань, слышны голоса, визжат уключины, скрипят на козлах доски, плещет, рассыпаясь искристыми каплями, вода, которой окатывают рыборазделочные столы, и все эти звуки сливаются с легким шорохом утреннего ветерка—от осторожно перебирает листья кленов в Водолечебном парке, шелестит ветками сирени в саду полицмейстера, колышет белые занавески там, на Родмансбринкен, в безмолвной комнате, где лежит Анна Перс, словно желая расшевелить девушку или показать неведомо кому, как молчалива смерть.
2. Вернер
Отчего Нювик зовется Нювиком, ни один из корен-ных его обитателей не задумывается. Бухту едва ли назовешь новой, а уж в сумятице рыбачьих лодок, шпринтовных парусов, кривых мостков, бочек, головных платков, ярких зонтиков и нарядных белых платьев вперемешку с коричневыми и черными сюртуками, когда над бурой, усыпанной всевозможным мусором водой длинным шлейфом стелется дым парохода из Або, город напоминает древний водоем, хранящий в глубине тайны давно минувших дней: брошенные второпях сокровища из старого монастыря, разграбленного, уже исчезнувшего с лица земли, мертвые тела, второпях отправленные на дно, и прочие останки, а над всем этим белыми платочками реют чайки.
Новой бухта была разве что для разбойников, которые, ища в здешнем краю поживы, некогда высадились вместе со своими подружками у Целебного мыса и сквозь непролазные дебри ивняка и ольшаника взобрались на Гору — она так до сих пор и зовется просто Горою и
затеняет с юга узкий прозрачный пролив. На Горе разбойники стали лагерем. Кто-то из них прищурился, глядя на солнце, и сказал: «Все новые бухты похожи одна на другую».
Вот поселок и нарекли Нювиком, Новой Бухтой.
По крайней мере Вернер Фрид, выбираясь из переул-ков старого города на Гору глотнуть свежего воздуха, думает, что все было Именно так. Но в это славное июньское утро он, хмурый и заспанный—тело еще налито тяжестью, запонка для воротничка буравит шею,—сидит в конторской части дома за своим старым обшарпанным столом и только в мечтах представляет себе прохладное летнее утро, широкий вид на сверкающее в шхерах море, на зеленые леса, на город у своих ног—уютную горсточку крыш и проулков. Игрушечные домишки, ей-богу! А внутри Керосиновые лампы, закопченные изразцовые печи, истощенные детишки, разбитые окна, залатанные старыми газетами; и пьянство там, и чудовищная 1рязь, и нищета, и чахотка, и голод—другая сторона, изнанка жизни среди этой буйной зелени и умиротворенности. И тут же рядом—сливки городского общества в своих многолюдных салонах, где он, Вернер, вечно что-нибудь опрокидывает и роняет. Пухлые диваны, кровати, похожие на сверкающие медью боевые корабли, семейные портреты на вязаных салфеточках, вязаные накидуппси на стульях и столиках, маленькие шаткие подставки с пальмами и лилиями, застекленные веранды, бокалы и бутылки, служанки в белых передниках; а в довершение всего с первых дней июня и до самого августа пестрый, шуршащий, галантный поток дачной публики, что приезжает сюда развлечься, погулять, посплетничать, подправить расшатанное здоровье, отдалить на время свою погибель, рука об руку пройтись в сумерках под редкими газовыми фонарями, увлекшись тихой беседой, мимо романтических переулков, где нет-нет да и мелькнет ущербным месяцем бледное детское личико или внезапный крик разрушит настроение, созданное пронзительным пением скрипок октета «Луи» в Водолечебном парке. Стоит какому-нибудь рабочему с Горы пойти через парк, и на него тотчас со всех сторон наведут лорнеты. Все умолкнут. Дамы подберут юбки, и этот шорох—точно песок в глаза строптивцу. А воздух прямо загудит от напряжения, словно комариный рой.
Вот это-то он и обязан держать в узде, под контролем, крепко, чтобы все было тихо-мирно. Прищурясь, Вернер смотрит на усеянный пятнами и царапинами стол, где в нижнем левом углу какой-то бедолага предшественник вырезал крест и слово ЗАКОН. Какой закон? Закон о всеобщей жестокости? Вернер Фрид подпирает голову ладонями и глядит на фронтон дома, принадлежащего торговцу Русенбладу.
Смотреть там не на что, все по-старому.
Спал он скверно, слышал, как поздно ночью, на рассвете уже, вернулся Пер. Чем же это парень занимается? Ведь, того гляди, вконец отобьется от рук. Чего он только не делал после смерти Эльсы, а все-таки одиночество стало между ним и сыном. Пер чуждается его.
Вернер проводит рукой по редким темным волосам, уже тронутым сединой. Листая протокольный журнал, с болезненным чувством тревоги в душе машинально подытоживает: с начала июня четыре поножовщины, без смертельного исхода; несколько выбитых окон; несколько случаев незаконной торговли спиртными напитками; несколько мелких краж, в основном с голоду; корова забрела на пристань; у консула сбежала собака; утонул рыбак Пер Якоб Перс. Вернеру вспоминается Анна, дочь Пера Якоба. Сколько же раз ее заносили в этот журнал, за распутство?! И при такой-то жизни вся прямо светится, грязь к ней будто и не пристает...
Он отодвигает журнал в сторону, а перед глазами все стоит залитое слезами лицо Анны, и слышится крик: «Отец же умел плавать!»
Только это весьма мало похоже на правду: ведь ни один из местных рыбаков плавать толком не умеет.
Да и бутылка в кармане мокрой куртки сказала свое слово.
Вернер Фрид переводит взгляд на фотографический портрет своей покойной жены Эльсы. В нарядном платье, она стоит, слегка опершись рукой о витую колонну, а на заднем плане высятся величавые горы. Взгляд ее безмятежен. В руках она держит веер—фотограф навязал. Эльса была не из тех, кто ценит в этой жизни мишурный блеск. Мысли Вернера Фрида путаются, он чувствует себя этакой неподъемной каменной глыбой. И воротничок еще не пристегнут.
Необъяснимое беспокойство снедает его. Воображение разыгралось? Или что-то назревает, уже давно, и вот-вот грянет буря, а пока из глубины ленивыми пузырями поднимаются таинственные газы и лопаются на мнимо спокойной поверхности? Суеверия, пророчества, поверья, рассказы о привидениях, о нечистой силе — он слышал их во множестве, они разносятся по ветру, точно семена сорных трав, пышно цветут везде и всюду, накрепко «растают в самые укромные уголки, в том числе и в плюшевые диваны. Сочатся, как сырость, из ветхих дощатых стен, когда всходит луна и тени в переулках Пювика становятся резкими и отчетливыми. Пятнами проступают наружу сквозь обои и портят узор.
Вернер не придает им большого значения. Он привык мыслить спокойно, ясно и методично. Нудный сухарь, утверждают некоторые, но кто знаком с ним поближе, судит иначе. Правда, таких не много. В клубе он обыкновенно рассказывает истории, вызывающие умеренное оживление.
Порой, услыхав собственный голос, он вдруг замолкает. Если в голосе звучит фальшь. Фальшивое панибратство.
Он смакует это слово. Брожения? Не за горами начало нового века и катастрофа—это яснее ясного. За самыми благопристойными гардинами таятся ненависть и страх, а в Петербурге насилие уже стало очевидным. Кругом шушукаются, секретничают, доносят, шпионят, интригуют и вынашивают всяческие планы. Царские офицеры держатся в Нювике особняком — элегантные, воспитанные, при деньгах. И при девушках.
Шумные развлечения, беспечность—это только одна сторона жизни курортного городка, Вернер видит и другую: жизнь бедняков, угнетенных и тех, кто замышляет бунт.
А между ними он — посредник, примиритель. Надо просто иметь глаза и смотреть, как можно внимательней.
Он расправляет плечи, чувствует, как лоб покрывается испариной. Годы дают себя знать.
Если бы хоть от Пера было больше помощи. Но вечерами сын уходит и возвращается за полночь, вместе с Эженом Редингом... Консульский мальчишка, странно переменчивый, беспокойный, во взгляде что-то зыбкое, словно лунный блик, неуловимое, загадочное. Лишь одинокие страдают этим недугом.
Он не может отрицать, что ему страшно. За светской жизнью он видит ярмарку, где торгуют живым товаром, за учтивыми фразами — холодные оценивающие взгляды, за непроницаемыми лицами рыбаков, рабочих — что-то жесткое, колючее, медленно всплывающее на поверхность...
Сыновья служанок. Презрение, нарастающее волной, все выше, выше. Оно и у него в крови, он чувствует.
Иногда ему снится кровь. Черная, она струится извергующихся губ офицера, а тому и дела нет. Когда же она пытается предупредить его, он берется за хлыст; белые брюки офицера уже в пятнах, шпоры ржавые, гнутые. Пахнет кровью.
Или ему видится кукла, до боли похожая на живую женщину, из распоротого туловища ее сыплются опилки, рот перекошен, эмалевый глаз проколот насквозь. А вокруг толпятся старухи рыбачки в черных головных платках, в длинных темных юбках, в наброшенных на плечи серых шалях, с морщинистыми скрюченными руками, галдят над нею, будто стая чаек, и скоро она будет растоптана, уничтожена.
Чайки кричат, Камнем падая вниз, за обрезками потрохов, которые Русенблад, наперекор всем запретам, продолжает швырять в траву у своей лавки.
Туча крыльев и галдеж за цветущими деревьями.
Быть может, ему самому следовало бы пройти курс водолечения, попринимать грязевые ванны и массаж—для души. Следовало бы наведаться в Водолечебницу к другу, к фон Адлеру, выложить свои горести, а потом свежим, Прохладным, с незапятнанной совестью и с улыбкой войти в новую жизнь...
— «Все горести твои—твое лишь достоянье»,— бормочет Вернер, но что там дальше, не помнит; он читал это стихотворение у Рюдберга , Пер ему показывал. Тогда он еще подумал: так вот чего хочет Пер? Ни тебе близости, ни общения? Он в свою очередь дал мальчику «Сына служанки»—все то неистовое, красноречивое, напористое, животворящее, что составляет его мир.
К одиночеству и молчанию его принудили.
Ему это не по душе.
Вернер встает, идет к окну, выходящему на Хенриксгатан, и настежь открывает его, делает глубокий вдох, расправляет плечи, потом отворачивается и разглядывает себя в зеркале, которое висит здесь с тех далеких времен, когда Вернер был молод, а жизнь била ключом, так, что дух захватывало, как в настоящих мальчишечьих приключениях. Или все было иначе? И жизнь походила на гулкий, мрачный лес, где ты отчаянно удирал от погони?
Он терпеливо изучает свое лицо. Выступающие скулы, крупный нос, узкие глаза, редеющие волосы, морщины вокруг глаз—от прищуривания. Старик, совсем старик с виду.
Недурно бы пропустить в клубе стаканчик-другой грога. Но вчера он сидел там чуть ли не в одиночестве. Он заказал слишком много. Большинство готовятся к июньскому балу. Наверно, ему бы тоже следовало принять в этом участие, но—не хочется. Есть еще в душе покой, и можно в него погрузиться. Полоска светлая на темном небе, что тает на глазах, так говаривала Эльса.
Хочешь не хочешь, а придется, однако, вызвать по телефону подкрепление. У него маловато людей, им не уследить за этим злосчастным балом—тут ведь и бенгальские огни, и фейерверк (будь он неладен!), и толпы народу, и танцы, и воришки, точно крысы шныряющие в парке, и крики—не разберешь, то ли это смех, то ли призыв о помощи.
Он подходит к плану города—замечательное произведение, двенадцать лет назад созданное руками фрекен Эммы Брюсиин и постаревшее с достоинством, равно как и его создательница. Город на плане напоминает ладонь с аккуратно прижатым к ней большим пальцем. Нужно все время проверять, как там пульс в запястье—у Заставы. Но если воспалится палец, что тогда? В минувшем году неизвестные злоумышленники в разгар бала выбили окно» а за музыкальным павильоном—что понадобилось пол-ковнику за музыкальным павильоном?—ловко сбили с русского полковника фуражку.
Допросы армейского начальства, подозрения, объяснения.
Взяв из ящика стола несколько булавок, Вернер отмечает ими стратегические точки. Пригодится—чтобы растолковать диспозицию вызванному подкреплению, если таковое будет.
Ведь ему знаком тут каждый переулок, каждая улица, каждый дом. Он способен увидеть город так, как вцдит его хищная птица,—сверху.
Это его вотчина, его участок.
Он стоит, покачиваясь с пятки на носок и обратно» баюкает себя, внушает себе, что все, мол, хорошо, все в порядке,—и в эту минуту сверху, с Родмансбрйнкен, доносится пронзительный, испуганный крик:
— Вернер! Вернер!
Он высовывается в окно и видит: по улице к нему во весь дух—пыль столбом—бежит Франс Альмгрен.
— Вернер! Анна мертва!
И он понимает: началось.
Консул откидывается на спинку плетеного стула и осторожно кладет ногу на ногу. Летучие тени скользят по белому костюму, по белой шляпе.
— Наш знаменитый живописец опять развоевался, как я слышу.
На миг вспыхивают глаза за стеклами пенсне, тонкие губы растягиваются в усмешке. Худое лицо обтянуто загорелой кожей; в руках у него тросточка с эбеновым набалдашником, пальцы выбивают барабанную дробь.
Элегантность, хладнокровие, безмятежность. Идиллия, которой чуть веет вокруг, и мирный уют провинциального городка идут ему во благо, особенно в такой ясный и прозрачный день, как нынешний. Он—ранняя пташка.
Луиза склоняется над рукоделием. Спокойно, уговаривает она себя. Солнце играет в ее волосах, рассыпанных по плечам. Белое платье в голубую полоску недавно отутюжено и кажется светлым пятном в тени огромного дуба, чьи мощные ветви, словно руки, обнимают бездонное небо над головой. Тихо. Только листья шелестят да щебечут ласточки.
Стол уже накрыт к завтраку; Монда сновала туда- сюда, а консул поправлял чашки, блюдца, салфетки, двигал стулья. Чай, свежевыпеченный хлеб, овсяное печенье, варенье трех сортов, сливки, сахар, традиционная каша и холодное молоко с ледника. Все на своих местах, и вовремя.
Крик Франса Альмгрена еще секунду-другую звучит у нее в ушах. В душе бьется тревога, она ясно уловила одно только слово—«мертва». Оно здесь не к месту и все же не удивляет ее. Сколько раз она мысленно его повторяла. Она смотрит на отчима—на консула.
Про себя она зовет его консулом, но, обращаясь к нему, должна говорить «папа». «Папа»! Или «отец». Он всегда жестом показывает, что более уместно.
Мертв. Ее родной отец мертв. У нее нет отца, так же как у Пера нет матери. Они часто сидят вдвоем на Горе и вспоминают умерших. Это как игра—с мраком и тенями. Игра с теми, кого уж не воскресить.
Консул не сводит с нее своих серо-желтых глаз. Точно принюхивается. Как она это выдерживает? А мама? Приходится терпеть, обеим, ведь никуда не денешься, волей-неволей надо общаться друг с другом.
Луиза еще ниже склоняется над работой, вышивает платочек, рука двигается легко, неторопливо, будто ловит лучи света, пробивающиеся сквозь листву, будто приметывает цветные пятна к шелковому лоскутку, пятна крови, махонькие, как божьи коровки...
— Молчишь? Вот и умница. Молчание — золото. А золото, дорогая Луиза, всем миром вертит. Нет золотишка— нет и чаишка. Верно?
Он похлопывает тростью по ноге.
— Да.
— У твоей дорогой маменьки, моей глубокоуважаемой супруги, та же привычка. Зато во сне она частенько разговаривает, бормочет, мурлычет что-то, как холеная домашняя кошка. Как по-твоему, милая, похожа она на холеную домашнюю кошку?
— Она и есть домашняя кошка.
Луиза пугается собственного голоса, он словно идет из прохладных лиственных сумерек за спиной, ясный, с легким призвуком ненависти. Это наполняет ее досадой. Надобно хранить свои чувства в тайне, тем более от него.
Консул поднимает голову и смотрит прямо в ее кроткие карие глаза.
— Любопытно было услышать. Непременно расскажу ей. Вот она позабавится.
Он намазывает ломтик белого хлеба вареньем из княженики, глаза его по-прежнему устремлены на падче-рицу.
— У маленьких тигрят тоже есть когти.
Девушка чувствует, как на лбу выступает испарина, проводит по нему рукой, глаза щиплет, против ее воли они наполняются горячей влагой—слезами. Она смотрит в землю, белая грудь вздымается и опускается, но консул неожиданно разворачивает «Нювикс аллеханда» — она спасена.
Ее охватывает бешенство, на него, на самое себя. Теплое раннее утро дышит ароматом, пестреет красками, но все это где-то далеко, до боли прекрасное—и только лишь кулиса, декорация.
Ей хочется вскочить, выбежать из калитки, пересечь сквер Рунеберга и очутиться во дворе у Пера, набраться смелости и крепко прижаться к нему, хотя на самом деле она вечно отталкивает его колкостями, насмешками, молчанием. Она сама не знает, что с нею, одиноко ей сейчас, очень одиноко. В кухне тихонько напевает Манда. Услышав ее голос, Луиза судорожно вздыхает.
Консул Рединг опускает газету, роняет коротко: Ступай разбуди Эжета. Пусть привыкает ветшать вовремя.
— Может, заодно в маму разбудить, пусть тоже привы-кает вставать вовремя?
В ответ консул улыбается, словно они оба превосходно друг друга понимают. Так он мстит.
— Ей надо отдохнуть после тревожной ночи.
Он дает своим словам утонуть в тихом стрекоте кузнечиков среди сочной зеленой травы. Но Луизе хочется нанести ответный удар, в меру своих сил. Мера эта невелика, голос срывается:
—А зачем Эжену вставать вовремя? Зачем? Что ему делать?
— Что делать? Есть мой хлеб, развлекать метя бесе-дой, равно как и тебе, дорогая Луиза. Забавно следить за его так называемым развитием. За его потугами стать человеком.
Она встает, идет по дорожке к крыльцу, возвращается, снова садится, судорожно ломая пальцы, руки тянутся друг к другу, беспокойно, как ласточки в небе.
— Я тебя ненавижу. Ненавижу!—глухо произносит девушка.
Он нагибается, хочет взять ее за руки; голос его звучит тихо, настойчиво—слегка дрожит:
— Луиза, милая, ты же знаешь, это неправда. Ты меня любишь, просто пока не отдаешь себе в этом отчета. От ненависти до любви так близко, буквально один шаг... Твоя мать тоже начинала с ненависти...
На крыльце слышны шаги, они оборачиваются, из дому вышла консульша в белом летнем платье, темные волосы гладко зачесаны назад.
— О чем это вы беседуете?
— О любви и ненависти,— отвечает консул.—Неиссякаемая тема. О чем же еще беседовать в чудесное июньское утро? Что толку было бы от трав, и листьев, и красок, не будь у нас этих жалких пяти чувств—опоры для восприятия. Они бы так и остались собственными фантазиями, снами наяву... Садись.
Платье консульши шуршит по песку; она усаживается под большим зонтиком, свет мягко обтекает ее напряженную фигуру.
— Где Эжен?—спрашивает она; голос у нее низкий, чуть хрипловатый.
— По-моему, тебе лучше знать,—отзывается консул.—Как я полагаю, он в постели, утомленный ночными вылазками. Думается, это у него наследственное.
— Что ты имеешь в виду?
Она повернулась к нему, быстро, настороженно.
— Ничего. Просто у вас у всех богатое воображение, н у тебя, и у Детей. Я рядом с вами—самый настоящий сухарь. Взять, к примеру, Луизу. Ее мысли блуждают как облака в небесах. То она ненавидит, то любит. Меня—ненавидит. А когда я спросил—в шутку, конечно,—не кажется ли ей, что ты похожа на холеную кошку, она Восприняла это всерьез и «холеную» опустила. Но ты-то ведь вправду холеная, верно? Разве я тебя не холю, а?
Он наклоняется, берет руку жены и нежно целует. Сперва запястье, потом ладонь, а сам украдкой косится на Луизу.
Консульша молчит, только чуть вздрагивает. Легонько гладит его по щеке, он отшатывается.
— Кто это кричал недавно?—Спрашивает она.— Жалобно так, будто беда случилась...
— Франс это был, наш дорогой живописец, а беда у него известно какая—выпивка кончилась.
— Он кричал что-то о смерти...
—- Голубушка, художники любят покричать о смерти и бренности, а сами руками и зубами цепляются за сытую жизнь. Вот и терзаются, как твой разлюбезный Франс, никак ве решат, Жить им или умереть, и предпочитают жить, подобно нам, всем остальным. Зачем Франсу кричать о смерти, когда он пишет твой портрет, Сесилия? Ведь ты—сама жизнь, дорогая.
Что-то в голосе консула—усталость? смирение?— заставляет Луизу поднять глаза. Она опускает вышивку. Все трое молчат.
Слышен пароходный гудок: к пристани подходит «Ойхонна». Консул откидывается назад, закуривает; консульша помешивает чай, осторожно, словно боится разбить чашку, другая её рука лежит на руке дочери, так они и сидят—два светлых мотылька в сиянии июньского утра. Прислушиваются. Шум на пристани все громче.
Эжен тоже прислушивается, сидя на краешке кровати. Глаза большого игрушечного медведя, которого ему пода-рили в детстве и с которым Пер, когда заходит в гости, в Шутку боксирует, изображая бой с тенью, мрачно побле-скивают иа солнце, цедящемся в комнату. Он видит троих под дубом, будто на картине в раме окна, на яркой, как солнце, картине, которая слепит ему глаза.
По рукам Эжена проходит дрожь, он крепко прижимает ладони друг к другу, как для молитвы, но молитва нейдет с губ—он опустошен. Потом он видит Манду: она спокойно идет к столу, на ней голубое платье, белый передник обвивает ее, по-матерински уютно круглится на пышной груди. Она что-то говорит, показывает рукой вверх по переулку, на Гору. Трое за столом каменеют.
Эжен подбегает к умывальнику, склоняется над тазом, долго плещет в лицо холодной водой, вытирается, моет руки, трет их и трет, потом меняет воду.
Поднимает взгляд, рука машинально тянется к бритве. Большой палец пробует лезвие, а глаза неотрывно смотрят в глаза чужому отражению.
4. Вернер
Он медленно плетется в гору, за ним по пятам — Франс Альмгрен. Над Родмансбринкен плывет явственный запах кофе. А я свой кофе так и не выпил, думает он, дергая тесный воротничок. Воздух чист, становится жарче, лето как-никак, гроздья сирени кивают из-за красного штакетника.
— Ты же знаешь, она работала у меня натурщицей... Вот я и хотел договориться насчет сеанса... а она там... лежала...
Вернер на ходу оборачивается и в упор смотрит на Франса, тот не прячет своих ясных голубых глаз. Можно ли положиться на людей, которые глядят тебе прямо в глаза? К тому же взгляд у Франса всегда какой-то демонический. И все-таки он по-своему цельная натура. Не было случая, чтобы они не нашли общего языка, особенно в клубе. Вместе противостояли спеси, классовому высокомерию и зазнайству.
Быстрыми, размашистыми шагами они поднимаются в гору. Вернеру видно, как в консульском дворе, точно лесная мышь, снует Лёфманша: то в кухню, то из кухни. Ну да, из курятника уже летят пух и перья.
— Тебе непременно надо было устраивать такой тарарам?—говорит он.
Франс что-то бормочет, что именно — не разобрать. От художника по обыкновению слегка попахивает коньяком и скипидаром. Иногда этот запах просто невыносим, и Франс тоже. Скандалы он учинял бог знает сколько раз, но свои интрижки с женщинами не афишировал. Мастер притворяться? А сейчас? Почем Вернеру знать, что творится у него в душе, в глубине этих голубых глаз. Возможно, все эти его причуды—вроде как защитная стена, одна из многих, которыми он себя окружил. Он и резким бывает, любую важную персону отбреет, и хоть бы что. Популярности этим не завоюешь, тем более в провинциальном городке, вот сплетни и идут.
Особенно теперь, когда он пишет портрет консульши.
Маленький городок готов многое простить, лишь бы все было шито-крыто. Но совершить, не таясь, что-нибудь такое, чего по всем дедовским канонам делать никак не положено,— значит совершить святотатство.
К примеру, зажечь в Иванову ночь костер, зажечь раньше срока, вечером накануне праздника,—бог ты мой! А Франсов военный танец! Полураздетый, пьяный, да еще горланил какой-то самодельный гимн во славу огненной стихии. И во славу солнцестояния, которое уже на пороге...
Вернер оглядывается, хочет что-то сказать, но Франс опережает его:
— Она там лежала... ошибиться невозможно, я знаю, когда человек мертв.
— Откуда знаешь? Ты что, много покойников видел?
— Знаю, и все. Это было такое потрясение. Я невольно закричал...
— Небось уже полгорода судачит об этом,— бурчит Вернер.
— Мне никто не встретился...
Они сворачивают во двор с огромным кустом сирени и вытоптанной травой, входят в переднюю с обрывком лоскутного коврика и старым медным котлом, в котором растет можжевельник—Анна держала его вместо рождественской елки, этот можжевельник словно бы служил ей постоянным напоминанием о крайней нищете, что обитает здесь, на Горе.
Уже с порога в лицо им ударяет тяжелый, спертый дух. И тотчас же, будто крысиный нос из норы, выглядывает физиономия сапожника Брюндина.
— В чем дело? Никак случилось что? Шлюха наказана по заслугам, а? Господь наш — бог карающий...
Вернер Фрид нагибается к скрипучей, обшарпанной двери сапожника, из которой воняет кислой капустой и грязью, оттесняет Брюндина в глубь его святилища и говорит:
— Тебя я допрошу попозже. Коли успеешь, припрячь бутылки.
С этими словами он медленно затворяет дверь. Слышится скрежет, потом наступает тишина. Только зеленые блестящие мухи, гудя, бьются о стекла передней.
Дверь Анны заперта, и Вернер пробует открыть замок стальной проволокой.
— А, черт! Придется зайти с другой стороны,—ворчит он.
Скрипят ступеньки; они выходят на улицу и шагают за дом, к окну Анны. Оно не очень высоко от земли, створки полуоткрыты. Проверив их на прочность, Вернер влезает в комнату. Секундой позже он высовывается наружу и говорит Франсу:
— Ступай приведи Нильса Нильссона, пусть он захватит сумку и позвонит врачу.
— А мне нельзя?..
Вернер качает головой:
— Нет, да тебе ведь и не хочется. Она умерла. Иди!
Слушая, как шаги Франса удаляются по песчаной дорожке, он бережно снимает пинцетом с оконной рамы несколько нитей, прячет их в карман. Потом опускается на стул возле окна и оглядывает темную комнату: белый кокон на постели, стулья, умывальник, таз для мытья рук, разбитый кувшин, изразцовая печь, черный от сажи ерш на фоне беленой стены. В стенной нише—стакан с цветком.
Вернер откидывает простыню, потом снова накрывает ею тело. Зрелище не из приятных. Как тихо в комнате, когда в ней покойник.
Он смотрит на постель, встает и, сделав несколько грузных шагов, опускается на корточки с другой стороны кровати. Одеяло смято, в изножье песок.
Над кроватью олеография: Иисус Христос на лесной тропе. Совсем один. Секунду Вернер разглядывает его: он немного похож на Франса Альмгрена. Наверное, и она замечала сходство? Та, что сейчас в одежде лежит на постели, задушенная в расцвете юности.
Он открывает платяной шкаф. Там развешены ее немногочисленные туалеты: опрятные юбки, блузки, не-сколько нижних сорочек. Выше на полке—банки с мукой и с кофе, мельница, бутылка с коньяком.
Вернер обертывает бутылку носовым платком, снимает с полки, осматривает: полупустая, с красивой наклейкой; он озирается по сторонам, рюмок не видно—все аккуратно стоит на полочке в угловом шкафу.
На секунду вытащив пробку, Вернер кривится, ставит бутылку на прежнее место. Тщательно закрывает дверцу шкафа. Затем подходит к белому столику у окна, где в выдвижном ящике хранятся скудные доходы Анны— несколько рублевок и шведских крон засунуты ею в пожелтевшую Библию.
Рот наполняется горечью, словно его вот-вот стошнит, он срывает воротничок, ловит ртом воздух. Что-то здесь и сходится, и не сходится. Как все прибрано, только постель в беспорядке да кувшин разбит. Возможно, на нее напали среди привычных дел. Но одежда?
Н-да, что она могла противопоставить этой проклятой жизни, кроме такой малости, как собственное тело. И при жизни отца, и после его смерти. Он помнит Анну, настороженную, молчаливую, бледную; она было исчезла куда-то, но уже год спустя снова появилась в Нювике и быстро прослыла «распутницей», одной из немногих в городе, если не считать портовых девок.
Она принадлежала к иной категории; по слухам, даже сам градоначальник как-то раз темным осенним вечером...
Вернер сидит, а мысли бегут, бессвязные, невеселые.
На лестнице шаги, ручка двери поворачивается.
— Отмычки у тебя есть?—кричит Вернер.
В замке что-то скребется, наконец дверь отворяется. На пороге—Нильс Нильссон, он быстро обводит комнату взглядом, осторожно отгибает простыню. Вернер глядит в сторону.
— Об изнасиловании тут речи нет,—тихо говорит он.
— Знаю. Вдобавок это была ее работа.
— Что «это»?
— Подвергаться насилию.
Нильс замечает, что говорит не своим голосом, откашливается. За окном в зелени и пышных гроздьях цветов сияет лето, и вдруг из этой зелени выныривают старомодный капор и сморщенное, как моченое яблоко, личико фрёкен Сюннерстранд, которое едва достает до подоконника.
— Неужто впрямь померла? Срамница эта?
Вернер наклоняется к ней:
— Да, и бродит здесь призраком, фрёкен Сюннерстранд, и вам явится, коли вы не побережетесь и не уйдете домой, сию же минуту!
С писком подобрав юбки, фрёкен устремляется прочь. Часу не пройдет, думает Вернер, а она станет шнырять на пристани от одной кучки людей к другой, будто сорока.
Нильс Нильссон приступает к обследованию комнаты, что-то записывает. В дверь стучат, входит фон Адлер с черной сумкой в руке. Доктор и Вернер понимают друг друга без долгих слов, они познакомились в тот самый день, когда фон Адлер явился в Нювик, сбежав из столицы и от семейного разлада. Оба молча обмениваются рукопожатием.
Примерно через час Анну Перс на носилках выносят из дома; телега стоит в нижнем конце Родмансбринкен, чуть поодаль толпятся босоногие мальчишки, старухи, кое-где щурятся на солнце старики. Почетный эскорт смерти, внимательный, безмолвный. Лошадь тревожно перебирает ногами, фон Адлер ласково треплет ее по морде; лицо его под соломенной шляпой хмуро и замкнуто. Назойливо жужжат мухи, лошадь отгоняет их хвостом. Носилки водружают на телегу без труда—Анна весит не много.
Железные ободья скрежещут по песку, потом грохочут по булыжнику—телега въезжает в город. Пер Фрид просыпается от грохота колес под стеной, садится в постели и внезапно видит себя в комнате умершей. Такое ощущение, будто он тонет и поднимается на поверхность лишь затем, чтобы снова уйти на дно. Ноги как ватные, он тащится к окну, выходящему на Хенриксгатан, там маячит обтянутая черным сюртуком спина церковного сторожа Видёна, который правит лошадью, а дальше — серое шерстяное одеяло...
Кто-то положил рядом охапку сирени.
Пер опускается на постель, закрывает лицо руками, бормочет:
— Боже мой! Боже мой! — Но чуда не происходит, случившегося не воротишь.
Пер сидит неподвижно, и не до лета ему сейчас.
5. Вернер
Когда в кабинет на гребне достатка и сословной спеси вплывает полковница Далён — красноносое напудренное лицо, на искусно завитых волосах огромная летняя шляпа, весьма похожая на безе,— он встает. И будет стоять, пока гостья не пожелает сесть, а она не пожелает.
— В городе просто скандальная обстановка! Что вы намерены предпринять? Кто-то украл — я повторяю: украл!— детскую коляску моей дочери, а вы бегаете тут и больше печетесь о какой-то... какой-то...
— ...женщине с дурной репутацией,—терпеливо доканчивает Вернер. На дрожащих щеках полковницы выступают два красных пятна.— О какой-то женщине с дурной репутацией, тогда как добропорядочные граждане совершенно беззащитны. О какой-то распутной особе...— В нем закипает ярость, он с трудом держит себя в руках. Понижает голос:—...из тех, кого на более грубом языке зовут шлюхами, верно, сударыня? Еще бы! Анна Перс дарила удовольствие многим мужчинам, даже весьма высокопоставленным. А теперь она убита, задушена. Вы говорите, коляску украли? Что же, можно поздравить вас, полковница, с прибавлением семейства?
На секунду она немеет, потом, уже в дверях, взрывается криком:
— Вы за это ответите!
— Не сомневаюсь.
Вернер понимает: он зашел слишком далеко; впрочем, так бывало и раньше. Он этого не стыдится, только сожалеет в душе. Снова скрипит дверь. Он тяжело опускается на стул. В кабинет заглядывает Нильс Нильссон:
— Что понадобилось этой кикиморе?
— Коляску дочкину украли,—рассеянно отвечает Вернер.— Рапорт готов?
Вернер дотошно изучает бумагу, как бы вновь расхаживая по комнате Анны, видит ее воочию, во всех подробностях.
— Царапины...— бормочет он.— Изнасилование ни при чем...— Мысленно он останавливается у кровати, оглядывается по сторонам: чего-то не хватает, чего-то важного, он видел это и забыл, а может, и не видел, нет, никак не вспомнить; сидит точно слепой, уставясь неподвижным взглядом в неподвижный летний воздух, на столбы пылинок в солнечных лучах. В дверях появляется Пер, почти черный на фоне белой стены.
— Что здесь происходит?
— У полковницы украли детскую коляску,— вздыхает Вернер,— а Анну Перс нашли мертвой. Знаешь...
В эту минуту из соседней комнаты его окликает Нильс Нильссон:
— Або на проводе!
Вернер встает, проходит мимо Пера, тот молчит и не двигается. В кабинете вдруг становится темно.
— Алло! — кричит Вернер.
В трубке, как всегда, треск. Железные опилки, искры, непогода, думает Вернер и опять кричит:
— Ничего не слышу!—Далекий пискливый голос тонет в шорохе и треске. Вернер изо всех сил прислушивается— тщетно.
Он кладет трубку, бережно, точно опасается кого-то побеспокоить. А когда возвращается к себе, Пера уже след простыл.
Вернер снова садится, еще раз штудирует бумагу. Короткая жизнь. В пятнадцать лет аборт, выпущена за недостатком улик. Хозяева отказывают от квартиры, переезды. Мать неизвестна. Отец в последнее время сидел без гроша, в основном по причине пьянства.
Ему вдруг вспоминается, как однажды вечером Анна схватила его за локоть, как он малодушно пытался высвободиться; она что-то шептала и плакала, а он так и не понял, что ее испугало, ведь она не сказала об этом. Было это прошлой осенью, в дождливый вечер, листья вихрем кружились в конусах света от газовых фонарей, она все что-то бормотала шепотом, поминутно оглядываясь, точно боялась, что за нею кто-то гонится, выслеживает ее. Потом, когда они подошли к полицейскому участку, она внезапно умолкла, выпустила его локоть и побежала вверх по переулку, в насквозь мокрой длинной грубошерстной юбке.
Он так и не узнал, слезы ли текли тогда по щекам Анны или капли дождя. Сейчас лицо девушки зримо стоит у него перед глазами, тот давний тревожный взгляд терзает его.
Бедная, короткая, загубленная жизнь!
А те, что сидят по домам и украдкой наблюдают за происходящим на улице, те, что прячутся за ровными рядами свежевыкрашенных фасадов,—сколько же они занимались узаконенной проституцией, сколько изнасилований совершилось там, в тихих спальнях!
Фасады. Лица. Маски.
И глаза Анны. Как же ее позорили на рыночной площади, там, где цену назначал клиент. А все-таки, вопреки ее поступкам, жили в ней и невинность, и чистота, какое-то сияние, что ли, он не умеет это назвать.
Умерла, погибла.
Может, и к лучшему, что она умерла и не успела превратиться в одну из тех развалин, которые быстро исчезают, становятся прахом. В большинстве своем они ищут спасения в бутылке.
И среди всего этого, среди сумеречных теней и убожества, прогуливались блестящие богачи в светлых, незапятнанных одеждах. Задушевно беседовали друг с другом, образуя свой собственный круг, где играли с обручами дети в матросских костюмчиках, а младенцы, точно куклы, спали в колясочках...
— Коляска,—бормочет Вернер,— коляска.
А коляска спрятана в кустах на косогоре, что поднимается над виклундовской смолокурней (владелец—консул Рединг). Смолокурня—это несколько крашенных под кирпич складских построек на дальнем берегу бухты да покосившийся забор. В самом конце прибрежной дорожки, там, где она поворачивает, находятся ворота, почти всегда распахнутые настежь; временами из темных сараев доносится гром пустых бочек, бочки сложены и во дворе среди крапивы, которая не уступает ростом человеку. Сейчас полдень, все вокруг залито солнцем и тишиной. И кто-то льет керосин на изящное атласное одеяльце, на шелковый тент, на фарфорово-бледное лицо, курчавые волосы, одежду. Глаза полуприкрыты длинными ресницами, на щеках яркий румянец. Небо хмурится, но до сих пор жарко. Серебристый бой церковных часов звучит глухо и сиротливо. Дорожка стрелой бежит по косогору прямо к воротам. Ласточки скользят над водой; над зданием Водолечебницы курится легкий белый дымок, а дальше, на смотровой вышке, видны силуэты трех мужчин с биноклями: они внимательно разглядывают прогу-лочные яхты, которые легонько покачиваются по ту сторону бухты, у пристани дальнего плавания.
Слышатся звонкие девичьи голоса, и коляска быстро исчезает в разливе белых цветов Rosa rugosa; три барышни рука об руку плывут по лужайке к теннисным кортам, будто светлые облачка в лиственном сумраке.
Коляска вновь появляется на дорожке, чья-то рука толкает ее и бросает внутрь горящую спичку, секунду- другую валит дым, и вот уже вспыхивает жаркое пламя. Маленький нарядный костер приходит в движение, сначала нестерпимо медленно, затем быстрее, быстрее, все опасней раскачиваясь из стороны в сторону — устоит ли?
Но дорога гладкая и не слишком крутая, коляска будто по рельсам катится, а огненные языки все выше, окаймленные черной копотью, рвутся изнутри, выплескиваются из-под тента.
На открытой террасе Водолечебницы одна из официанток бросает взгляд на улицу и видит: вниз по дороге мчится ярко пылающий костер. Толком не разобрав, что это такое, она козырьком приставляет к глазам ладонь, будто солнце ее слепит, и вдруг начинает суетливо, как курица, метаться туда-сюда, что-то кричит, машет руками, но на террасе в этот миг находится один только скрюченный подагрой старик, который прилагает отчаянные усилия, чтобы встать со своего плетеного стула.
Между тем коляска вкатывается в складские ворота, и все теряют ее из виду, все, кроме наблюдателя, там, наверху, в кустах, который с замиранием сердца следит, как сгусток огня исчезает в темноте сарая, с ходу налетает на бочку, рассыпается на пылающие тростинки, колеса крутятся в воздухе, какой-то предмет вываливается на землю, весь в огне, лицо уже почернело, растрескалось, брови опалены. Языки пламени ползут во все стороны, распускаются, словно экзотические цветы, тянутся к стропилам.
Блестящие глаза жадно вбирают в себя эту картину, будто и сами вот-вот ослепнут от жара. А через несколько минут в кустах уже ни души. Вышедший на пенсию ревизор Август Мельк, гуляя по парку, замечает отблеск огня и с криком припускает бегом, размахивая своей соломенной шляпой. Трое мужчин на смотровой вышке замерли без движения. Где-то начинает бить колокол, громко и тревожно. А потом вдруг к нему присоединяется серебристый перезвон с колокольни монастырской церкви.
Теперь дым виден всему городу, и пожарная телега, запряженная двумя тяжеловозами, с грохотом выскакивает из ворот украшенной башенками резиденции добровольной пожарной дружины, что вблизи Таможенной Заставы; следом за нею несется туча пыли и орда босоногих мальчишек, неожиданно вынырнувших из проулков и закоулков. В Нювике—праздник.
У себя в кабинете Вернер встает со стула. В чердач-ном окошке торговца Русенблада огненным глазом отсвечивает пламя. И тотчас начинается теплый июньский дождь.
6. Сесилия
В переулке Троссгренд она открывает калитку и, овеянная запахом сирени и смолы, идет к низкой зеленой двери. Дом скрыт от посторонних глаз, лишь соседское слуховое оконце высоко наверху глядит на нее черным немым оком. И все же она останавливается и озирается по сторонам. Кругом тихо. Жужжат на солнцепеке пчелы, кузнечик стрекочет пронзительно и тревожно. Но щебет ласточек легкомысленно-беспечен.
Она бесшумно отворяет дверь мастерской, вдыхает знакомый запах скипидара, масляных красок, пыли. Сквозь потолочное окно льется северный свет—холодный и неяркий, он тускло озаряет мольберты, старые банки с кистями, тряпки и ветошь, пестрые лоскутные коврики в углу, где стоит старая кровать с пологом. Ей ни разу не хотелось задернуть шторы. У нее нет секретов—от него.
— Иду!—кричит он из крохотной кухоньки, больше напоминающей корабельную каюту, чем кухню.
Слышится звон фарфора, а она между тем, как в танце, скользит по широким, до блеска истертым старинным дубовым половицам и вдруг замирает: с торопливого наброска на нее глядит бледное лицо мертвой девушки. Она лежит навзничь, волосы растрепаны, краски наложены второпях, энергично размазаны шпахтелем, шея напряжена, плечи судорожно вывернуты, на заднем плане — бледный четырехугольник окна, бутылка, цветок. Раньше ей не доводилось видеть таких омерзительных картин. Она привыкла к прилизанным парадным портретам, к пейзажам с коровами и деревьями, с лунным светом над темными стремнинами, к натюрмортам с фруктами.
Франс вносит кофейный поднос—две неизменные кружки из тонкого фарфора, две неизменные рюмки с коньяком,— осторожно опускает его на столик. А в следующий миг они уже сжимают друг друга в объятиях, пьют дыхание и тепло друг друга. Она прижимается щекой к его щеке и крепко зажмуривает глаза, словно желая отгородиться от образа покойной, шепчет ему на ухо:
— Я так соскучилась, так соскучилась...
И он тихо лепечет:
— Дорогая, любимая...
Сесилия открывает глаза , и смотрит поверх его плеча на картину.
— Это она?
— Да.
— Я плохо расслышала, когда ты кричал с Родмансбринкен...
— Н-да, незачем было трубить об этом на весь город. Но так уж вышло, во мне будто кто-то другой кричал... мы дружили, она была идеальной натурщицей...
— И идеальной любовницей?
Он медленно, но решительно отстраняется и внимательно глядит на нее, крепко держа обеими руками за плечи, потом руки скользят выше, большие пальцы неторопливо гладят ее шею под подбородком.
— Мне казалось, мы уже исчерпали эту тему.
Как изменился его взгляд, блеснул ледяным холодом— о, он умеет быть суровым. При всех своих актер-ских замашках, безалаберности, пьянстве. Нынче вид у.
него опрятный, он побрился, надел чистое платье. Вполне приличное для того, кто воюет с бедностью. А он воюет с ней всю жизнь. Сесилия знает это еще со времен своего вдовства. Другие видели в нем человека испорченного и сумасбродного, ребячливого и незрелого, ей же открылось совсем иное: неутомимый труженик, нежный возлюбленный, первый настоящий мужчина в ее жизни, она готова покориться ему во всем, без оглядки.
Словно очертя голову кидаешься в погибель, имя которой—жизнь.
— Прости, прости...—шепчет она, обвивая руками его шею.
А он сегодня не в настроении, поэтому мягко, но решительно отстраняет ее и говорит:
— Давай-ка мы с тобой выпьем.
Взяв рюмку коньяку, Франс осушает ее, с наслаждением, одним глотком. Скоро глаза его подернутся тонкой сетью красных жилок, такой ненавистной для Сесилии.
Она садится рядом на старинный густавианский диван, пьет кофе и наблюдает за ним. Он бледен.
— У тебя мизинец отставлен,—роняет он. И добавляет:— Бывает. Со мной тоже, верно?
Он криво ухмыляется, и от этой ухмылки ее горячей волной заливает смущение: обычно он не позволяет себе двусмысленных намеков.
— Как ты думаешь,—говорит она, чтобы переменить тему, да и не только потому, просто не может иначе,—как ты думаешь, кто...
Франс пристально глядит ей в глаза.
— Ее многие любили. Да... И многие могли это сделать. Не зная ее.
— Когда... когда ты написал этот этюд?..
— Вчера. На память. И по памяти. Я прямо видел все это. Все-все.
— Ты видел ее в окно?
Он не отвечает, думает о чем-то своем. А ее вдруг охватывает ощущение, будто он ей совершенно чужой, будто и комната тоже чужая. Что она здесь делает? Во что ввязалась? На какой ужасный риск идет, а чего ради? - На миг перед нею мелькает образ Акселя, взгляд его мрачен и холоден. Ей хочется уйти, убежать и никогда не возвращаться. Сердце готово выскочить из груди, нечем дышать—Сесилия расстегивает ворот платья.
Секундой позже губы Франса уже ищут ямочку у нее на шее, руки скользят по ее телу, и она тотчас забывает о бегстве. Он починил кровать, мелькает в голове немного погодя, ведь скрипа больше не слышно, слышно только их дыхание, их голоса:
— Да, да! Ну, иди же...
Они нежно ласкают друг друга. Она проводит пальцем но его лбу.
— Мне страшно.
— Страшно? Почему?
— Что-то такое происходит вокруг нас.
— Гм-м.
— Я серьезно, Франс.
— В тебе тоже кое-что происходит.
— Боже упаси...
— Я не об этом.
Какое-то время царит тишина, потом Сесилия вновь подхватывает прежнюю нить:
— Когда я говорю, что вокруг нас что-то происходит, я имею в виду не только Анну Перс и пожар. Что-то присутствует уже в самом воздухе, которым мы дышим, пепел...
— Твой муж, видимо, имел отношение к виклундовской смолокурне?
— Да. В сущности, это его собственность. Но давай лучше не будем говорить о нем...
— Он часто...
— Обними меня,—просит Сесилия,— обними крепкокрепко и молчи.
Тесно прижавшись друг к другу, они слушают, как в саду поет дрозд—долгие переливы прохладных, глубоких, волшебно-прекрасных звуков.
— Только здесь, у тебя, я могу дышать,—тихо произносит она.— Дома... Нет, это не дом. Дома...
— Он тебя мучает?
Она не отвечает. Франс ласково гладит ее по щеке, она лежит с закрытыми глазами, отвернувшись. Иногда ее порывы внушают ему страх, она словно хочет утолить отчаяние, но—не может...
— Его дела обстоят не лучшим образом,— вдруг спокойно говорит она.—Думаю, это серьезно. Он все бродит, бродит и тайком подогревает в себе ненависть. С Эженом у них все время стычки. И у Луизы теперь тоже холодные глаза... Мы будто умерли, Франс! Ты можешь и меня нарисовать! В виде покойницы!
Она поворачивает к нему пунцовое заплаканное лицо, щеки ее горят.
— Успокойся, милая. Ну же, успокойся. Ты живая,
живее тебя еще поискать. И ты это знаешь.
Она лежит не двигаясь и тихо говорит, так тихо, что он едва слышит:
— Выхода нет.
Франсу бы надо подняться, утешить ее, убедить, что она не права, что у них есть будущее, что он женится на ней, что жизнь очень щедра, но—он молчит.
Сам-то он имеет достаточно, чтоб выжить: у него есть живопись, вера в искусство, вера в холодную проницательную силу, какой полон его взгляд, когда он смотрит на окружающих, порой даже на нее, на ее лицо,— и видит сюжет.
Великий ловчий—вот кто он такой. Горе, смерть, нищета, ужас, страх, раскаяние, наслаждение. Он ловит все это, на холсте.
Будто он заодно с жизнью, самую малость заодно.
— Плесни мне капельку коньяку, он у тебя хороший,— просит Сесилия.— Аксель, тот всегда жадничает.
Он замечает, что пальцы дрожат, приходится взять бутылку обеими руками. Сесилия, полусидя в постели, глядит на него. Он протягивает ей рюмку, светлые волосы его растрепаны.
— Иногда у тебя невероятно забавный вид.
— Я — городской фигляр. Я — моя собственная гордость. И наконец, я—твой возлюбленный!
— Хочешь, буду тебе позировать?
Он качает головой:
— Тебя же могут узнать...
— Значит, подошла бы?
— Да ведь ты не посмеешь.
— Я уже много чего смею, Франс. Пока полиция обшаривает углы, а убийца гуляет на свободе... Убийца и поджигатель. Притворщик... Как и мы все... все.
Она сидит сжавшись в комочек, и Франса захлестывает волна нежности:
— Это просто кошмарный сон, он скоро кончится. Наступит другое столетие, и дело пойдет на лад. Все образуется. Осталось уже недолго. А там — новый век. Мы вступим в него, и будем счастливы, и будем свободны...
Он шепчет прямо в розовое ушко Сесилии, волосы у нее на висках слиплись от пота, он целует ее соленые губы, ее глаза, но она говорит:
— Нет, Франс, мне пора уходить.
Она уже стоит на полу, и он, прощаясь, скользит пальцами по ее бедрам, по талии, ее рука гладит его полосы, он будто прислушивается к чему-то у нее внутри, шепчет:
— Твой живот разговаривает...— и чувствует, как она каменеет, словно от боли, словно желая спрятаться, испуганно кричит:
— Франс! Окно!
Он оборачивается к окну, там чье-то лицо, перекошенное, искаженное,—темный силуэт, он не успевает разглядеть, кто это, лицо исчезает; Франс бросается вон из комнаты, но тотчас вбегает опять, хватает полотенце, повязывает им бедра, отворяет дверь, мягкое тепло и цветочные ароматы льются навстречу, дощатый забор еще дрожит, слышны удаляющиеся шаги. Опоздал. Когда он возвращается в комнату, оба молча глядят друг на друга.
Сесилия выпроваживает его в кухню, а сама умывает лицо и руки, одевается. Уходит, с виду хладнокровная и спокойная, только в глазах вопрос: кто?
Ответа ей он дать не может.
7. Вернер
Он побывал на пожарище и обнаружил там остатки детской коляски. При виде обугленного остова на миг подкатила дурнота. Нашлась и кукла, оплавленная и растрескавшаяся, но стеклянные глаза, как ни странно, уцелели и смотрели на него из сажи. Он обошел склад, ступая в своих старых сапогах прямо по воде и головешкам. Смрад кругом, едкий, мертвенный, удушливый.
И такая же безысходность, такая же загадочность.
Он допросил официантку, обследовал окрестности, поразведал что и как. Без умолку перекликались на шхерах чайки. В остальном же было пустынно и тихо, город словно замер в испуге, а может, почувствовав, что запятнал себя, хотел забыться.
Смрад пожарища смешивался с привычным июньским ароматом, безмятежным и пьянящим, проникал во все щели. А щели эти, глубокие, угольно-черные, могли открыться в любую минуту. Ветхие лачуги совсем скособочились, облупились, пришли в запустение.
Вернер долго смотрел на город, на парк, разбитый на склоне. Летнее солнце поблескивало в кронах деревьев, и серебристые ивы возле купальни колыхались, точно прохладные волны.
Потом он медленно зашагал вверх по дорожке, посыпанной гравием. Внимательно глядя по сторонам. Крыши домов, зеленые и черные, пестрели внизу. Роза, Rosa rugosa, мелкие белые цветы. Роза бедняков, с запахом свежим и бодрящим, как утешение.
Сломанный сучок под ногами. Вернер нагибается. Если б кто меня сейчас увидел, небось решил бы, что я ходил чего-то выпрашивать у святого—покровителя местной церкви, мелькает у него в голове. Щурясь, он вглядывается в заросли, осматривает почву. В темноте что-то сверкает—он поднимает с земли перламутровый ножичек, немного поврежденный: кусочек перламутра на рукоятке выщерблен. Вещица ему чем-то очень знакома.
Вернер заворачивает находку в носовой платок, некоторое время задумчиво глядит вокруг. Весь мир состоит из вещей, которые мы можем собрать, чтобы попытаться сложить из них целостную картину, думает он.
Как правило, этим надо заниматься в одиночестве. В тишине.
Тишина—каждый меряет ее своей меркой. Он помнит тишину Петербурга, тишину пустынных ночных улиц. Он бы не смог там жить. Видно, не по нем все это.
А здесь вот прижился.
Колышутся тени; сочной, почти ядовитой зеленью блестит трава. Вернер задумчиво шагает дальше, коротко кивает встречным прохожим.
Склоненные друг к другу головы, косые взгляды, шепоток, словно журчание воды. На пристани, как всегда, идет купля-продажа, а попутно только и разговоров что об убийстве да о пожаре. Анна Перс... и горящая коляска... уж нет ли между ними связи?
В коляске-то был живой ребенок? Чей—Анны? Сплетни ширятся, как лесной пожар.
И среди гомона этаким айсбергом плывет полковница Дален. С Вернером она не здоровается. Несчастные глупцы, думает он, вообразили теперь, что дочка...
В этом курятнике способны вообразить что угодно.
На Родхюсгренд навстречу ему попадается старик Б лом со своей неразлучной тележкой. Они прямо-таки срослись друг с другом—Блом и его тележка, оба изношены, серы, заскорузлы, скрипучи и кособоки, оба на ходу шатаются.
— Хе-хе-хе!—сипит старик, гримасничает, щурит свои поросячьи глазки, седая щетина белеет на загорелой физиономии.
Вернер хочет пройти мимо, но старик заступает дорогу, хватает его за рукав, чуть ли не приплясывает перед ним, выделывая закоперистые антраша, кривляясь и обдавая Вернера запахом грязного тела и перегара.
— Хе-хе! Город в огне! Город в огне! А молодь-то ночью не дома была! Хе-хе! Никто не дерзнет увидеть сокрытое! Отец не ведает, чем занят сын! Хе-хе!
Голос срывается на хриплый визг—точь-в-точь сек-тантский проповедник из палатки возле Таможенной Заставы, думает Вернер; его решительность куда-то исчезает, как всегда перед лицом путаных событий, от которых голова кругом идет. Он опять пытается продолжить путь; в соседнем доме приподнимается и тотчас падает белая гардина, и вновь улица дышит знойным безмолвием. Блом вцепился в него словно пиявка, обтянутое дубленой кожей лицо с черными пеньками зубов придвигается ближе:
— Хе-хе! Когда ж на свадьбе-то спляшем? На свадьбе благородных господ? Ведь невеста уже свое отплясала!
Он хихикает, сипит, исковерканные слова-уроды струей хлещут из бездонного отравленного колодца. Вернер спокойно отстраняет Блома, а старик шипит:
— Не минует грешников кара господня и адское пламя... Не воображайте, будто вы лучше...
Вернер уходит. Машинально сворачивает за угол, и голос старика разом умолкает, будто стерли его. Дверная ручка на ощупь холодна, солнце еще не так высоко, чтобы согреть дома по восточной стороне Хенриксгатан; все тут давно знакомо и всегда одинаково, а от этого чуточку нереально: затхлое тепло, сумрак в коридоре, ведущем в контору. Словно вернулся из долгого путешествия.
Нильс Нильссон стоит в дверях, пока он обходит вокруг стола и садится, грузно и сосредоточенно.
— Ленсман звонил.
Вернер кивает, сознавая, что Нильсу понятно: разговаривать ему сейчас не хочется. Нильс уходит, а он сидит, обхватив голову руками.
За стеной стрекочет пишущая машинка, потом все стихает. Пылинки в солнечных лучах словно танцуют от дуновения ветерка. Здесь нет жизни, она там, снаружи. Торопит, подгоняет, и его задача—в ней разобраться.
Вернер снимает телефонную трубку, медленно крутит ручку. Слышится дребезжание. Тонкий голос Вендлы на коммутаторе по обыкновению подобострастно-услужлив, не голос, а вязальная спица. Он прямо видит ее—шаль на плечах, глаза так и бегают, ушки на макушке, собирает сплетни да пересуды.
Вернер просит соединить его с ленсманом. Отвечает тоже знакомый голос — кругом голоса, которых он наслушался досыта, до отвращения. Этот голос слабенький, глухой; слушая его, Вернер привык глазеть на ленсмано- вы лакированные ботинки с пуговками, на высоких каблуках. Голос желает, чтобы его держали в курсе дела. А Вернер может отобрать себе четырех полицейских. Разговор крутится-вертится вокруг установленных фактов.
О перочинном ножике он молчит.
Следит взглядом за жужжащим шмелем—тяжелый от меда, тот бьется в оконное стекло.
Вернер осторожно кладет трубку на рычаг, идет к себе.
Садится на кровать, застланную белым покрывалом, которое связала Эльса. Он вспоминает об этом всякий раз, как складывает его и поглаживает рукой.
Наконец-то сняв сапоги, он осторожно вытягивается на кровати. И вдруг перед глазами проносятся они — полицейские с пожелтевшей фотографии в конторе, и он сам, неприметный, в верхнем ряду. Затем все растекается какой-то бесформенной, мягкой и темной массой, точно сажу перемешали с глиной...
Вот он ползет сквозь чащу кустарника, спасается от погони, как в детстве, когда играли в индейцев. И на ноги не встанешь, и бежать некуда, он погиб, кто-то преследует его по пятам, чулки сползли, штаны скоро съедут до щиколоток. Как у маленького...
Теперь он видит луг, а на лугу женщина в белом—его мать. Она будто машет ему рукой и нежно улыбается, но он не может подойти ближе. Сверхчеловеческим усилием ему наконец удается сдвинуться с места, он бросается к матери, обнимает ее за ноги, выдавливает из себя: «Спаси меня! Спаси!»
Она глядит мимо, только протягивает ему носовой платок: «Вот, возьми и будь хорошим мальчиком! Чтобы папа мог тобой гордиться!..»
Она очень бледна, лежит в постели. Косынка с узором из синих цветов почти целиком скрывает ее лицо, большие глаза горят лихорадочным огнем. Губы шевелятся, словно у древней беззубой старухи, ему страшно. Хочется крикнуть: «Я не ребенок!» Но слова не идут с языка.
А ее лицо меняется, вновь и вновь, чужие обличья плывут одно за другим, глядят на него и тают, будто смытые водою; такое впечатление, что он может сам управлять этими переменами, создавать собственную галерею портретов правонарушителей, нескончаемую череду лиц, у каждого странная улыбка в глазах, точно они внимательно следят за ним, насмешничают, подступают вплотную—он невольно отшатывается. Что-то словно душит его, он судорожно ловит ртом воздух, в полусне приподнимается на постели: на лбу блестящие бусинки, комната залита мягким светом, как туманом. Огромное облегчение наполняет его, он вновь погружается в сон...
И опять стоит на лугу, рядом с ним — Эльса. Что она ему протягивает? Уж не покрывало ли? Только зачем? Эльса улыбается. Он знает, что жена умерла, и пол— теперь он стоит на полу—темнеет, как море перед внезапным штормом. Он тянется к ней, но она скользит в бездну и все смотрит, смотрит на него, расставание так мучительно, лицо так бледно—одни глаза, одни глаза...
Этого ему не выдержать, он падает на колени. И видит нож, ярко сверкающий во мраке...
Отворяется и закрывается дверь. Вернер привстает на локте, сон как рукой сняло. Кто-то уходит. Нильс? Пер?
Кругом тишина, покой, прохлада. И звон разбитого камнем стекла—как взрыв среди этой тишины.
8. Пер
Он у себя в комнате, медлит в нерешительности. Очень хотелось облегчить душу, рассказать обо всем, но он не смог.
Вот так же порой пытаешься вырваться из кошмарного сна наяву, хотя и сознаешь: все тщетно, все напрасно.
Хуже всего, что он плохо помнит, что было раньше. Единственное четкое воспоминание — ее лицо.
Он садится на кровать, ветер легонько шевелит гардину. Сидит и горюет, не просто о ней, но о чем-то большем, только не знает, что это. Глаза его устремлены на картинки, пришпиленные к стене напротив: доисторические животные, парящие в пространстве небесные тела— запредельные миры, а между ними мир его, Пера.
Он переводит взгляд на свои руки: торчат из рукавов фуфайки, костлявые, неживые. Из конторы слышны голоса. Можно встать, пойти туда и рассказать обо всем. Но как быть с Эженом, с той ролью, которую сыграл он? Сначала надобно кое-что выяснить, распутать, и разобраться в этом необходимо в одиночку, а уж потом можно будет рассказать.
Бесшумно, словно желая перехитрить неведомого соглядатая, он выходит из комнаты, закрывает дверь и по темному коридору выбирается на Хенриксгатан. Чувствует, что его движения странно угловаты. Над городом висит жаркая дымка. Он поднимает голову и глядит на Родмансбринкен, будто ждет: вот сейчас появится она...
Анна! Анна! Где она теперь, давно ушедшая, навеки мертвая, полузакрытые глаза устремлены на него, точно она вот-вот швырнет ему в лицо последнее обвинение. Руки сплетены, плечи вывернуты...
У продуктовой лавки на углу Страндгатан и Хамнстиген он останавливается. На всю улицу пахнет пряностями и керосином. Смеясь, проходит мимо русская пара—он в блестящем мундире, она в волнах белизны, с оранжевым зонтиком. Тяжелый аромат духов долго висит в горячем летнем воздухе. Пер стоит, впиваясь ногтями в ладонь, потом разжимает пальцы и сжимает снова, оглядывается по сторонам, идет дальше. Запахи, краски; что-то напоминает ему детство, дом, каким он был при жизни мамы. Порою он забывает ее имя. Она склоняется над ним, смотрит с улыбкой из глубин сновиденья. Он совершенно один. Внезапно его пробирает дрожь, жуткие образы вихрем проносятся в мозгу, вспыхивая перед глазами: вот его арестуют, кто-то заламывает ему руки, кровь сочится из уголка рта, сбегаются люди, глядят на него, он пытается крикнуть: «Я не виноват!», но они хохочут, их бледные лица меняются—недоверчивые, искаженные злорадством. И вот его уже судят, публично, на площади, позор и стыд, темнота тюремной камеры, сырость, затем смертный приговор, руки Вернера, кто-то ударом ноги выбивает крышку люка, он падает вниз, парит, он мертв, и все это за несколько секунд, целая жизнь...
Пер стоит у пароходной пристани, невидящим взглядом смотрит на воду. И вдруг необыкновенно отчетливо различает до блеска истертые кнехты, пеньками торчат они из пропахшего смолой и рыбой хаоса перекрещивающихся, выкрашенных в белый цвет планок, скамеек и швартовных устройств. Едкая вонь пожарища еще висит над гаваныд. Серый дым сочится из покрытых копотью стропил и сваленных грудой бочек. Все зыбко, нереально. Знакомые порядки домов, кирпичные стены церкви, что проглядывают между старыми кленами, беседка- бельведер, мостки в купальне—это лишь декорации, кулисы. Он будто один на сцене, и все на него смотрят. Быстро оглядевшись, он идет вдоль берега дальше, к проливу. Белые облака отражаются в бухте, ласточки вспарывают крыльями редеющий туман, от легкого бриза шевелятся флажки в негустом леске, образованном мачтами парусных суденышек. Пер огибает ветхий лодочный навес и по узкой тропинке между рыбацкими домишками поднимается на Гору.
Оттуда, сверху, видно далеко, и скопление хибарок под Горой выглядит по-детски искренне и доверчиво, будто все эти развалюхи сбились кучкой, ища друг в друге опоры и защиты. Из труб курится дымок, белой и сероватой кисеей застит недвижное небо. Берега у пролива мрачные, лесистые—из прибрежного сумрака скользит к бухте длинная парусная лодка, узкая и изящная.
Пер делает шаг вперед и смотрит вниз, туда, где сверкает вода,— на знакомом скальном выступе темнеет неподвижная, скрюченная фигура. Ошибки быть не может.
— Эжен!—зовет он.
Ответа нет.
И Пер торопится вниз.
Эжен вздрагивает, поворачивает к нему бледное, странно безжизненное лицо, отодвигается назад, прислоняется к скале, рот его полуоткрыт.
Опустившись на корточки, Пер наклоняется к приятелю.
— Что, что с тобой?
Эжен качает головой, вертит ею, туда-сюда, туда- сюда, глаза блестят.
— Т-ты был там?
Широко распахнутые глаза, шепот—во всем этом чувствуется театральность, плохая игра и вместе с тем— обвинение.
— Да, но ты ведь не думаешь!.. Ты же сам...
Его вдруг охватывает злость, он уже готов закричать, но сдерживается. Из горла Эжена вырываются странные звуки, плечи прыгают, лицо перекошено, он и вправду бормочет:
— Т-ты б-б-был с-с н-ней!
Пер знает Эжена. Знает, как легко тот приходит в возбуждение, но таким он видит друга впервые. И пугается: здесь что-то новое, странное, больное, необходимо выяснить, в чем тут дело.
— Послушай! Ты же отлично помнишь, я был пьян. Равно как и ты сам. Я вошел, думал, она спит, лег рядом. А когда проснулся, увидел, что... что...
Он пытается перевести дух.
Эжен отползает от него, словно желая слиться со скалой.
Наверно, он меня ненавидит, вдруг проносится в мозгу у Пера.
— Небось думаешь, это я ее убил? — говорит он.—Так нет же, нет! Я не убивал! Ты ведь достаточно хорошо меня знаешь, правда?
Теперь он уже просит, заглядывая в темно-серые глаза Эжена, там что-то мерцает, что-то для него непостижимое, потом натянутое как струна тело обмякает, будто разом обессилев, и Эжен бормочет:
— Да-да, я... я п-просто очень исп-п-пугался!..
— По-твоему, мне не страшно...
Пер подпирает голову руками и сглатывает комок в горле. Чайки кричат, запах вяленой рыбы ползет из-за серых выступов скал.
— Ты говорил со с-своим о-отцом?— хрипло шепчет Эжен.
— Нет. Почему-то не смог.
Он поднимает глаза, лицо Эжена сведено гримасой, жуткой ухмылкой, голова резко кивает.
— Х-хорошо!
— Не знаю.
— С-с ними н-нельзя г-говорить! Нельзя, нельзя!— Эжен словно давится словами, Пера охватывает жалость, смешанная с растерянностью, с неприязнью, он подается вперед.
— Я знаю. Но Вернер не такой... не как твой отец...
— Не наз-зывай его о-отцом!
Оба умолкают. Пер чувствует, как погружается в нереальность, запутывается в себе самом, в убожестве и пошлости, в неразрешенных проблемах, в равнодушии, во всем том, от чего Анна однажды почти сумела его освободить, слово за словом развязывая путы, снимая покровы, пока он не остался совсем нагой. Он тоже пытался излить душу в словах, рассказал о своем одиночестве, о смерти матери, об отчуждении, о Вернере, о дружбе с Эженом. Об Эжене ей хотелось услышать побольше, но, в сущности, рассказывать-то было особенно нечего; Луизу он решил сохранить для себя. А под конец уснул, свободный, пустой и умиротворенный...
Среди ночи она разбудила его и прогнала, молча, но решительно. И была как чужая, руки жесткие, глаза холодные, он помнит их взгляд.
— А т-точнее т-ты ничего н-не п-помнишь?
— Нет. Мы же чуть не полночи просидели тут за
бутылкой скверного коньяку из запасов твоего отца...
— Я н-не п-помню! Н-не п-помню!
— Да что ты, Эжен, ты все помнишь.
Однако большая часть случившегося скрыта туманом, и для Пера тоже.
— Т-ты часто... ходил к А-а-а...
Глаза Эжена широко распахнуты, взгляд блуждает, потом останавливается, устремленный куда-то рядом с его лицом, губы кривит вымученная усмешка, гримаса на белом как мел лице. Пер замечает вдруг, что серая блуза приятеля перепачкана, покрыта бурыми пятнами. Ему очень хочется встряхнуть Эжена, привести его в чувство, пробудить воспоминания, пусть разделит их с ним, Пером, а не прячется в свою скорлупку.
— Может, ты тоже ходил к ней, а? К ее ласкам, к ее телу, к... к...
Пер шумно сопит, внезапно накатывает отчаяние, не только оттого, что он наугад, интуитивно нанес этот удар, который явно попал в цель, но и оттого, что он не может ничего изменить, не может вернуть к жизни умершую; он проводит рукой по глазам, по верхней губе, на плечо вдруг ложится рука Эжена, взволнованный голос уверяет:
— Мы ее з-забудем! Не было ее — и в-все! Это не ты, ты не мог этого сделать, она была мертва, когда ты пришел, лежала там, совсем-совсем мертвая, подложив руку под щеку, она хотела этого, хотела, хотела...
Голос срывается на крик, птичий крик над шхерами. Пер ладонью зажимает Эжену рот.
— Тише! Успокойся. А не то мы оба скоро дойдем до истерики, как женщины у отца в конторе. Была там нынче одна, порола какой-то вздор насчет детской коляски, ты бы слышал...
Он говорит, говорит, просто чтобы не молчать, шепчет слова, одно за другим, чтоб заглушить досаду, смутное подозрение, что Эжен ошибается: никто из них не сумеет забыть Анну, и он действительно непричастен к ее гибели, хотя Эжен, кажется, упорно верит в обратное... Но Эжен перебивает его:
— Коляска? Какая коляска?
— Почем мне знать? Даленихиной дочки вроде, Виви. Далениха орала, что ее-де украли.
Эжен хватает его за плечо.
— Пер! Разве ты не помнишь? Ты же взял коляску, говорил, она, мол, станет тебе опорой в жизни, ну вспомни! Ты еще сказал: так ребенок тянется к ребенку. Помнишь? Это последнее, что я видел перед тем, как мы расстались. Т-ты и коляска... Пер! Что т-ты с ней сделал?
Он шепчет, заикания почти не слышно, глаза настороженные, ясные, Пер невольно наклоняется вперед, сердце молотом стучит в груди, в ушах шумит, он старается вспомнить, но в памяти мелькают лишь разрозненные обрывки: шаги на посыпанной гравием дорожке, лицо Анны, потом древняя старушонка, бредущая мимо... мимо кого? Они, шатаясь, плелись с Горы, горланя песни? Плетеный узор, из тростника, что-то белое... Пер качает головой.
— Нет, ничего не помню.
Ему страшно, накатывает дурнота, все плывет перед глазами—облака, предметы, камни.
— Ты сказал, она тебе пригодится, и очень скоро.
— Для чего?
Пер глядит на Эжена, на его гримасу, на глаза, которые наблюдают за ним, будто выслеживают,—глядит так, словно вокруг нет больше ничего, кроме этих преследователей-глаз. Крики чаек—как призыв о помощи. Да, теперь он вспоминает, в самой глубине души, за стеной забвения жива память о том, что рассказала ему Анна. Она, мол, ждет ребенка. И лучше уж пусть отцом будет он. А сама смеялась.
Не так он и глуп, этот Эжен, губы полуоткрыты, глаза внимательно следят за каждым его движением, на лице гримаса триумфа, издевка, какой он прежде не видел. Такое чувство, будто падаешь в бездну.
9. Нильс
Поступило заключение от фон Адлера, но Вернера на месте нет. Нильс Нильссон принимает бумагу и быстро просматривает ее. На душе у Нильса тревожно, не только от запаха гари, но и от чего-то другого. Внутренне он весь подобрался, словно охотничий пес, замер в стойке, готовый принести...
Что принести?
Глаза торопливо бегут по ровным красивым строчкам: «...при вскрытии... беременна на третьем месяце...» Он встает, не выпуская бумаги из рук, очень хочется поговорить с кем-нибудь, но все в разгоне—в городе, на пожарище, на пристани, а сам Вернер бог знает где.
Он проходит в кабинет Вернера; ученик стекольщика Брюлина вставляет в раму новое стекло—Вернер распорядился. От стыда, что ли? Зная Вернера, Нильс понимает: скорее всего, он просто не хочет сплетен. Коли их можно избежать. Лето, мол, ветер, стремительные тени, пух от одуванчиков, что носится в воздухе, как слухи...
Не знают они Вернера. Едва появившись в городке, он взял на свое попечение тех, кому надо было помочь выучиться. В том числе и Нильса, а кто такой был Нильс? Всего-навсего мальчонка из бедной рыбацкой семьи.
Вернер научил его слушать и смотреть, держать, где надо, язык за зубами, а где надо, действовать—и все это как в тисках между царскими властями, с одной стороны, и ожесточенной местной оппозицией—с другой. Кто же они—пособники властей? Несомненно, в большинстве своем лояльные прислужники царя. Но не Вернер.
Тот, кто швырнул камень, об этом не знает. Или все-таки?
Неуверенность, сомнения—как невидимые червячки в деревянной панели, которых трудно извести. Как лица, глядящие ему вслед, когда он шагает по Горе или по Рыбному рынку. Или возле Заставы. Чтобы добиться ясности, придется здорово поломать голову.
Невидящим взглядом Нильс смотрит на юнца за грязным, только что вставленным стеклом, а тот глазеет на него. Потом ни с того ни с сего показывает Нильсу язык и мгновенно исчезает. Ветер пробегает по кустам сирени.
Провинциальный городишко, черт бы его побрал!
Нильс мечтает о широких проспектах, об оживленном уличном движении, об автомобилях—он видел, как они мчатся мимо,— о горожанах в ревущих авто, этих сияющих латунью диковинных экипажах, которые, должно быть, потоком катятся по улицам больших городов.
А вот и он сам: стоит в гуще автомобилей, указывает им дорогу.
Общество—с женами, детьми, прислугой, любовницами. Облачко, прозрачный флёр, ловчая сеть... Мысли Нильса путаются.
В блокноте, лежащем перед ним на столе, Вернер написал «Пер» и обвел имя кружочком.
Нить размышлений приводит его к Анне Перс, он тянется к телефону, просит соединить его с Юнгквистом в Або.
— Это Нильс Нильссон из Нювика,— говорит он,— нам нужны кое-какие сведения об Анне Перс... Нет, просто в дополнение... Меня... то есть нас интересует, не была ли она на постоянном содержании... Что?.. Собственная комната... Знаешь... Да, попробуй выяснить, не видал ли кто... Да-да, сообщи Вернеру...
В трубке трещит; положив ее на рычаг, Нильс секунду сидит без движения и разглядывает Вернеровы кружочки и черточки. Мысли его спешат, мечутся рывками, словно рыбья стайка.
Анна частенько бывала в отъезде. По нескольку раз в месяц.
Он подходит к окну, поглаживает ладонью небритую щеку. Тишина, покой. Он смотрит на клочок голубого неба, на зелень, на забор Русенблада. И на старика Блома, который притащился сюда со своей тележкой и стал под окном.
Старикан, как всегда, нетвердо держится на ногах. Уж не он ли...
Нильс отворяет окно и высовывается наружу.
— Ступай-ка ты отсюда!
Старик разевает черную пасть с пеньками зубов.
— Хи-и! Невеста в гробу, а жених в огне! Хо-хо!
— Ты что болтаешь? — С плохо скрытым раздражением Нильс глядит на этого крохотного злого духа, воплощение всяческой грязи и сплетен, не то городского дурачка, не то хитрющего осведомителя. Старик брызжет слюной и шипит; тут явно что-то есть, кто-то и впрямь в огне — но кто? Еще пахнет гарью, едкий, горький смрад примешивается к аромату сирени и жасмина.
Старик поднимает руку, впечатление такое, будто голые кости с воплем вылезли из безжизненного тряпья.
— Грех отца-а-а падет на сы-ы-ына, и останется тот » покинут... Возмездие грядет, аллилуйя!
Нильс не припомнит в Библии такого отрывка, опять старик перекраивает Писание на свой лад. Удивительно, как этакая скверна уживается с благочестием, мало того, этот поганый рот без конца поминает имя всевышнего. Старик так разорался, что, верно, слыхать на полгорода. Хоть он и от роду помешанный, но глаза у него всегда были на месте, а проповеди его нередко изобиловали до ужаса точными намеками на самые отвратные городские скандалы; болтовня портовых кумушек, подспудные и открытые, воняющие потом и пышущие завистью пересуды посетителей пивной, убийственно злобные кривотолки, исподтишка пущенные обитателями Горы, а подчас и тонкие ядовитые колкости-стрелы клубных завсегдатаев— все это сортируется, перемешивается, перетряхивается, как поклажа бломовской тележки, и, сдобренное Ветхим Заветом, превращается в этакое густое варево,
которое Нильс, благодаря Вернеру, понемногу научился воспринимать всерьез.
Разумеется, не полностью. Кое в чем.
Его вопрос падает прямо в пасть проповедника:
— Кого это ты имеешь в виду? Какого такого жениха? Анна ведь не была замужем...
— Ха-ха! Из сатанинского логова явился он! Избави нас, господи карающий, от свинства и блуда! Среди ночи! Сюда пришел! Сюда!
Лоснящийся от грязи сюртук полощется на ветру, котелок старик оставил в тележке, на ящике; какая-то дворняжка задирает ногу возле газового фонаря на углу Хенриксгатан.
— Ты что же, намекаешь на... Вернера?! Совсем с ума спятил!
— Сын! Сын!
Старик Блом пускается в пляс, хихикает и пыжится, машет руками, квохчет от смеха, но ничего больше не говорит, на сей раз он выпустил весь свой яд сполна, ничего вразумительного из него не вытянешь, не стоит и пытаться; Нильс по опыту знает: только запутаешься.
Он закрывает окно и с минуту стоит в задумчивости. Потом выходит в коридор, намереваясь отправиться к себе, но на полпути останавливается, глядит на дверь Пера.
Надо же, комар—уже теперь зудит в темном коридоре.
Нильс тихо берется за дверную ручку, что-то в душе противится, это не в его правилах, но заглянуть туда просто необходимо. Постель в беспорядке, окно распахнуто настежь. Смотреть особенно не на что: стол, несколько деревянных стульев, книги на столе, одежда, раскиданная по полу. Он уже посреди комнаты, машинально поднимает рубашку, брошенную возле стула, слышен стук: что-то выпадает из нагрудного кармана и катится по полу— камешек?
Нильс нагибается и поднимает какой-то серый осколочек, вроде мрамор, хотя нет, это перламутр, с одного краю выемка, как от отверстия.
Он машинально прячет осколок в карман.
Кто-то входит в дом; несколько шагов — и Нильс уже у порога, лицом к лицу с Вернером, оба смотрят друг на друга.
— Пройдем ко мне,— говорит Вернер и, тяжело ступая, идет первым.
В кабинете Вернер жестом приглашает его сесть. Вид у Вернера усталый и в то же время сосредоточенный, щелки глаз еще уже обычного, едва заметны. Нильс открывает рот, откашливается, но Вернер опережает его:
— Убийство Анны, пожар, выбитое окно—как по- твоему, есть тут какая-нибудь связь?
Вернер наклоняется, выдвигает один из ящиков стола, Нильс знает: он хоть и кажется безразличным, но слушает и хочет услышать его мнение, сформулированное четко и ясно. Похоже, он не удивился, застав Нильса в комнате Пера. Впрочем, сейчас, сию минуту, это не важно.
— Едва ли,— задумчиво качает головой Нильс.
— Почему?
— Очень уж разные вещи.
— Ну а смерть Пера Якоба Перса? — Вернер говорит себе под нос, будто набрел на эту мысль только что.
Нильс отзывается, помолчав:
— Тоже едва ли.
— Ладно.
Вернер безмолвно глядит на Нильса; тот поднимает голову и говорит:
— Старик Блом был здесь недавно.
— Я с ним тоже столкнулся. Слушай, ты помнишь, как Пер запихал старикану в тележку, в эти его «сокровища», злющего кота Лейвискя?
— Блом призывал кары на всех ваших потомков до четвертого колена...
Нильс невольно улыбается, но Вернер серьезен.
— Старый хрыч затаил на мальчика злобу. Вот и связывает Пера и Анну.
— Хуже. По его словам, он видел, как Пер...
Но Вернер опять нагибается, вроде и не слушает, выкладывает на стол носовой платок, в лице у него вдруг появляется какая-то отрешенность.
— Я был наверху, над смолокуренным складом. Коляска-то, думаю, съехала оттуда, и, может быть, остались какие-никакие следы. По крайней мере запах керосина. И вот что я нашел.
Вернер разворачивает носовой платок—там перочинный ножик с перламутровой рукояткой. Нильс наклоняется— на рукоятке выщерблен кусочек. Его вдруг бросает в жар, рука медлит, но Вернер смотрит на него в упор, и он достает найденный осколок, кладет его рядом с ножом.
Вне всякого сомнения, осколок тот самый.
— Н-да,— вздыхает Вернер,—н-да...
Нильс на миг закрывает глаза, Вернер устало откидывается на спинку стула.
Дом погружается в безмолвие.
Это он завел такой порядок. Против экипажей на железном ходу он бессилен, вон они, так и едут по Хенриксгатан. Никуда не денешься и от топота копыт, от голосов, от криков разносчиков, от гомона на площади, от пароходных гудков.
Однако их можно заглушить драпировками.
А ближе к осени драпировки не пустят в дом бледный отсвет газовых фонарей. Кухарке можно сделать выговор, пусть не гремит кастрюлями, и горничная пусть не хлопает замком деревянного ларя.
Те, кому он выговаривает, подчиняются.
В июне можно зажечь керосиновую лампу и стать так, чтобы видеть себя одновременно и сбоку и спереди, в двух зеркалах. Заведешь в своей жизни порядок, так и вещи будут тебе послушны.
На столе серебряная подставка для ручек, две чернильницы, пресс-папье с мраморной шишечкой и бювар, украшенный орнаментом из белых лилий.
Обыкновенно он глядит на все это с удовольствием — чистота, девственная свежесть...
Ручки стоят в ряд, по росту. За ними следит Сесилия.
Он рассматривает фотографию жены—нарядное белое платье, шляпа с большими полями, спокойный печальный профиль—и на миг закрывает глаза. Это лицо в порыве страсти... хоть раз бы увидеть его таким!
Просматривает коллекцию французских открыток, перебирает их, наконец находит свою излюбленную. Внимательно изучает ее.
За дверью какие-то звуки, он замирает. Шаги... удаляются... В воздухе проносится легкий шелест. Он мысленно видит ее, вот она—спокойная, угрюмая, холодная, неминучая.
Консул, собрав открытки, кладет их обратно, запирает шкатулку, ставит на место.
Теперь его ждет раскрытый дневник.
Он макает перо в чернила и пишет: «Четверг, вторая половина дня. Испытание соблазном. Загадка плоти и погибель». На секунду перестает писать, смотрит на полоску света между гардинами, затем продолжает:
«Лишь испытавший соблазн в ладу с этими силами. Его жгучая тоска может обернуться силой».
Он сидит как изваяние, только щека, ненавистная щека, дергается раз-другой, потом он замечает, что пальцы все еще судорожно сжимают перо. И добавляет: «Соус пригорел. Наказание».
Спрятав тетрадь в средний ящик, консул запирает его на ключ. Встает, идет в переднюю, вынимает из подставки тросточку; в доме ни звука. Он отворяет дверь и выходит на улицу.
И сумрак на подъездной дорожке, и зеленеющий сад остаются позади. Он толком не замечает ни запахов, ни красок. Все до странности неподвижно. На Хенриксгатан редкие прохожие. Он пересекает парк, выходит на Брюнн- саллён, гравий хрустит под ногами. С теннисных кортов доносятся звонкие голоса и глухие, но все же отчетливые удары ракеток по мячам. У табачника Кольтхофа горит свет, ветхая вывеска с надписью «Сигары — Курительный и Нюхательный Табак» покосилась, и он, стоя у прилавка в уютном сладком аромате, сообщает об этом хозяину:
— Вывеска-то ваша криво висит.
Кольтхоф, маленький, рыхлый, женоподобного вида толстяк, пожимает плечами. В этот миг из кладовки появляется его дочь, консул разглядывает ее—волосы, губы, налитую грудь, мучнисто-белые плечи; она тоже бросает на него взгляд и исчезает.
Кольтхоф сверлит гостя своими поросячьими глазками. Прямо как полицмейстер, думает консул. В ожидании сдачи снимает пенсне и потирает переносицу—больно. От карбидной лампы под потолком воняет.
— Лампа у вас смердит.
— Весь город смердит,— говорит Кольтхоф.
— Что вы имеете в виду?
— Уж вам-то, консул, наверное, кое о чем известно.
Рединг сплетает и снова расплетает пальцы.
— Известно? О чем же?
— Убийство и поджог — вот что смердит. На весь Нювик.
— А кто говорит о поджоге?
— Весь город.
— Это явное преувеличение. В городе полно болтливых кумушек и сплетниц, причем обоего пола. Мыслить надо четко. Иначе тебе конец.
Кольтхоф молчит.
Опустив взгляд, консул замечает в углу что-то черное, шевелящееся, надевает пенсне.
Подумать только—крыса! Не большая, но и не маленькая. Копошится в углу между прилавком и стеной.
Быстро шагнув вперед, он пытается дать ей пинка, но она увертывается. Тогда он бьет еще раз, и крыса застывает без движения.
Кольтхоф перегибается через прилавок. Консул тростью переворачивает крысу.
— Крысы бегут с тонущего корабля,— роняет он,— верно, Кольтхоф? Уберите дохлятину, а то Нювик засмердит еще сильней.
Он невольно смеется, вернее, гогочет, сухо, отрывисто. Как раз в эту самую минуту из дальних комнат снова выходит хозяйская дочка, Дженни, в лиловом платье с короткими рукавами и с белым зонтиком в руке. На груди у нее поблескивает цепочка. Она идет к выходу, не глядя на крысу; дребезжит дверной колокольчик. Консул следует за нею. Снаружи веет ласковым теплом.
Из Водолечебного парка долетают мелодии октета «Луи». Луи, Луиза, нежно-певучий вальс...—текут его мысли. Дачная публика небольшими группками фланирует под сенью каштанов, хочешь не хочешь, а надо раскланиваться, каждую минуту. Делает он это изящно, с достоинством, глаза же тем временем зорко подмечают все вокруг.
На миг ему чудится, будто неподалеку 'мелькнула Луиза в обществе этого наглого мальчишки, фридовского отпрыска. Он поджимает губы, останавливается, потом спешит за ними следом, но они исчезают в шуме и суете возле музыкального павильона.
Боже мой, ну перед кем Оффенбах мечет бисер? — думает он. Перед ничтожными людишками, которые носятся со своими мелкотравчатыми планами, плетут убогие интриги и, как дети, всегда готовы разбить, запачкать и погубить все возвышенное, чистое, совершенное.
Он проводит языком по сухим губам, садится на одну из узорных чугунных скамеек и наблюдает за фон Адлером; закончив прием пациентов, тот быстрым шагом пересекает лужайку — бледная стремительная тень в безысходной войне с истерией, ипохондрией, малокровием...
Консул досадливо морщится. Быть может, имело смысл перехватить доктора, спросить о диковинном шелесте, который подчас слышится ему, но он знает: фон Адлер не питает к нему симпатии. Да и сам он не слишком расположен к фон Адлеру, чутьем угадывает в нем какое-то презрение, с которым, разумеется, забавно было бы вступить в единоборство, и, как знать, возможно, они достойные противники. Ну да бог с ним...
А вот и полковница Дален, останавливается, черт ее принес. Деваться некуда—консул встает и кланяется. Скрывая отвращение, разглядывает ее холеную щучью физиономию, слегка выпученные глаза. Она берет его под руку и с грозно-таинственным видом тащит за собой по аллее парка.
— Вы обязаны предпринять что-нибудь, консул Ре-динг!— шипит она.— Наш полицмейстер никуда не годится! Никуда! Украли коляску моей дочери, а когда я пришла заявить о пропаже, он имел наглость чуть ли не защищать эту... эту покойницу, кокотку эту... все только о ней и говорят...
Он ощеривает зубы в беглой улыбке.
— Едва ли уместно говорить здесь об этом, полковни-ца. Пустая девчонка, скатилась по наклонной плоскости. Как пылинка, сверкнула на миг в ясном небе. Но что до коляски, расскажите-ка подробно, я весь внимание.
Она рассказывает. О горелых обломках на складе, о кукле; октет между тем представляет публике довольно жалкую интерпретацию увертюры к «Легкой кавалерии».
На верхней губе у полковницы усики, они шевелятся в такт движениям ее пухлого рта. Исчезни она, мало кто горевал бы, думает консул.
Смолокуренный склад уже совсем близко.
— Боже, какой мерзкий запах! Куда вы меня ведете, консул?!—восклицает полковница.
Запах сгоревших акций, думает он, моих акций.
Как бы там ни было, со страховкой от пожара у него все в порядке.
В ту самую минуту, когда уже пора повернуть обратно, он замечает на пожарище Эжена: юноша словно ищет что-то в золе.
Он хочет окликнуть пасынка, но раздумывает. А едва распростившись с этой кикиморой, спешит назад. Однако на пожарище никого уже нет.
Он стоит среди этой мерзости запустения, с моря тянет ветерком, но он не замечает. Думает о кукле, о которой рассказывала полковница, о кукле с розовым лицом и белой шеей, в лиловом платье.
Он сам не знает, чего хочет, хватит уж возиться с этим Пером, со всеми его мучительными, наполовину подавлен-ными эмоциями. Он озирается по сторонам, хочет стряхнуть наваждение. Отчего юные горожанки видятся ему такими очаровательными и тревожат душу? Только свет летнего дня тому виной, и играющий юбками ветерок, и взмахи легких зонтиков, и загадочные улыбки, и гладкая кожа, и глаза—словом, все то, что собрано в Луизе и чем он упивается, когда она не видит, что он глядит на нее... А может быть, видит? Женский, девичий мир... страх и томление. Девичий смех, склоненные друг к дружке головки, бедра, которые словно танцуют, когда девушки прогуливаются по берегу,—все это жжет его огнем. Он чувствует себя изгнанником. Их мир ему не принадлежит.
Вместе с тем ему хочется вырвать их из мира грез—накричать на них, что ли, потрясти за птичьи плечики... Образ Анны встает перед ним как наяву, слезы навертываются на глаза, и что-то такое упорно твердит: все это должно быть разрушено. Изысканный, прекрасный мир лета.
И все же он этого не хочет. Мечется, то туда, то сюда. Недоступное издавна притягивало его как магнит. И когда была осень и деревья пылали багрянцем, и когда налетали зимние бури, и когда появлялась первая трепетная зелень, он мечтал о лете, о дачниках, о Луизе.
Но вот они приезжали—и он чувствовал себя как никогда одиноким. Если боль становилась невыносимой, можно было напиться допьяна, тайком пробраться к Анне, укрыться у нее и грезить о том, как создашь собственный мир и собственную жизнь. С Анной они были близки лишь несколько раз, и ему не хочется вспоминать об этом. Она утешала, порою довольно резко, не щадя его. Он разглядывал в ее простенькое зеркальце себя, свои черты, унаследованные от Вернера,—есть ли там что от матери? Все какое-то незавершенное, некрасивое—он ненавидел свое лицо. И так и сказал Анне. Она было засмеялась, дескать, видала мужчин и пострашнее, потом умолкла.
Нет, он не знал, чего хочет. Раз, когда она в насмешку назвала его мальчишкой, он рассвирепел, кинулся на нее, начал трясти и даже испугал. «Не думай, что можешь делать со мной что угодно!»—кричал он.
Но испуг ее был недолог. Очень скоро она перестала отбиваться, в лице проступило что-то деланное, расчетливое, она глядела на него, и ему ничего не оставалось, кроме как выпустить ее. А она с каким-то странным выражением проговорила: «Все вы одинаковы, все...»
Пер и тогда не понял, что, собственно, она имела в виду, да и теперь не понимает. Не в силах унять дрожь в руках, он ушел от Анны, а на пороге столкнулся с Эженом, и тот, помнится, шел за ним по пятам до самой Горы. В конце концов Пер прикрикнул на приятеля, и Эжен убрался восвояси, как побитый пес. Пер сразу же и раскаялся, только рядом уже никого не было.
Он лежал тогда среди камней с жуткой головной болью, но мало-помалу глубокое и прохладное вечернее небо принесло ему успокоение. В душе было одиночество, пустота, безнадежность. Он протянул к вечернему свету руки, темные, неживые. Откуда брались эти вспышки ярости, что жгучей сыпью и белыми пятнами пестрели на его совести? Откуда бралось забвение?
Ее мертвые глаза, в них не было ни укора, ни ненависти, одна только пустота—пустота пожарища. Он не забыл их и никогда не забудет.
Пер глядит на скопление городских крыш, на скалы, на бухту, на островки, потом ложится навзничь в траву. Шаг за шагом пытается оживить в памяти тот вечер и ту ночь. Они с Эженом устроили пирушку в расселине на Горе. Сперва осушили бутылку самогона, которую ему передал на пристани Руснель, в благодарность за помощь с сетью для ловли сига в тот день, когда он прогулял занятия и получил от директора серьезное замечание. Потом они переключились на более изысканный продукт, коньяк пили, только Эжен явно выбирал бутылку покрасивее, а вот вкус был неприятный.
Что-то брезжит в памяти, но Пер никак не может уловить, что именно.
Садится, стискивает голову руками. Потом они, под-держивая друг друга, спустились вниз. Кто-то встретился им по пути, мелькнул тенью, черным силуэтом,— похоже, это было в переулке Фискаргренд — и тотчас пропал среди черной зелени, в бледном, прозрачном свете луны. Ох уж этот лунный свет, все-то он переиначивает, все окутывает покровом тайны, в его безжизненно-холодном сиянии шаги звучат мягко, а голоса кажутся далекими- далекими...
И тут он вспомнил про коляску: она стояла как нелепый, кособокий монумент, шевелилась в зыбких тенях... а еще вспомнил, как Анна засмеялась, когда он спросил, не он ли отец...
Тогда у него возникло желание ударить. Возникло.
Тогда.
Он смутно вспомнил, что взял коляску и что она, поблескивая спицами, катилась вперед, а он опирался на нее и даже чуть не упал внутрь.
Откуда? Куда? Стерто из памяти. И был ли с ним Эжен—тоже. Теперь ему припоминаются бесконечные блуждания; наверное, они поддерживали друг друга, и он все рассказал...
Когда сам не знал всего.
Отверстый в крике рот—из него не вырвалось ни звука, горло сдавлено жгутом; он стоял рядом и смотрел.
Зажал ладонями уши. Но все было безмолвно, только кричали морские ласточки. Руки, они были скрючены, словно когти. А его собственные?
Он нагибается над расщелиной, в которой блестит вода, и моет руки, и смачивает влагой лицо, и в этот миг слышит за спиною шаги. Медлит, едва смея обернуться. А обернувшись, видит перед собой Луизу. Так хочется броситься к ней, обхватить руками ее ноги, но он выпрямляется и застывает без движения.
— Ну и вид у тебя!—Луиза робко улыбается.
— A-а, это я упал и поцарапался,— выдавливает он.
— Дай я посмотрю.
Но он прячет руки за спиной, как приготовишка. Да он приготовишка и есть.
' — Как хочешь. Я не могу тебя заставить.
— Да, не можешь.
— Анна... вот она умела тебя заставить...
— Что ты имеешь в виду?
— Сам знаешь что.
— Нет, правда, если б я знал...
Голос у него хриплый, неживой. Она молчит, кончиком языка быстро проводит по пухлым губам, кроткие карие глаза смотрят на него в упор.
— Ты ходил... ты бывал у нее... как другие...
— Едва ли тебе это интересно, ведь с этой точки зрения я тебя не интересую. Верно?
Сердце стучит чуть ли не в горле, Пер так волнуется, что даже ноги дрожат. Невольно цепляется за Луизу, ищет в ней опору — иначе он не может. Девушка не отпрянула, шепчет:
— Конечно, интересуешь, конечно! И ты это знаешь, Пер!
Его лицо совсем близко.
— Ты бы убил меня из ревности, а? У тебя такие большие, сильные руки...
Да, руки Пера ползут к ее белой беззащитной шейке, такой трепетной под его пальцами, он тянется к ней губами, но в тот же миг, услыхав чьи-то шаги, они отскакивают друг от друга, оба дышат прерывисто; она, спотыкаясь, спешит к городу, мимо Вернера, который идет ей навстречу.
— Луиза, что случилось?
Но девушка, не отвечая, спешит по тропинке, нет, уже почти бежит, на удивление ловко.
— Черт возьми, что это она так торопится?! И чем вы тут, собственно, занимаетесь?
Пер молчит, стоит отвернувшись, не знает, что на него свалилось—великое счастье или великое разочарование.
Вернер грузно опускается на каменный выступ и хлопает ладонью рядом с собою.
— Сядь-ка, сынок!
Пер садится, и так они молча сидят некоторое время, глядя поверх густеющих красок в июньский негаснущий свет. Крыша купальни еще мерцает темной зеленью, смотровая вышка словно вырезана из черной бумаги— один из многих силуэтов в альбоме времени. Только лишь контуры, думает Вернер, всё-всё, ни обжитых помещений, ни живых людей. Он ищет нужные слова и наконец говорит:
— Я не верю, что ее убил ты, Пер. Знаю, ты этого не делал. Доказательства, они здесь, в сердце. Но мне нужны факты. Все, какие ты можешь сообщить.
Он чувствует себя тяжелым, как гора, как земля, как церковные стены. Какая ничтожная жизнь, думает он, какое жалкое существование. Беспрестанное вынюхивание, вопросы, но спокойных, желанных ответов нет как нет. Преступность и нужда, увертки и притворство!
Он кажется себе стариком, опустошенным и несчастным. И с горьким отчаянием смотрит на неподвижного Пера.
И его отчаяние услышано: Пер склоняет голову, заливается слезами. Вернер кладет руку на плечо сына.
12. Франс и Аксель
Двухэтажная вилла — собственность клуба—разукрашена балконами и шпилями: памятник, увековечивший причудливые завитушки искусного резчика, окруженный буйными зарослями Rosa rugosa и дикого винограда. Сквозь высокие окна с их веерообразными сводами лиднеетея уставленный закусками стол. Там есть все, что полагается и чего требует желудок гурмана: селедка, салака, заливная рыба, лещ в желе, соленые и маринованные огурчики, свекла, копченый сиг, лососевый рулет и коронное блюдо фру Бёккельман — соленая сельдь под мясным соусом. Есть и колбаса, и заливное мясо, и бифштексы с луком, тоненькие, как кленовый листок, и салаты, и—-пожалуй, самое главное —графин с водкой. Этот сосуд прессованного стекла клубу преподнес брандмейстер Толльстрём, преподнес однажды вечером, после того как, споткнувшись на ковре, разбил графин- предшественник. Вон он—красуется на почетном месте, холодный, запотевший.
Временами в клубе бывают мелкие неурядицы. То кому-нибудь станет плохо, то с кем-нибудь приключится приступ почечно-каменной болезни, то кто-нибудь схватится за сердце и за бумажник. В таких обстоятельствах необходимо расстегнуть жилет, успокоить неровное сердцебиение, приложить холодный компресс.
Благо салфеток под рукой сколько угодно. Частенько и фон Адлер при сем присутствует. Особой популярностью доктор похвастаться не может, тем более что нередко от него слышат: в клубе-де едят нерационально и слишком много. Правда, это еще куда ни шло, можно пропустить мимо ушей, но он ведь норовит провести сравнение с Горой, а уж это чересчур.
Здесь, в клубе, можно помузицировать, поболтать, пошуметь, а то и интригами заняться, ссорами да ледяным молчанием.
В таком молчании сидят Франс Альмгрен и Аксель Рединг, после того как консул немногими, но тщательно подобранными словами охарактеризовал нынешнее искусство: феномен распада, декаданс, умопомешательство. А засим он высказал надежду, что портрет коксулыпи будет схож с оригиналом. Франс горячится1, но берет себя в руки и сдержанно замечает:
— Верно, декаданс — это гибель, распад, помешательство. И проявляться он способен в самой косной двойственной морали, в самом беспардонном фарисействе. Новая живопись провозглашает любовь к свету, к чистоте, а значит, противостоит декадансу. В вашей супруге, консул Рединг, есть этот свет. Неприятие света—вот что такое декаданс.
Консул шуршит газетой, от души забавляясь, улыбка скользит по его губам, и с сознанием некоторого превосходства он говорит, глядя мимо Альмгрена:
— Разве светобоязнь больше не является необходимым условием жизни?
— Что касается людей, им, пожалуй, без нее не обойтись. Иначе не сокроешь то, что надо сокрыть.
— И что же это может быть?
— Самые заветные чувства, самое ранимое в человеке. Но искусству такое сокрытие неведомо. Искусству стесняться нечего, оно говорит само за себя, отвергает духовную гибель, не может не отвергать ее, точно так же как отвергает двойственную буржуазную мораль.
— Но буржуазный стол с закусками оно все же не отвергает, а? И буржуазную красоту женщин?
Тон у консула по-прежнему светский, только чуть более резкий.
— Пища, тепло, тело—это не собственность одного какого-то класса.—Франс Альмгрен весь подается вперед, ему будто впрыснули адреналин, кажется, сейчас вскочит и полезет в драку. Но нет, он себя сдерживает.
Так тихо, словно в клубе лишь они двое, ни гула разговоров, ни аромата сирени, ни запаха бифштекса с луком.
— По-моему, двойственная мораль процветает всюду, и на Горе у пролетариев тоже, я уверен, а не только среди интеллигенции,— говорит Аксель Рединг. Световой зайчик от пенсне молнией проносится по стене и окну. Он снимает пенсне, потирает переносицу, затем встает, подходит к окну и отворяет его. Отводит назад плечи, вскидывает голову, будто готовится произнести речь. Тихая музыка слышна из Водолечебного парка, звуки мягко цедятся сквозь листву каштанов и кленов. Консул достает портсигар и закуривает. Потом роняет, не оборачиваясь:— Скоро ли будет готов портрет?
— В последние дни я, вообще-то, занимался другим сюжетом.
— Вот как, разбрасываетесь? И вам это по карману? А что же за сюжет такой?
— Смерть. Умершая девушка.
— Угу. В духе Мунка ? Смерть, блуд, животная похоть?
— Все это существует, среди нас.
— С живой натуры? Я имею в виду смерть.
— С Анны Перс.
— A-а. Любопытно. Вы присутствовали при ее смерти?
— Она была убита. Задушена. Я видел ее уже мертвой.
— А я было решил, что беззастенчивое искусство и сюжет себе создало, не задумываясь, чего это стоит.
— Беззастенчивое, но не бесчеловечное. Не холодное, не расчетливое, не блудливое.
— Да? Мне оно часто представляется маскарадом, и один бог ведает, что кроется под его личинами. Будемте откровенны, Франс. Взгляните вон в то зеркало. Что вы там видите? Художника с большим будущим? Вряд ли. Нахлебника буржуазии? До некоторой степени, но не совсем. Перед вами мечтатель, идеалист, наивная душа, личность бледная, чуть ли не прозрачная. Вынужденная взяться за кисть, дабы создать себе иллюзию жизни.
— Но ведь каждый из нас что-то создает, чтобы ощутить себя живым. Создает... или разрушает. Любит, ненавидит...
Однако в глазах консула уже появился какой-то мерклый отблеск, не слушая Франса, он продолжает свою мысль:
— Вам, художникам, нужны не теории касательно жизни и смерти, а живая плоть. Разве мертвый ночной мотылек сравнится с живым? Будь я художником, я бы писал теплую, нежную, всеобъемлющую женскую красоту, кожу, волосы, губы, руки, плечи, ноги, все живое, притягательное, по-женски томное, чувственно-совершенное, это ведь куда лучше мертвой плоти...
Голос у Рединга монотонный, цепкий взгляд буравит Франса Альмгрена, который сидит, пригнувшись, будто для прыжка.
Франс подыскивает слова, и они приходят, робкие,
неуверенные:
— Мертвая плоть тоже когда-то жила и любила. Даже Анна Перс, поверьте, любила по-настоящему.
— Любила? Конечно. Любила.
Никаких подчеркнутых ударений. Консул садится, оба с минуту молчат. Потом консул поднимает свою рюмку.
— За любовь и смерть.
Он пьет; Франс неожиданно встает и уходит. По комнате гуляет легкий ветерок, гардина колышется, как свадебная фата; консул соединяет вместе кончики пальцев, ладони образуют клетку, в которую он глядит. Закрыв глаза, он видит перед собой Сесилию: она кому-то улыбается, слышен венский вальс, он увлекает ее в танце, кружится, как ветер, как свадебная фата, Сесилия упорно смотрит мимо, танец все быстрее, все быстрее, вихрем проносится хаос огней, откуда-то издалека слышен гул голосов, смех, и вот они уже стоят в темноте, его руки у нее на талии, он заставляет ее посмотреть себе в глаза. И видит—две пустые глазницы, и словно падает в эту пустоту и мрак...
— Фру Бёккельман! Фру Бёккельман!—зовет он, открывая глаза.
Она появляется на пороге, веснушчатая, кругленькая, чрезмерно предупредительная, маленькие глазки мигом оглядывают стол, две рюмки, открытое окно.
— Да? Что вам угодно, господин консул?
— Художник Альмгрен еще здесь?
— Нет, ушел.
— А кто-нибудь тут есть?
— Только брандмейстер с несколькими знакомыми из города.
— Из города? Вы имеете в виду Або, фру Бёккельман? Или, может быть, по-вашему, это — город?
Она обнажает в улыбке мелкие острые зубы.
— Вы, господин консул, знаете, что я имею в виду. Наш городок маленький, провинциальный, его и город ом- то грех назвать. Все тут знают и друг друга, и друг о друге тоже. Я говорю о большом городе, который хорошо знаком нам обоим — и вам, господин консул, и мне...
В его взгляде мелькает тень отвращения.
— А что же творится в нашем, с позволенья сказать, городе, в этих райских кущах?
Она издает короткий лающий смешок.
— В любом раю есть свои змеи, господин консул.— И, тотчас став серьезной, подходит ближе, понижает голос:— По городу такие слухи ползут, господин консул, не хочешь да перепугаешься. Порядочный человек шагу спокойно ступить не может. Того гляди удавят, изнасилуют...
Смешная особа, думает он, а вслух роняет:
— Быть может, в один прекрасный день вас, фру Бёккельман, подадут нам на закуску. Под видом заливного. Наверняка будет бесподобно на вкус...
Он говорит не шутя, и Бёккельманша не воспринимает его слова как шутку. Тряся подбородками, она выпрямляется.
— Шутки у вас, господин консул, порою весьма тяжеловесные...
— А я вовсе не шучу,—ледяным тоном цедит Рединг; ее лицо багровеет, глаза влажно блестят, он с любопытством наблюдает за этими превращениями.
Неуклюже повернувшись, она идет к двери, а он говорит ей в спину:
— Закройте дверь, фру Бёккельман. Сквозит.
На пороге она оборачивается, бросает на него взгляд.
Но консул уже позабыл о ней.
13. Эжен
На чердаке, куда другим нет доступа, у Эжена собственный мир. Можно запереться на ключ, и никто не войдет. Пусть остаются вне стен, все эти чужие взгляды и голоса.
Там у него венский стул, кровать с латунными шишечками, которые слабо поблескивают в отсвете, что падает сквозь серое от паутины потолочное окно, выходящее на бухту. Хочешь—смотри ка этот муравейник, а самого тебя не увидит никто. Дома, люди—и впрямь муравейник.
Свои любимые книги Эжен хранит в ящике из-под сахара. Большей частью это пожелтевшие иллюстрированные журналы, а еще Жюль Верн, Стивенсон, «Робинзон Крузо». Старые книжки с картинками, сказки— истрепанные, читаные-перечитанные.
И куклы в плетеной корзине тоже истрепанные. Он любит поднять крышку, разложить их по порядку, устроить смотр—так полководец выстраивает свои войска. Куклы тупо, покорно глядят на него. В корзине они как в общей могиле, лежат рядышком, глаза большие, бессмысленные. Голубые глаза, розовые щеки, белые платья, панталончики с кружевами. Волосы, золотисто-желтые и на ощупь жесткие, у всех одинаковые, он любит перебирать их пальцами.
Вот у мамы и у Луизы волосы темно-каштановые и совсем другие.
На полу расстелено серое шерстяное одеяло, шагов его внизу не слышно, к тому же на одеяле можно полежать, рассматривая стропила, считая доски и слушая жужжание мух. По чердаку ползут тени, похожие то на силки, а то на гигантскую паучью сеть, которая опускается ему на лицо.
Тогда он, тяжело дыша, вжимается в пол.
Пол жесткий, твердый, откуда-то доносятся голоса, скорей всего из кухни, слов не разобрать. Все дышит покоем, убаюкивает. Эжен будто парит на грани сна и яви.
Он проводит ногтями по груди, по гладкой сорочке. Вокруг теплый запах пыли и дерева. Стропила—их вырубили топором, распилили, очистили от коры, принесли сюда, подогнали на место. Старая живица еще поблескивает в трещинах. Кровь стучит в висках. Сюда не приходит никто.
Только Пер был тут несколько раз. И Луиза. Пер поднял крышку корзины, посмотрел внутрь—и каким взглядом! В ту минуту Эжен ненавидел приятеля. И до сих пор при воспоминании об этом испытывает ненависть. А пришлось унижаться, говорить с вымученным смешком: «Это старые Луизины куклы, мне позволили их взять». И еще добавить: «Сжечь бы надо весь этот хлам!»
Он лежит не шевелясь и смотрит на пылинки; что-то стучится в сознание, тревожит его, руки дергаются. Он невольно привстает на локте, глядит на дверь.
Как во сне, ему видится Манда: стоит на пороге, протягивает руки—воплощение тепла, забвения, материнской заботы. Единственная, кого бы он с радостью впустил сюда, но она не идет, а он не смеет ее позвать. Как бьется сердце. А вдруг возьмет и перестанет? Его найдут, примутся горевать, и отчим тоже.
Своею смертью он отомстит.
Может статься, смерть сходна с тем, что он ощущает во время припадков, о которых никто пока не догадывается... или догадывается, но не более того. Ты будто рассыпаешься, в корчах...
Однажды на Горе Пер неожиданно наткнулся на него, но все уже миновало, он лежал в полудреме, как всегда после этого,— умиротворенный, будто очистившийся от скверны.
Пальцы разжимаются, от ногтей на ладонях чуть ли не раны.
Теперь Манда поет какую-то печальную песню. Пышная грудь колышется, как бы живет своей особой жизнью. Он видел в замочную скважину. Один лишь краткий миг, одну гнетущую секунду. И никогда не забудет. Все, что он видит, остается в памяти, как огненный знак.
Он и куклу помнит. Ту, которой больше нет. Кто-то побывал у него на чердаке и взял ее. Набитое опилками туловище, фарфоровая голова. Можно было колоть ее булавками, где угодно. А глупые глаза таращились, красный рот улыбался, волосы на ощупь были жесткими, как стружка. Или как щетина.
Он весь сжимается, складывается чуть ли не вдвое, как перочинный ножик, потом вытягивается в полный рост, словно под чьим-то взглядом, словно кто-то приближается—так и есть: на лестнице шаги, мамин голос:
— Ты здесь, Эжен?
Он не отвечает.
— Я знаю, что ты здесь. Может быть, откроешь своей маме? Мне хочется поговорить с тобой...
В голосе столько печали, он звучит глухо, умоляюще. Делать нечего—Эжен отворяет, отступает назад.
Чтобы войти в дверь, консульше приходится нагнуться, мелькает белая шея, пахнет ландышами, шуршит платье. Красивая, темные волосы блестят; она прижимает его к себе — оцепенев, он не успевает даже рта раскрыть.
— Мальчик мой!—шепчет она.—Мальчик мой! Ты еще любишь свою старую мать?..
— Ты не старая,— произносит он,—т-ты...
Она не замечает его заикания или делает вид, что не замечает, говорит:
— Садись!—И сама садится на корзину с куклами, глядит на него.—Ты ведь не боишься меня, Эжен, малыш...
— Я уже не малыш,— почти кричит он,—мне семнадцать лет!
Сесилия смотрит на него; воцаряется тишина, только ласточки щебечут над крышей, отзвуки лета, странно холодные и чужие.
— Эжен, Эжен,— говорит она,— я потому и пришла. Потому, что ты уже взрослый. Пришла... пришла сказать, что не тебе одному здесь одиноко й страшно...
— Т-ты одинока, м-мама? — Он как в лихорадке, из глаз брызжут слезы, с губ невольно слетает: — А как же Франс Альмгрен?!
Слова выплескиваются толчками, через силу.
Она глядит на него.
— Франс? Да, он один из моих немногих... друзей. Один из немногих, с кем я могу говорить. Ты, наверно, не поймешь. Но я боюсь... боюсь...
— Ч-ч-чего?—Услышать от нее эти слова—как избавление, всю ненависть точно ветром сдуло; он старается высвободиться.
— Я не знаю. Что-то витает в воздухе, словно дым пожара или еще хуже... Разве ты не заметил : хочу забыть об этом, но не могу, надвигается что-то грозное, я полудремлю-полугрежу, чудовищные образы, лица проносятся мимо...
У него дергаются уголки губ, он подносит руку ко рту, потом рассматривает эту руку—чужая, не своя. А Сесилия ничего не видит, твердит:
— Не бросай меня, Эжен. Ты и Луиза—единственное, что у меня есть, вы мне ближе всего...
— Н-нет... Он!
— Франс? О, что же это мой большой мальчик такое говорит?..
Но сын перебивает ее новым криком:
— Я имею в виду отчима!
Она опускает голову и говорит так тихо, что он невольно наклоняется ближе:
— Он несчастный человек, одинокий. Я не сумела дать ему то, чего ему недостает. Когда он... когда он прикасается ко мне... О Эжен, ты можешь это понять? Можешь? Вырос ли мой мальчик настолько, что понимает, как мне отвратительно...
Она тянет к нему руки, но он зажимает уши и только шепчет, бормочет шепотом:
— Ос-ставь м-меня в-в п-покое.
Его лицо как маска, он начинает дрожать, опускается на колени, падает на пол, весь дрожит. Она нагибается к нему, но он ее отталкивает; зубы оскалены, глаза закатываются, с губ слетает сдавленный крик; ей хочется защитить сына, она берет его руки в свои, не знает, что делать, наверное, надо сунуть что-нибудь ему между зубами, а то не дай бог...
Но он вдруг обмякает, пот градом катится по лицу, как слезы.
— Эжен,—шепчет она,—отчего ты не говорил об этом? Отчего? Отчего?
Голова сына лежит у нее на коленях, рукавом платья она вытирает ему рот, поправляет подушку, бережно укладывает его. Он совершенно без сил, глядит на нее пустыми глазами, едва слышно лепечет:
— Спасибо.— Потом закрывает глаза, дышит легко и ровно.
Сесилия смотрит на спящего, на своего сына, с чувством странного успокоения. И отрешенно думает: мне необходимо освободиться. От того, с кем я делю ложе. От всего вообще.
14. Нювик
Июньские сумерки опускаются на город, приносят с собою мягкие тени. Последние повозки выехали за городскую черту. Газовые фонари не горят: ночь достаточно светла. Но в гостиных темно, и те, у кого есть электричество, включают люстры. В большинстве же домов зажигают керосиновые лампы, которые неярким светом озаряют столы с книгами, рукоделием и вечерним чаем. А у бедноты—мелких кустарей, рабочих и рыбаков—пляшут но стенам холодные лучи карбидных ламп. Кастрюли с едой на полнедели стоят теплые на треногах в изразцовых печах. На полу спят люди. Детские лица и во сне бледны. Очень многим нужно рано вставать.
Но спят далеко не все. На Хелмановом пустыре оборванные мальчишки гоняют громадного злющего кота; шипя и фыркая, кот спасается бегством на задний двор возчика Ионссона, откуда сей же час доносится громкое кудахтанье. По Хенриксгатан, тихонько беседуя, прогуливаются царские офицеры с дамами; консульша слушает их, лежа на постели, прямо в платье. Сухие глаза смотрят в потолок.
Пришла пора летучим мышам начать возле крыш свой проворный трепетный пляс; пришла пора ежам, старательно принюхиваясь, пробираться темными садами к дверям кухонь, к мискам с молоком; пришла пора крысам выползать из своих нор. Кто лежит низко—на полу или на раскладной койке,— на того они могут напасть; а вот кто забрался повыше, на кровать с крашенными в черный цвет чугунными ножками или, еще лучше, с гладкими блестящими латунными столбиками, тому гораздо вольготней. Об этаких кроватях на Горе только мечтают.
Дело идет к новолунию, месяц красуется над звонницей монастырской церкви и над крышами, черные силуэты которых вырисовываются на фоне темнеющего неба. В господских кухнях чистят плиты, смазывают дверцы, конфорки. Манда зажгла в кухне свечу—так, мол, уютнее,— и мягкий свет заливает ее спокойную фигуру. Сады тонут в безмолвии своих ароматов. Вернер Фрид стоит у открытого окна, полной грудью вдыхает все это благоухание, мысли его блуждают. Он в одной рубашке, подтяжки с плеч скинул, но ложиться пока не собирается, хотя и знает, что встать должен рано. Он размышляет: о целостных картинах и отдельных штрихах. Все спокойно, только вода в гавани движется, образуя едва заметные вихри, из-за невидимых глазу течений. Консул Рединг останавливается у двери в спальню жены. Все тихо. Рука его медлит.
И вдруг—звон на весь город: на застекленной веранде портового ресторана фрёкен Лиза уронила поднос с бокалами для пунша: мясник Устер больно ущипнул ее за пышное бедро. На веранде стоит изрядный шум, посетителей много, так как Водолечебница нынче закрыта, там готовятся к летнему балу, развешивают гирлянды. Франс Альмгрен кружит по своей мастерской, как зверь по клетке, режет воздух бессмысленными ударами шпахтеля. Пер в белой ночной сорочке заходит к Вернеру, ему надо кое-что сказать отцу. Луиза ищет брата, но Эжена дома нет. Он бредет по пристани. Откуда-то налетает порыв ветра и швыряет облачко мелкого песку в глаза Нильсу Нильссону, который в раздумье шагает домой. Нильс прикрывает глаза локтем. Теперь явственно слышен резкий запах рыбы, им тянет от причалов и просоленных темных бочек. Рыбьи потроха качаются на воде возле берега.
Перед клубом, где в маленькой комнатке, выходящей окнами в сад, еще виден свет за задернутыми гардинами, стоит пьяный армейский подпоручик и отчаянно, так что все гудит, молотит в дверь, но ему не Открывают. Двое товарищей тащат его прочь; в окошке рядом с крыльцом откидывается гардина. Троица с криком и песнями направляется к Водолечебному парку, где в этот вечер тихо и пустынно. Их украдкой провожает множество глаз.
А на берегу, неподалеку от серебристой ивы, которая с высоты Родмансбринкен кажется стайкой салаки в бледном сиянии луны, на острых камнях лежит старик Блом. Широко раскрытые глаза его блестят.