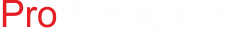ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЕЛЬСИНГФОРС
Но что такое ложь? Лишь правда в маске.
Байрон. «Дон Жуан»
Бедная тень!—в здохнула принцесса.— Она очень несчастна.
Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней...
X. К. Андерсен. «Тень»
1
Они протиснулись через стеклянные двери, Эвальд сгибался под тяжестью багажа Герд. На улице их ожидал Вернер Флак. При виде Эвальда глаза коммерции советника расширились от удивления, и он воскликнул:
— Как? Ты уже вернулся?
Потом с преувеличенной любовью он заключил Герд в отеческие объятия, играя роль, которая ему никогда не нравилась.
— Ты похожа на копченую колбасу!
— А ты на чучело индюка!
Этими радостными репликами обменялись дочь, воз-вратившаяся в родные пенаты, и ее отец, ради торже-ственного случая надевший нелепую тирольскую шляпу. Компания двинулась навстречу серому дню, умеренному ветру и ожидавшей их машине; Эвальд в одиночестве сидел на заднем сиденье. Он смотрел в окно на проплывавшие мимо поля, где виднелись пятна еще не стаявшего снега, похожие на белые лоскутья. Новые широкие дороги вели к городу, постепенно выползавшему им навстречу со своими деревянными лачугами, автомобильными свалками, фабриками, виллами и теснившимися вдалеке многоэтажными домами. Беседа между передним и задним сиденьями велась не слишком оживленно.
— Ты все еще живешь в Цветочном Венке? — спросил Вернер и добавил: — Идиотское название! Я высажу тебя где-нибудь поближе.
Немного погодя он обронил:
— И почему эта страна похожа на сползающие штаны?
— Дороги на аэродром и с аэродрома всегда тоскливы, мертвы и внушают ужас,—отозвалась Герд.
— Тебе страшно?—спросил Вернер Флак.
— Не без того,— ответила Герд.
Эвальд закрыл глаза, они свернули к Цветочному Венку, здесь ничего не изменилось. Уже тормозя, Вернер спросил:
— Ты поссорился с Анн?
Эвальд не понял вопроса и покачал головой.
— О'кей. Мы тут без тебя обходились своими силами. Горэ задержался, сегодня, в 8 часов, мы устраиваем прием в Брюнхюсет. А после обеда, как всегда, заседание, на которое ты явишься полный рабочего энтузиазма, после того, как приведешь себя в порядок и примешь душ.
Он посмотрел на Эвальда—тот вылез из машины, Герд помахала ему рукой, и машина уехала. Прозрачная зелень окутала кусты и деревья. По небу плыли низкие облака, пахло водой, ветром и заводским дымом. Эвальд запрокинул голову, отыскивая свой балкон: ряды мертвых окон. С сильно бьющимся сердцем он взбежал по лестнице, нашел ключ, повернул его в замке, захлопнул за собой дверь и крикнул:
— Анн!
Никто не ответил. Эвальд быстро прошел по комнатам: тут было тихо, чисто и мертво — знакомая квартира казалась чужой. На мойке лежит нож, кровати заправлены, балконная дверь чуть приоткрыта, все на своих местах. Эвальд сел за кухонный стол—может, это сон? Он вспомнил вдруг дни перед отъездом, Анн в больнице, Робби, Лилли, все-все... ну конечно же, ведь она еще в больнице! Он кинулся к телефону, дрожащими руками перелистал телефонный справочник, нашел номер больницы— за окном кричали белые чайки, их крик гулко отдавался в ушах.
— Нет, госпожа Эвальд выписалась четыре дня назад.
Четыре дня назад! Эвальд откинулся на спинку стула,
к горлу подступила тошнота, в отчаянии он обвел глазами комнату, набрал номер Флака и попросил к телефону Робби, ему ответила Гусыня:
— Значит, ты уже вернулся! Какой странный у тебя голос... А почему ты не взял с собой Анн? Подожди-ка, вот идет Робби...
— Эвальд! А где же Анн? Она получила твою телег-рамму и вчера уехала! — с напускным равнодушием мрачно проговорил Робби.
— Уехала? Куда?
— В Лондон, разумеется, ты же сам, черт тебя возьми, вызвал ее телеграммой!
Эвальд промолчал, в ушах у него стоял бессмысленный шум.
— Алло, почему ты молчишь? Что случилось?
— Можно мне поговорить с Герд?—выдавил Эвальд.
— Я все слышала,—сказала Герд,—и ничего не пони-маю. Успокойся, милый, встретимся вечером, тогда и поговорим, ладно?
В ответ он разразился бранью:
— Сволочь, змея подколодная, вот он, значит, что задумал! И как это я не догадался...
— О ком ты говоришь?
— Ты, ты одна все знаешь!
— Что знаю?
Силы оставили Эвальда, он сидел, держа в руке трубку, которая что-то бормотала, потом положил ее на рычаг. Мебель и книжная полка смотрели на него по- детски невинно, в окно вливался холодный серый день, Эвальда окружали серые дома. Он закрыл лицо руками. Нужно что-то делать, но что? Он поднялся, постоял у окна, во дворе медленно и торжественно раскачивались четыре ели с засохшими верхушками, кричали дети; он прошел в спальню и сел на кровать Анн. Лег, вытянувшись, опять рывком сел, прошел в ванную, умылся, посмотрелся в зеркало: лицо не изменилось—те же голубые водянистые глаза, белки в красных прожилках, шкиперская бородка, зубы. Эвальд механически намылился, на полке поблескивал чистый бритвенный прибор. Он начал сбривать бороду, было больно, мыльная пена окрасилась кровью. Протер горящие щеки лосьоном, придирчиво оглядел результат. Сполоснул лицо, в это время зазвонил телефон—Эвальд бегом кинулся в комна-ту. В трубке трещало, звонили из Лондона, он прижал трубку к уху.
— Я так и думал, что ты уже дома. Анн здесь, она в номере, а я звоню из вестибюля. Тебя перехитрили, старик! Ясно?
Эвальд выдавил хриплое «да».
— Я позабочусь о ней, мы приедем через неделю, а ты уж, будь добр, вышли телеграфом деньги, сегодня же. Слышишь?
— Не смей ее обижать, иначе...
— Иначе что? Да ты не волнуйся! Осваивайся там пока что в тишине и спокойствии.
п
Эвальд услышал смех и два слова:
— Не думаю! —Разговор прервался.
Эвальд пошел на кухню, достал из холодильника молоко, сделал несколько больших жадных глотков, сполоснул стакан — вода показалась холодной. В передней он надел плащ, вышел и захлопнул дверь, на лестнице было тихо. В кармане лежало расписание автобусов, он заглянул в него: очередной автобус идет через четверть часа—можно пройтись пешком до следующей остановки; на мокрые улицы нанесло песку, прохожих почти не было, рабочий день еще не кончился. Эвальд все время чувствовал свой голый подбородок. Он поднял воротник и спрятал руки в карманы. Дома, дома, пустые балконы с сохнущим бельем и детскими колясками, кое-где сморщенные воздушные шары. Сидя в автобусе, Эвальд пытался представить себе Того Человека и Анн; вот они гуляют по тем же улицам, по которым она гуляла с Эвальдом, вот они возвращаются в гостиницу, ложатся, усталые, на кровать, окно открыто, ветер развевает занавеску, похожую на фату, видны влажные крыши и фасады домов, а Анн смотрит на него, не узнает, отодвигается к стене, лицо у нее как у дяди Франса, оно все заросло волосами. Тот Человек смеется и кивает; Эвальд тупо смотрел в окно. Автобус трясло, улицы были разрыты, между подъемными кранами тянулись широкие глинистые канавы, по беговой дорожке бежала одинокая лошадь с качалкой и наездником в красном — бежала и бежала. Гулкая мостовая Баккасгатан, дома, люди, крутой горб Тавастгатан, сладковатый запах полз по дребезжащим сиденьям. Автобус был почти пустой. Эвальд пересек площадь и зашагал по Микаэльсгатан. Он видел все, что давно знал и уж не замечал. Тут все было знакомо, обладало своим цветом и формой, звуком—взвизгнули тормоза, прогрохотал трамвай,— привычное переплетение малого и великого. Он прожил здесь всю свою жизнь! Эвальд поднялся по лестнице в контору, сквозь немытые окна задний двор казался серым и грязным. Эвальд поздоровался и прошел в свой кабинет. Лилли, должно быть, произвела здесь уборку, жалюзи были подняты, Эвальд опустил их и открыл окно, на столе лежала толстая стопка писем. Он сел за стол, взглянул на карту, висящую на стене. Никаких следов, подумал он, никаких следов; но слова эти были вырваны из контекста, восстановить который ему не удалось. Вошла Лилли и, как обычно, уселась на край стола, юбка ее натянулась, Лилли пристально разглядывала Эвальда:
— Ты сбрил бороду. Теперь ты похож на птенца. Почему ты оставил Анн в Лондоне? Она сама захотела остаться?
Он покачал головой.
— Мне звонила Герд, рассказала кое-что о ваших приключениях.
— Каких приключениях?
— Ничего страшного, можешь не волноваться,— улыбнулась Лилли.— Отдохнешь, и все пройдет. Во всяком случае, как я поняла из слов Робби, Анн чувствовала себя прекрасно, когда уезжала. Да, кстати, послезавтра мы венчаемся. Мы хотим, чтобы ты был у нас шафером, не возражаешь?
Эвальд смотрел на нее открыв рот, ему казалось, будто его вытащили из темного подземелья, пропустили, как тряпку, через каток будней, отбелили, накрахмалили и заставили работать—может, Лилли ничего не знает? Может, все еще образуется? Он поглядел вокруг: папки, ящики для входящей и исходящей почты, в углу — кофеварка, за окном—дома, а он смотрит на круглые, мягкие колени Лилли, и ему страстно хочется их потрогать. Лилли соскочила со стола, одернула юбку:
— Через час совещание у Шефа.
Она вышла, ритмично покачивая бедрами, дверь тихо закрылась. Эвальд вскрыл корреспонденцию, поговорил по телефону — короткие деловые разговоры, о которых он тут же забыл, ему было нетрудно втянуться в работу, он сросся с ней—преданный раб, нерассуждающий слуга. Эвальд отправился на совещание, имея при себе список вопросов и ответов; действия его были четкими и энергичными. Глаза Вернера Флака следили за ним с возрастающим одобрением. Заместитель Флака отчитывался о длительной командировке—лицо как у ищейки, костюм висит словно на пугале, думал Эвальд. Пора на пенсию, он еле ноги таскает, несет какую-то чушь. И Вернер все это знает. Время от времени в голове Эвальда проносились отрывочные воспоминания о той неделе, что он провел в Лондоне, он гнал их прочь, сглатывал, как сглатывают подступающую тошноту. Выступая с обзором задач, стоящих перед его отделом, и мероприятий, необходимых для дальнейшей рационализации, он вдруг обнаружил, что стоит с цветным карандашом в руке перед большим листом белой бумаги, укрепленным на подставке, и быстро написал: 1. Персонал, 2. Материальная часть, 3. Организация, 4. Координация с др. отд.; он услышал свой собственный голос, произносящий такие слова, как: проблематика, широкие взгляды, цели, тенденция, рациональные действия, администрирование, покупательский эффект, политика,—все слушали, Лилли вела протокол, то и дело поглядывая на него, точно ожидала, что он вот-вот взорвется, рассыплется, развалится на части тут же у нее на глазах. Но он держался, говорил, вперив взгляд в присутствующих, временами он наклонялся вперед и в подкрепление своей мысли слегка постукивал ладонью по столу; и закончил—как отрезал.
— А-а-а-п-чхи! — Вернер Флак вытащил носовой платок, высморкался и обвел взглядом присутствующих.— Есть замечания?
Замечаний ни у кого не было. Эвальд молчал, его пронизал ледяной опустошающий ветер триумфа. У выхода он выслушал завистливые комплименты заместителя, Вернер взял его под руку:
— Черт возьми, мой мальчик, вот уж не ожидал!
Эвальд улыбнулся старику, вернулся в свой кабинет и
несколько минут сидел неподвижно. Трещали машинки, звонили телефоны, земля, точно черный вал, вращалась вокруг своей оси. Он встал и выглянул на улицу. Неслись автомобили, виднелись верхушки деревьев на Эспланаден. Эвальд оделся и вышел, девушка из экспедиции что-то крикнула ему вслед, он спустился на лифте, завернул за угол и не спеша направился к гавани, неожиданно заметив, что одиночество ему приятно. Он любил гулять по Эспланаден: дома конца прошлого века, трогательное дыхание большого города, небо с бегущими голубыми облаками, распахнутое над площадью, маленькая гавань, лотки с оранжевыми балдахинами, которые продавщицы как раз начинали убирать. Журчала вода в фонтане, льющаяся из пасти морских львов, окруживших Морскую Деву—Хавис Аманда, из Часовни доносились отрывистые звуки валторны. Эвальд брел в сладковатом благоухании фруктов и терпком запахе рыбы; на воде покачивались, словно подсадные, жирные утки, неистово кричали чайки, скрипели повозки, увозя прочь корзины и цветы. Когда-то он с родителями, сидя на балконе Городской гостиницы, любовался лесом корабельных мачт, женщинами в капорах, мужчинами в котелках, старухами в платках, детьми, катавшими обручи,— маленькая северная гавань, гавань его детства. Здесь продавали газированную воду, здесь пьяницы в живописных лохмотьях пили прямо из бутылок—донышки сверкали на солнце, рыбацкие моторки, негромко тарахтя, держали курс в открытое море — была весна! На набережной Скатуддскайен стояли похожие на жирафов подъемные краны, у здания Таможни покачивались два больших белых парохода из Стокгольма, подходил паром из Свеаборга. В пропахшем блевотиной павильоне Эвальд купил билет и поднялся на верхнюю палубу; сильно дуло, он поднял воротник, провожая взглядом дома, шведское посольство, выкрашенное в какой-то противный цвет, пустеющую площадь; время от времени выглядывало солнце и отражалось в куполе Успенского собора. Бурлила грязно-коричневая вода, всевозможные объедки, щепки и пена бились о белоснежный борт. Когда он был мальчиком, они с дядей Франсом катались на пароходе по озеру Сайма: голубой простор искрился и переливался на солнце, отец с матерью были далеко и не могли следить за ним, никто, никто был не волен им распоряжаться. Он мог отправиться в путешествие, мог увидеть множество озер и морей, валяться на траве, он мог вырасти и показать всему миру, на что он способен, мог говорить, убеждать, любить...
город был со всех сторон окружен морем, он погружался в море целиком—дома, зеленые насыпи, развевающиеся флаги, изящные яхты, уже стоявшие на якоре у здания яхт-клуба. Опершись на поручни, Эвальд смотрел вдаль: горизонт посветлел, показалась полоска голубого неба.
2
Президент Оподель Реоп Горэ положил ногу на ногу, выставив на обозрение безупречную складку на черной брючине, сверкала белозубая улыбка, в очках отражалась хрустальная люстра. Они сидели перед ним полукругом, посередине Вернер Флак в сюртуке. Рядом с президентом находился переводчик, за спиной стояли его секретарь, министр иностранных дел, человек в форме и экзотически одетая женщина, державшая в руках шкатулку, обтянутую кожей. Президент Горэ медленно говорил:
— Наш язык насчитывает сорок один диалект. История нашей культуры исчисляется тремя тысячелетиями. Мы продолжаем бороться за обретение национального самосознания. Наши угнетатели-колониалисты стимулиро-вали нас на борьбу, которая скоро завершится. Мы должны направить наши национальные традиции в русло будущего.
Президент Горэ щелкнул пальцами, к нему приблизилась женщина со шкатулкой, президент открыл ее и поставил на столик из красного дерева три стилизованные деревянные фигурки, высокие и тонкие. Потом он вынул две маски—Эвальду они показались одинаковыми. Он пригубил шампанское.
— Как вы видите,— продолжал президент,— эти фигурки идентичны. Почти идентичны. Как и эти ритуальные маски. Художник стремился к совершенству, он хотел достичь сходства, которое неопытному глазу представлялось бы абсолютным. Выдавать одного человека за другого—это входит в наши магические ритуалы. Два человека, две идентичные маски: в ритуальных танцах одна из них изображает — как это говорится?—темную, а другая—светлую сторону того, что мы называем парящим в космосе континентом человека.
Вернер Флак беспокойно перебирал своими полосатыми ножками, глаза его блуждали, словно он искал, куда бы скрыться. Черное, аскетическое лицо президента Горэ осветилось улыбкой, он, как птица, крутил головой.
— Есть вопросы?
Вернер Флак не спеша прокашлялся, жилет чуть не лопнул у него на животе, Гусыня в большой белой простыне с огромным ярким подсолнухом, пришедшимся на ее огромный живот, колыхалась рядом с мужем, она ущипнула его за руку, Вернер Флак вырвал руку, наклонился вперед и спросил громовым голосом:
— Что важнее — импорт, экспорт?
Эвальд смотрел в окно на зеленую лужайку, опускающиеся сумерки, безмятежные силуэты деревьев. Интересно, что сказал бы президент, если б он поведал ему о своих ритуальных танцах с Тем Человеком? Эвальд допил шампанское. Он наблюдал за руками президента, узкими, длинными, подвижными, как у дирижера.
Зажужжала кинокамера, фоторепортеры подобрались поближе, засверкали вспышки. Президент оставался не-возмутимым. Короткая беседа была окончена, присут-ствующие, строго по рангу, направились к столу— процессию возглавляли Гусыня и президент, едва достававший ей до плеча. Эвальд обвел глазами собрание и увидел Герд — она была в черной блузке, с серебряной цепочкой на шее и черных брюках. Герд поманила его к себе:
— Мы сидим за одним столом!
— Разве ты не будешь сидеть за почетным столом, рядом с каким-нибудь министром?
Герд поморщилась:
— Я поменяла карточки. Это будет сюрприз и для папы, и для министра обороны.
Растерянной седой кассирше показали ее место за почетным столом, лицо Вернера Флака, как тяжелое красное знамя, заколыхалось от гнева: зная свою
дочь, он сразу понял, чья это проделка; Герд помахала ему рукой, все сели. Негромкий воробьиный щебет заполнил комнату.
Соседка слева склонилась к Эвальду:
— Сорок лет назад он был бы у нас «боем»!
— Кто? — словно из пустоты отозвался Эвальд,
— Президент Горэ, конечно. Я в детстве жила там, у них. Они отличные слуги—молчаливые, приветливые, сдержанные. Делать там было абсолютно нечего, так, немножко экспорта-импорта, поэтому все в основном только пили.
— Что?
— Виски.
— Они чокнулись, мягкое красное вино, похожее на сон, смочило горло, Эвальд выпил весь бокал.
— У-у-пп! — сказала Герд.—Тот Эвальд, которого я знала, пил очень умеренно.
— Тот, которого знал я, тоже,— ответил Эвальд. Он опустошил еще один бокал, неизвестно какой по счету, глаза у него застыли — прозрачные стекляшки, вставленные в пустые глазницы черепа.
— Я как будто выглядываю из черепа,— сказал он Герд.
— Бывает, это вполне по-человечески,— ответила она.
97
Кто-то зашикал, начались речи. Как дерево, вырванное из земли, Эвальд воспарил к потолку, проплыл по залу и вылетел в окно: его мысли, словно белые чайки, устремились в темноте к морю, мигал маяк Свеаборга; после торжественных тостов столы захлестнула волна разговоров, вновь схлынувшая во время краткой, выразительной, грубоватой речи Вернера Флака, которую Эвальд слушал, испытывая и удовольствие, и отвращение. Что делают здесь все эти люди? Почему обмениваются такими волчьими улыбками? Когда начнутся танцы? В открытые двери сильно дуло, тяжелые длинные шторы колыхались на ветру, словно длинные шлейфы, свечи погасли, шум голосов нарастал, как морской прибой, столы перемешались в темноте, точно суда с зажженными сигнальными огнями, слышались возгласы. Чуть погодя Эвальд уже стоял среди танцующих, музыка ненадолго смолкла, он пригласил танцевать темнокожую стройную красавицу с черной копной волос: это оказалась мадам Горэ; он танцевал собственный вариант самбы—танец получался странный. Рука Эвальда покоилась на ее спине, которая, как рябь на воде, была в непрерывном движении, казалось, будто маленькие зверушки сбегали вниз, вдоль позвоночника, к сладостной впадине талии; мадам Горэ была прохладная, прохладная и темная, как тень; Эвальд делал выпады в сторону, кружился, она повторяла его движения, и все это время он вел с ней странный разговор по-английски: говорил, что она похожа на его жену, что каждый носит две маски, как у вас, мадам, в ваших ритуальных танцах; она невозмутимо и ритмично двигалась рядом с ним, иногда глаза ее вспыхивали и, ясные, карие, останавливались на нем, а потом опять почти равнодушно скользили по залу, где нелепо корчились, подпрыгивали, топтались люди—одни с красными лицами, бурно размахивая руками, другие—пародийно самоуглубленно, почти в оцепенении. Эвальд вспотел, он видел, как безобразно, внешне н внутренне, он гримасничает, болтает, дергается и дрыгает ногами, все глубже и глубже погружаясь в преисподнюю бездарной клоунады, где никто не аплодирует, никто не смеется, не радуется, где царит молчание и публика равнодушно начинает расходиться, пока несчастный клоун, с испуганным, покрытым белилами лицом, делает последний кульбит. Музыка смолкла, Эвальд повел мадам Горэ на место, он плелся за ней, а она плыла, как каноэ по спокойной реке,— откланявшись, он попятился назад, мадам Горэ послала ему легкую улыбку.
— Enchante ,—сказала она.
— Enchante,—как эхо повторил Эвальд, язык его не слушался, Вернер Флак преградил ему отступление, схватив за лацканы пиджака:
— Смотри, не устрой опять скандала!—Он тяжело дышал, глаза налились кровью.
— Сам смотри!—ответил Эвальд, протискиваясь мимо Флака.
Герд танцевала с человеком в форме—они почти не двигались, лишь временами вздрагивали, словно их бил чувственный озноб; Эвальд сидел за столом и пил тепловатое виски. По крайней мере, думал он, по крайней мере. Он сам не знал, к чему это относится. Лучше молчать, думал он, тогда еще можно выдержать. Не показывать, что ты собой представляешь. Вот так-то. Не говорить, кто ты. Если знаешь. По крайней мере, повторил он про себя и с разбегу закончил мысль: по крайней мере хоть это ясно. Эвальд кивнул, сидевший за соседним столом господин тоже кивнул и подошел к нему — это был Робби.
— Надо смываться с этого чертова празднества!—- Робби был в своем старом исландском свитере.
— Пошшему ты всегда ходишь в свитере?— поинтересовался Эвальд,—это шшнобизм! Настоящий шшнобизм.— Он поднял костлявый палец.— In vino veri- tas ! Опля!
Робби помог ему встать; уцепившись друг за друга, они выбрались в ласковый темный парк; Эвальд прислонился к дереву и плачущим голосом пробормотал:
— Что он сделает с Анн!
— Тебе надо пойти к врачу,—сказал Робби,— завтра же, к психиатру, у меня есть знакомый, я ему позвоню! Можешь постоять один, пока я сбегаю за сигаретами?
Эвальд кивнул, провел бесчувственными пальцами по своему чужому лицу, откуда-то появилась Герд, он обнял ее, горячие слезы побежали по теплой коже, ямка у нее на шее возбуждающе пахла свежестью, потом и духами.
— Ммммммм! — промычал Эвальд; пошатываясь, они побрели по нежной зеленой лужайке, между прозрачными деревьями летали чайки. Потом он оказался в такси, вместе с Герд, они ехали целую вечность, Эвальд дремал, тяжело навалившись на нее, временами открывал глаза и видел темный лес и мелькавшие фонари — эта страна была ему незнакома. В темноте мерцал огонек сигареты, Герд поддерживала его голову, машина остановилась, было прохладно, начинало светать, теперь уже больше никогда не наступит тьма. Герд проводила Эвальда наверх, уложила в кровать—на ее индейском лице было деловое выражение, как у ночной сиделки, которая дежурит у постели тяжелобольного,— он лежал лицом к стене и разглядывал обои — это его обои, он сам их выбирал— или Анн? Глаза у него были открыты. Вскоре Герд забралась к нему под одеяло, она молча лежала рядом, греясь его теплом; так они и заснули и видели разные сны. Когда он утром проснулся, Герд уже успела накрыть в кухне на стол; первый раз за долгое время Эвальд окунулся в привычную жизнь. На лестнице хлопнула дверь, день был ясный, на фоне светлого майского неба вырисовывались верхушки деревьев. Молча, словно пожилые супруги, они пили кофе. Эвальд с отсутствующим видом разглядывал мойку. Почему-то вспомнился забрызганный грязью умывальник убийцы-рецидивиста из романа Кристи. Заместитель Флака похож на Кристи. Кровь, газеты, кислота, пилы. Эвальд посмотрел на свои руки- белые, гладкие. У Герд руки были жилистые, худые, жесткие. Их взгляды встретились, и они понимающе улыбнулись друг другу.
3
Будни обычно заполнены привычными делами, которые выполняются чисто автоматически. Эвальд пришел в контору рано, было тихо, свой стол он разобрал еще накануне, корзинка для бумаг была пуста; он открыл окно и впустил в комнату свежий воздух, пахнувший только что распустившейся зеленью деревьев на Эспланаден. На секунду возникла мысль позвонить в Лондон, голос можно изменить, и Анн не узнает его, но какой в этом смысл? Эвальд откинулся на спинку кресла и прислушался к тишине: тишина бывает полной лишь на снежных просторах, в безмолвных лесах и где-нибудь далеко в море; но и там будет слышен этот далекий тихий гул; абсолютная тишина наступает только со смертью. Эвальд попытался представить себе, как он лежит в вечном мраке, в абсолютной тишине — но ведь тогда он этого уже не заметит. Здесь на земле он вечно куда-то торопился, любил, выпивал, работал, спал, мучился, иногда бывал счастлив, часто огорчался и часто терпел неудачу; а теперь выявляет свою человеческую сущность на рабочем месте. Была какая-то надежность в этих привычных делах, в этом внешнем, которое, возможно, так въедается с годами, что становится внутренним, сутью: стареющее тело постепенно разъедала ржавчина, изношенная конторская машина работала все медленнее, но чем дольше она служила, тем благодарнее становилась—она уже не испы-тывала никаких потрясений, не разрывалась между мукой и блаженством. Эвальд поправил карандаши в стакане, блокноты, папки с забытыми отчетами. Папки были разных цветов, он сам их выбирал. Статистика—черная.
Месячные отчеты — синяя. Бюджетные расходы -~ розовато-красная. Кадры — желтая. Долгосрочные прог-нозы— белая. Конторская душа Эвальда медленно принимала присущие ей карликовые размеры. Пусть раньше его носило, как воздушный шарик,— с этим покончено, по крайней мере сейчас. Солнце отбрасывало косой, теплый, желтый четырехугольник на диван с зеленоватой обивкой и вазу с тремя увядшими тюльпанами. Эвальд взглянул на перекидной календарь: 11.00—интервью для телевидения. Выдвинув правый ящик, он вынул коробочку с таблетками от головной боли, плеснул в стакан тепловатой воды, проглотил два голубых драже и замер со стаканом в руке. Зазвонил телефон, грубый женский голос спросил:
— Эвальд?
— Да,— ответил он, не узнавая этого голоса.
— Если ты не заберешь свое барахло, я его продам. Хочешь сохранить комнату — завтра последний день. Я тебе не благотворительное общество! — Голос дрожал, в нем звучали слезы.
— Кто это? — спросил Эвальд. Но трубку уже повесили, он вдруг вспомнил комнату, окно, выходящее на стену дома, затхлый воздух, невыразимую грусть той далекой жизни. А может, она совсем не так далека, та жизнь? Может, она снова берет его за горло и тяжело сопит ему в затылок — «Гельвеция»! Только почему этот развязный тон, эти слезы? Эвальд попытался припомнить хозяйку: серая мышь, назойливая, нервная и тощая. Придется туда сходить. Можно в обед, после интервью. Ответы на предполагаемые вопросы он уже подготовил: тенденции инфляции, возможности частных фирм сравнительно с государственными компаниями, проблемы налогообложения, перспективы развития. Вернер Флак больше не принимал участия в подобных мероприятиях, отказался раз и навсегда, после одной телепередачи, когда ведущий— молодой верзила, который явно уступал в эрудиции даже Вернеру Флаку,— довел его до бешенства, а потом отчитал как мальчишку. На этот раз ведущий оказался еще моложе: жалобным монотонным голосом он задавал общие вопросы про «сладкую» жизнь частного сектора, и его маленькие усики подрагивали, как у лесной мыши. Свет двух юпитеров бил Эвальду прямо в глаза, жужжала старая камера, отвечая, он поймал себя на том, что снова думает о некоторых неприятных эпизодах вчерашнего хоровода вокруг президента Горэ. В утренней газете была помещена фотография президента в объятиях Гусыни, которая наверняка доставила Гусыне гораздо больше удовольствия, чем президенту. Счастье, что рядом не оказалось фотографа, когда Эвальд танцевал с мадам Горэ. Он умолк, заметив, что сам не понимает, о чем говорит, и молоденький ведущий поспешно сказал:
— Мы кое-что вырежем из вашего последнего выска-зывания, которое начиналось словами: «Иной раз и частный сектор может позволить себе повеселиться».—Он подозрительно посмотрел на Эвальда—в его странно бегающих глазках сверкнули все ножницы редакции обще-ственной жизни.
Теперь Эвальд узнал его: он специализировался на том, что поливал грязью известных деятелей культуры, и даже приобрел этим своеобразную геростратовскую известность. Ведущий протянул вялую руку, техники собрали аппаратуру, смотали провода, вся компания исчезла, и наступила благодатная тишина. Эвальд глубоко вздохнул—болела спина; плевать он Хотел на сегодняшнюю вечернюю передачу—не хватало еще увидеть эту нелепую пародию на самого себя и услышать лишь крохи того, что он так тщательно подготовил; передачи новостей заполнялись вот таким якобы взрывчатым веществом, а мир в это время распирало от насилия и красоты, смерти и новой, зарождающейся жизни.
Лилли заглянула в дверь:
— Идешь обедать?
Эвальд покачал головой.
— Не забудь про завтра!—улыбнулась она.
Он кивнул, удивляясь про себя, зачем ей все это понадобилось, какой интерес представляет для нее Робби, кроме чисто материального; или у нее прорезался мате-ринский инстинкт? Может, он есть вообще у всех женщин? С отсутствующим видом Эвальд вышел в коридор, надел плащ, спустился вниз и окунулся в ослепительный солнечный свет. Он решил пройти мимо дома своего детства—грязно-желтого здания с двором, который даже описать невозможно; он мельком взглянул на окно,—там он прожил 11 лет, ему вдруг захотелось войти, но возникшее чувство отвращения заставило его отбросить эту мысль, и он быстрым шагом пошел по Редберген. Здесь появилось много маленьких фешенебельных магазинчиков, торговавших кожаными ремнями, сшитой на заказ одеждой, причудливыми произведениями искусства и полупорнографическими плакатами. Он помнил времена, когда здесь еще жили рабочие,— голоса около пивных, приезжавшую ежедневно полицейскую машину, Синеб- рюховский парк, бывший тогда действительно парком; все изменилось, исчезли целые кварталы, в старинных домах светились теперь неоновые лампы учреждений. А вот дворы остались без изменений. Эвальд миновал Пять углов и кинотеатр «Мерано», в котором когда-то оплакивал «Неизвестного солдата»: в ушах у него еще стоял скрип деревянных скамеек, звенело от подавляемых страстей и безмолвного ожидания. Он остановился перед обшарпанной вывеской пансиона «Гельвеция»—его захлестнул серый, тягучий поток отчаяния и одиночества. Эвальд распрямился, глубоко вздохнул и окунулся в сумрак лестницы, в запах капусты, кухонного чада, сырости. Дверь отворилась, и Эвальд оказался в объятиях тощего создания женского пола, которое, казалось, намеревалось его раздавить.
— Я так тосковала по тебе! Ты ведь обещал прийти!
— Вы ошибаетесь. Это не он, это его брат,—и сам заметил, как смешно это звучит; он чуть не рассмеялся.
Женщина отступила в темноту:
— Лжешь!
Но он коротко отрезал:
— Хватит!—и прошел в такую знакомую и ненавистную комнату. Окно было закрыто, в затхлом, застоявшемся воздухе—над белым вязаным покрывалом, над продавленным стулом, над столом из красного дерева и большим, тускло блестевшим шкафом с мутным зеркалом, в котором мелькнуло его отражение,— медленно плавали облачка пыли.
— Где вещи?
Женщина-мышь, молча стоявшая в дверях, показала на шкаф, Эвальд потянул за латунную ручку, внутри стоял черный кожаный портфель, он вынул его.
— Это все?
Она кивнула головой. Эвальд повернулся, чтобы идти, но она загородила дорогу, лицо ее светилось—то ли страстью, то ли ненавистью,— голова дрожала, женщина раскинула руки, будто исполняла какой-то странный танец, все происходило в мучительной тишине, слышалось только ее учащенное дыхание. Она не сводила с него глаз, точно змея со своей жертвы. Эвальд вынул бумажник:
— Вот, за месяц вперед!
Ее рука схватила деньги, Эвальд услышал шаркающие в полумраке шаги и пронзительный птичий смех, в следующую минуту он уже бежал вниз по лестнице. На Фредериксгатан он остановился, поставил портфель на карниз и раскрыл: там лежали пижама, зубная щетка, книга под названием «Подозрения» и бутылках остатками водки. Вещи были чужие. Эвальд закрыл портфель и зашагал по направлению к конторе — мимо магазина готового платья, мимо мебельных магазинов; он испытывал жгучее желание пойти в баню, отмыться, соскрести с себя мрак, грязь, хозяйку «Гельвеции». Тот Человек, должно быть, завязал с ней интрижку—какой-то чудовищный, извращенный, мерзкий разврат; или она была зачем-то ему нужна? У Эвальда появилось неприятное чувство, будто за ним кто-то следит, он быстро оглянулся; незнакомый человек рассматривал окно, на котором стояли искусственные цветы и затейливые безделушки; Эвальд прибавил шагу, перебежал на желтый свет улицу и припустил вниз по Шильнаден. На столе лежала записка: «Позвони Герд (!)» Записку написала Лилли, добавив вос-клицательный знак в скобках. Почему в скобках? Эвальд устало положил голову на стол, посидел так немного, ему казалось, что его испытывают все более и более тяжелой поденщиной, все более и более мрачными, непостижимыми несчастьями. Зазвонил телефон, он очнулся словно от обморока, кашлянул и ответил:
— Эвальд.
Он услышал чье-то дыхание, гулкую тишину и слабый щелчок положенной на рычаг трубки.
4
Эвальд сидел с телеграммой Анн в руках и тупо смотрел в глубь квартиры, в спальню. В сумраке виднелась балконная дверь и светлое пятно окна. Он еще раз перечитал телеграмму: «Прилетаю Шескуг четверг 11.30. Анн». Она послала две телеграммы — одну Герд, другую— ему, домой. Откуда она знает, что он дома? И почему тогда известила Герд? Неужели Тот Человек все ей открыл? Да, это единственное объяснение. Эвальду почудилось, что он падает, проваливается куда-то, и спасение только в одном — не двигаться. Он знал с самого начала: надо рассказать все; они должны были разбудить ее, очень осторожно, в тот самый день, когда он пришел домой, а Тот Человек уже был там. Они же вместо этого заперлись в ванной и в результате оказались в тупике. Мгновение страха, поспешное решение, толчок — и вагон покатился по другому пути и продолжает катиться, сцепленный с чужими вагонами, катится, невзирая на красный свет, и воздух дрожит от растерянных возгласов, от лязга металла, треска дерева... Эвальд зажал ладонями уши. В чем дело? Что произошло? Его вышибло из колеи, он не узнает самого себя. Почему он ни разу не поговорил с Анн серьезно, не попытался рассказать ей о себе, о том, что он за человек, каким он сам видит себя? Эвальд подошел к холодильнику, вынул бутылку—на донышке серебрились остатки водки,—налил в стакан. В гостиной, не зажигая света, он взял с письменного стола кассетный магнитофон, которым иногда пользовался для работы, и вернулся в кухню. Низкая лампа с металлическим абажуром освещала клетчатую скатерть, чашку с недопитым чаем, сахарницу и стакан с водкой. Он отпил глоток и вставил в магнитофон пустую кассету на 60 минут—с лихвой хватит на его жизнеописание. Прокашлялся, нажал на кнопку, с трудом произнес «Дорогая Анн» и выключил аппарат. Холодный ветер коснулся его влажного затылка, Эвальд встал и закрыл окно. Снова включил магнитофон, начал говорить:
— Анн, ты сейчас услышишь исповедь человека, который никогда не умел рассказывать о себе, как говорится, изливать душу.— Эвальд остановил запись и прислушался — было тихо,— он снова нажал на кнопку.
— Ты сама заметила, что в последнее время все шло не так, как обычно, все переменилось, особенно я сам. Дело в том, что однажды, вернувшись с работы, я не мог открыть дверь... потом она открылась, на пороге я увидел самого себя, или Человека, похожего на меня, оказалось, что у нас было общее детство, общая жизнь, профессия, жена. Ты спала, и мы решили не пугать тебя, не рисковать; но, кажется, рискнули всем. Я должен был сразу это понять. Теперь ты, наверное, уже все знаешь от Него, того, кто носит мое имя, но кого я не признаю. Он — темная сторона моей души, жестокая, наглая, злая — я не такой.
Эвальд выключил магнитофон, посидел, глядя в темноту: нет, что-то не так. Он снова нажал кнопку:
— Вернее, я думал, что я не такой. Я всегда считал себя лишь маленьким винтиком в машине — это мне вдолбили еще дома. Почитай отца и мать. Не выделяйся. Помню, я часто лежал без сна, судорожно сжимая кулаки и глядя в пустоту, а в голове у меня билась одна- единственная мысль — вырваться, освободиться. Но потом я засыпал, а утром мать, большая, властная, снова повелевала всем и хлопотала вокруг отца, который сидел в кресле и тоже повелевал—то словом, то кивком. Наш дом был насквозь пропитан несвободой, неудовлетворенным
тщеславием, тлеющими чувствами—-это отвратительно!
Эвальд остановил магнитофон, глубоко вздохнул и глотнул из стакана—во рту остался горький привкус, он поморщился, по телу разлилось тепло. Он снова включил аппарат:
— Возможно, я внушил себе, что смогу уничтожить свое «я» или утаить кое-что, и я действительно утаил, я заставил себя полюбить все будничное, серое, привычное, слился с ним; я не обладал достаточно сильным характером, чтобы протестовать. Когда я встретил тебя, я не обладал ничем—мы начинали с нуля, у нас не было ничего, кроме нас самих! Какой я был? Человек, в душе которого укоренился страх, страх потерять, а потому предпочитавший не рисковать, так же как и ты.
Эвальд нажал кнопку «стоп»—он приблизился к той черте, за которой ему мнилась какая-то темная опасность, как бывает, когда ты спокойно скользишь в байдарке, огибаешь мыс, вдруг слышишь грохот водопада и в отчаянии пытаешься спастись... В памяти всплыл эпизод смертельной схватки, сыгранной Бастером Китоном. Эвальд включил магнитофон:
— В последние недели меня словно вытряхнуло из самого себя, втянуло в водоворот невозможных, необъяс-нимых безумств и скандалов, кинуло в чужие постели—я был, как говорится, «сам не свой», впрочем, что собой представлял этот «сам», никому не известно, внешне это был конторский служащий, праздный мечтатель, преданный...
Эвальд остановил запись. Встал, прошелся по гостиной, по спальне, вернулся на кухню, опять прошелся по квартире, скуля как раненое животное, потом сел—у него болела спина—и допил водку. Нажав кнопку, он сказал:
— Я никогда не жил как сейчас, мне никогда не было так весело и так жутко. Вокруг себя я вижу одни карикатурные лица и свиные рыла, оборотней, потасканных мышей, алчных карьеристов, людей, пораженных неизвестным недугом, лживых, надутых шулеров, великих мира сего, крохотных, как лилипуты, но носящихся со своими привилегиями. Я видел фашистов, называющих себя коммунистами, и фашистов, называющих себя поборниками Законности. Я видел, как увешанные орденами беспозвоночные с улыбкой пресмыкаются перед теми, кто наверху, и топчут, топчут тех, кто внизу...
Эвальд выключил магнитофон, провел рукой по лбу, подошел к холодильнику—в бутылке еще осталось чуть- чуть,—локтем толкнул дверцу, она громко хлопнула, за окном ветер раскачивал верхушки деревьев, он сел и нажал «пуск»:
— А под масками я обнаружил чистое золото, доброту, дружбу, зачастую к ним примешивались и другие чувства... И я задаю себе вопрос, не кроется ли причина человеческих несчастий в нашем привычном делении всего на добро и зло, на больное и здоровое. Взять хоть меня: я не болен. Я здоров. Но люди, окружающие меня, служащие в конторе— они больны, поражены проказой, их изнутри пожирает мертвечина, и они даже не подозревают, что их неосуще-ствленные возможности ходят за ними тенью...
Эвальд выключил магнитофон, в ванной он пустил воду, сполоснул лицо, вытерся и посмотрелся в зеркало— бледное, чужое, растерянное лицо: это не он. Он гримасничал, таращил глаза, попробовал пошевелить ушами— лицо по-прежнему оставалось безжизненным. Эвальд погасил свет, сел снова перед магнитофоном и нажал кнопку:
— Все это может показаться тебе чересчур путаным, да, все запуталось, но и прояснилось—кое-чему я все же научился: все эти толчки, удары, пустота, отчаяние, все то, что выбивает из колеи, наверное, необходимо, даже если ведет... даже если итогом будет смерть... если...
Щелчок. Эвальд посидел немного, закрыв глаза руками; между пальцами просвечивали красноватые полосы. Он включил магнитофон и сказал:
— Тот, с кем ты жила в Лондоне,—не я.
Выключил, подумал минуту и включил снова:
— Тот, с кем ты жила в Лондоне,—это некто, кем я не хочу быть, это не я... по крайней мере мне так казалось. Он ведет себя по-свински, все разрушая и гадя вокруг...
Эвальд нажал на «стоп», встал, открыл холодильник и нашел бутылку сухого вина, штопора в ящике не оказалось. Держа бутылку в руке, он злобно оглядел кухню, взял нож и начал выковыривать пробку, крошки летели на мойку; порезал палец, выругался, взял из аптечки в ванной пластырь и заклеил ноющую ранку. Вернулся на кухню, черенком ножа протолкнул пробку в бутылку, не спеша налил стакан вина. Наконец сел, включил магнитофон и сказал:
— Ты никогда ничего от меня не требовала. Никогда. Понимала, что мне нечего дать тебе. Но ты ошибалась. Кое-что у меня было! Я сидел в пустых комнатах, сутками лежал на кровати, я рвался на части—ведь это и значит рваться на части; но я вернулся, я справился, я живу! Вопрос в том, всегда ли нужно искать защиты. Ты всегда искала ее. Этим-то я и воспользовался, чтобы взять верх. Но защищал тебя трус и слабак. Ты, наверно, это заметила? Никаких бурных страстей! Нельзя дать то, чего не имеешь.
Эвальд выключил аппарат, отодвинул его от себя и положил голову на сгиб локтя; кто-то вошел в подъезд, послышалась музыка, хлопнула дверь, кто-то поднимался по лестнице — Эвальд затаил дыхание,—открылась дверь соседней квартиры, и все стихло. Эвальд сидел с закрытыми глазами, но не спал. Подняв голову, он жадно отхлебнул из стакана и выпрямился — вино оставило во рту свежий вкус земли и солнца. Он включил магнитофон:
— Я, может, и не против быть Им. Откуда мне знать, что ты даешь ему — пусть даже испытывая к нему отвращение. Что-то в тебе наслаждается им, этим другим Эвальдом. Что-то в тебе, в той, другой Анн. Я заметил это. И мне пришло в голову, что, может быть, в каждом из нас есть и бог, и сатана, но не сами по себе, а слившиеся в отвратительной и счастливой гармонии... И пока мы не уразумеем этого, мы ходим точно мертвецы. Больные. Заразные. Одинокие. Но это не настоящее одиночество. Мы как будто считаем, что ад ждет только наших врагов, всех, кто не прав, а мы сами, конечно, правы. Не в этом ли суть политической игры? Человеческое достоинство! Где оно? Кто думал о нем в нашем доме, когда я был ребенком? Кто думал о нем в вашем благородном семействе? Кто-нибудь кому-нибудь помогал? Питал к кому-нибудь дружеские чувства? Мы бродим по земле как звери, клеймя своих собратьев, требуя от них, чтобы они сделали выбор, эксплуатируя их — и экономически, и морально; мы загоняем людей в дома, где они постепенно усыхают, произносим пламенные речи о несправедливости, царящей в мире, а потом приходим домой и бьем жен или просто молчим... Лишь в редких случаях одиночество не доставляет нам страданий—мы вдруг осознаем, что к нему-то мы и стремились, к какой-то общности, о которой не нужно говорить, потому что говорить не о чем, нужно лишь быть собой, то есть быть как бы вне самого себя. Вне. Ибо что мы собой представляем, если не в состоянии заглянуть в себя извне? Один одержим манией преследования, другой мнит себя властелином мира, третьему кажется, что он любит, четвертому — что он ненавидит! Чтобы войти, нужно сначала выйти. Понимаешь? Я хочу вернуться, но не тем, кем я был раньше. Я—другой. Это—единственно важное.
Я другой! Другой! Ты—другая! Ты жила с Тем Человеком, ты знаешь, какой я. Знаешь.
Тихо шуршала пленка, Эвальд выключил магнитофон, посидел, не двигаясь, и сказал вслух:
— Я устал.
Он поднялся, погасил лампу над столом, постепенно привыкая к темноте, глаза его различили балконную дверь; тяжело ступая, Эвальд вышел на балкон — ночь переливалась огнями, где-то пела птица. Он смотрел, как гаснут окна и закрываются балконные двери, как одинокие ночные пешеходы скрываются за безмолвными стенами; небо над городом отливало желтым. Вдруг всплыло одно детское воспоминание: ледяная равнина и тишина, такая, что он почувствовал себя каким-то чистым и безымянным. Стоял март, несмотря на запрет матери, Эвальд отправился один на скованный льдом залив, дул слабый, но холодный ветер; далеко от берега Эвальд остановился: в него хлынула пронизанная солнцем бесконечность. Внезапно под ногами словно зазвенел колокольчик, и он подумал: сейчас лед треснет, и я исчезну, но страха не ощутил. Это длилось одно мгновение, и оно навсегда запечатлелось в его памяти.
За спиной затаилась погруженная в мрак комната. Эвальд думал: я никогда не повзрослею. И слава богу. Стать взрослым — значит заболеть. Я чуть не заболел, но теперь все прошло, можно продолжать. Завтра приедет Анн. Я отдам ей пленку. Позову Его. Поговорю. Все образуется.
Губы его шевелились, но слова, непроизнесенные, скользили во тьму, оставляя горький привкус. Эвальд ушел с балкона, разделся, лег на кровать Анн и мгновенно заснул.
Его разбудил пронзительный звонок будильника. По-ловина седьмого. Он принял душ и надел темный костюм— сегодня свадьба. Вошел в кухню. Поблескивало зеленое стекло недопитой бутылки вина. На столе стоял магнитофон. Эвальд немного прокрутил пленку назад, остановил и включил воспроизведение. Раздался хриплый, жалующийся, гулкий голос, точно он звучал под пыльными сводами:
— ...хочу вернуться, но не тем, кем я был раньше. Я — другой. Это—единственно важное. Я другой! Другой!..
Эвальд остановил пленку, к горлу подкатила тошнота. Он вынул кассету, невесомую как перышко, и бросил ее в пакет с мусором, выходя, он прихватил пакет с собой, спустил его в мусоропровод: его голос рухнул вниз и канул в небытие. Эвальд побежал на автобус.
5
По окончании церемонии венчания Лилли повисла на Робби, точно хотела уверить его в своей вечной любви. Из белого крахмального воротника торчало красное, как свекла, лицо Робби, он поцеловал Лилли застенчиво и жадно.
— Она обнимает его, как сейф,— прошептала Герд Эвальду.
— Как что? — тоже шепотом переспросил он. Ему было не по себе, и в то же время он был растроган—они с Анн венчались здесь же почти четыре года назад.
— Через четыре часа приезжает Анн,— сказал он Герд.—Я хочу поехать...
Она прервала его:
— Нет, я поеду одна, так будет лучше. Ты подождешь дома. Трезвый.
Он кивнул, процессия двинулась к центру, в ресторан,— ее возглавляли Лилли с Робби; Лилли оживленно болтала, Робби шел с торжественным видом отца семейства, это позабавило Эвальда. Может, Лилли ждет ребенка? Эвальда не удивило бы, если бы оказалось, что Лилли использовала и эту возможность. Он повернулся к Герд:
— Мне надо еще забежать в контору. Ты привезешь ее прямо домой?
При свете холодного ясного майского дня Герд выглядела совсем старой.
— Конечно,— ответила она.
Они сидели за столом и смотрели на порт; по небу плыли облака, по площади сновали люди, за зданием рынка мелькнул полицейский катер. Этот город никогда не станет великим, думал Эвальд, у него нет своего лица, он некрасив, за исключением этого места да еще нескольких улиц, домов и площадей.
— Где вы собираетесь жить? — спросил он.
— Для начала—дома,— ответил Робби.— Рядом на площадке есть свободная двухкомнатная квартира.— Он с большим аппетитом поглощал еду, лицо его светилось тайным торжеством, отражавшимся в круглых глазах Лилли, в ее изящных, твердых руках, которые не останавливаясь орудовали ножом и вилкой и лучшие кусочки передавали Робби.
— Ты по-прежнему будешь работать в конторе? — механически спросил Эвальд у Лилли.
За нее ответил Робби:
— Нет, она уйдет с работы. Будет моим секретарем. Я должен заниматься живописью, писать—мне нужен по-мощник, чтобы держать бумаги в порядке.
Герд с Эвальдом переглянулись и чокнулись.
— М-м-м-м,—с набитым ртом промычала Лилли и энергично кивнула головой.
К окнам подлетали белые чайки, мимо скользили городской шум и тени, наполняя Эвальда одиночеством. Он не знал, о чем говорить. Произнося свою короткую речь, он вспомнил детство.
— Вот как!—усмехнулась Герд.— Оказывается, у вас с Робби было немало общего!
Эвальд взглянул на нее—она про себя смаковала кое-какие их детские шалости, ее выдавали губы; ему захотелось поцеловать их. Они выпили. Он решил не возвращаться в контору, остаться здесь до конца: мысль об Анн и ее возвращении камнем давила на желудок. Эвальд окинул взглядом гавань, Президентский дворец— сколько раз Эвальд огибал его, по дороге в школу, иногда в метель, часто в предрассветной мгле, когда по узким переулкам начинали грохотать повозки: он учился и уже тогда вертелся как белка в колесе, был, как говорится, пай-мальчиком; но в душе у него жил постоянный страх неудачи, боязнь не справиться, не оправдать надежд. Он поступил на работу, женился, они с Анн решили не заводить пока детей: оба были разумные, трезво рассуждающие труженики. Такие же, как до них были их родители. Но стоило Эвальду подумать о событиях последних недель, о первом потрясении, о Двойнике, возникшем в нем, просочившемся в его глазницы, пыта-ющемся думать его мыслями; стоило ему, против соб-ственного желания, но до ужаса отчетливо, вспомнить свою речь при вручении значков ветеранам фирмы, вспомнить, как все начало раздваиваться, как он был вынужден жить в пансионе «Гельвеция», как вырвался на свободу и, спотыкаясь, помчался по сверкающим коридорам внешней жизни, как сознательно нарушал правила приличия—впрочем, не сознательно, его вынуждали совершать все эти безумства (кто?), вынуждали преследовать точно так же, как, ему казалось, преследовали его самого, и наблюдать со стороны за собой и своими нелепыми поступками; когда Эвальд подумал про своего «брата до гроба», этого паразита, который питался его нерешительностью и страхом; когда вспомнил тот необычный черный вихрь, круживший его в Лондоне, точно осенний лист,— Эвальду пришлось выбежать в уборную. Он сидел на стульчаке, борясь с дурнотой, на лбу выступил холодный пот, он прислонился головой к ка-фельной стене, чувствуя, что дошел до предела, откуда возврата нет: еще шаг — и он погиб. И тогда все—люди и голоса, встречи и разлуки, столы и стулья, солнечные зайчики, приходящие и уходящие пароходы,— все потеряет свой смысл, превратится в призрачное, пустое эхо. Эвальд увидел в зеркале свое бледное лицо, умылся, вода текла ему на руки, но он не замечал, теплая она или холодная. Он прошел по ковру, покрывавшему весь пол, в ноздри ударил запах пищи; Эвальд сел. Герд внимательно посмотрела на него:
— Тебе опять плохо? Опять?
Эвальд вспомнил тепло ее тела, он обнял ее худые, костлявые плечи, губы чуть коснулись ее шеи.
— Я боюсь ехать домой, в этот проклятый Цветочный Венок. Я не в силах ждать там один.— Он закрыл глаза, на него навалилась неодолимая сонливость, ему захотелось заснуть тут же, уткнувшись ей в шею, зарывшись в ее волосы.— Я ведь совсем не знаю Анн, а она...— пробормотал он.
Герд тряхнула его и сказала, строго глядя ему в глаза:
— Отсюда ты поедешь домой, примешь душ и немного поспишь. Будильник поставь на полпятого, мы приедем без четверти пять, я не буду подниматься наверх!
Она закурила, посмотрела на Лилли и Робби, склонивших друг к другу головы, и тихо произнесла:
— Это у него вторая женщина в жизни. Он — испуганный кролик, а она—дородная садовница. С косой.— Герд с силой загасила окурок и добавила: — Что ж, все мы умрем от чего-то, хотя заранее не знаем, от чего именно.
Эвальд удивленно взглянул на нее, но Герд уже отвернулась, заинтересовавшись каким-то человеком в другом конце зала.
— Вон сидит Ионни, мой второй муж. Ему удалось прилично обобрать меня; и мне было совсем не весело, пока тянулась эта история. Он по-прежнему хорош собой, говорят, у него богатая жена и четверо детей.—Она отрывисто рассмеялась.
— Ты не хотела иметь детей или не могла? — спросил Эвальд.
Герд повернулась к нему:
—- Подобный вопрос я терплю только от тебя. Сначала не хотела, а потом уже не могла. Дети безжалостны, они способны сжить родителей со свету... если, конечно, родители у них не такие бегемоты, как у меня. В этом случае родители сживают со свету детей.
Разговор иссяк, они замолчали, погрузившись каждый в свое одиночество.
6
Придя домой, Эвальд разделся в спальне и пошел в ванную. Пустив горячую воду, он несколько минут разглядывал свое тело. Красотой оно не отличалось— нетренированное, тщедушное: животик, опущенные плечи, сутулая спина. Он попытался, не сгибая коленей, дотянуться до пальцев ног, но не сумел. Неужели можно любить такое тело? А может, его никто и не любил. Он лежал в горячей воде, глядя в потолок; в окно виднелся кусочек голубого неба, царила воскресная тишина. Эвальд тщательно вымылся, в голове слегка шумело, он проглотил таблетку от головной боли. Ополоснулся прохладной водой, надел будничный костюм. Присев на краешек кровати, долго рассматривал свои руки. Узкие, белые, знавшие только перо да бумагу, и больше ничего. Он вспомнил руки матери—большие, крепкие, полные; она часто повторяла: «И в кого это у него такие девичьи руки?», отец при этом переводил взгляд с газеты на Эвальда, а потом снова погружался в чтение. В памяти всплыл один случай из детства. Эвальд первый раз попал в цирк; пока под куполом летала гимнастка, работавшая без предохранительной сетки, он сидел, упрямо не поднимая глаз; мать наклонилась к нему и силой подняла ему голову:
— Смотри! Мы за это деньги платили!
Но он зажмурил глаза — ему было страшно, что летающая там, наверху, женщина упадет и разобьется; он думал, что люди, заполнившие цирк, только и ждут чьей-нибудь смерти, чтобы острее ощутить, что сами они еще живы. Мать так и не смогла заставить его смотреть на арену, после номера с дрессированными собачками она увидела, что он с нетерпением поглядывает на выход.
— Это тоже тебе не по вкусу? — спросила она.
Эвальд не ответил, ему казалось, будто животных
унизили, будто здесь всюду воняет дешевым насилием. Это был хорошо знакомый ему запах, им пропитались комнаты и стены домов, он сопутствовал бедности, безнадежности... Его родители тоже потеряли всякую надежду и потому стали жестокими, жадными, принципиальными до абсурда. Когда они вернулись домой, мать рассказала отцу о неблагодарности Эвальда. Отец посмотрел на него:
— Этот билет стоил нам больших денег, мы потратились, чтобы доставить тебе удовольствие. Но на тебя не угодишь. Тебе подавай более утонченные развлечения? Отвечай!
Эвальд поглядел отцу в глаза—они были холодные, в них притаился страх — и уклончиво пробормотал:
— Мне понравился клоун.
— Он ни разу не засмеялся,— вставила мать.
— Мне было его жалко,—прошептал Эвальд.
— Жалко! — воскликнула мать, но не нашлась что прибавить.
— Не нравится—не надо,—сказал отец, будто отрубил.— Но денег на кино, которые ты получал через субботу, больше не жди.
Прошло несколько месяцев, прежде чем Эвальд смог вновь окунуться в полный ожиданий мрак кинозала и забыться в мечтах.
Услышав звук вставляемого в замок ключа, Эвальд бросился в переднюю и распахнул дверь — на пороге стояла Анн, держа в руках дорожную сумку. Он обнял, поцеловал ее, щека у Анн была холодная, она отвернулась, молча сняла пальто, посмотрелась в зеркало и пригладила волосы. Эвальд не мог выдавить ни слова. Анн прошла на кухню и поставила на плиту кофейник.
— Совсем забыл! — воскликнул Эвальд.— Мне надо было заранее это сделать!
Она села, лицо ее было бледно. Эвальд сел напротив и схватил ее руки, они казались такими прохладными.
— Он с тобой говорил об этом?
Анн поглядела на него холодно, но в то же время рассеянно, словно издалека:
— Кто?
— Он, Тот Человек, который так похож на меня!
— Я приехала в Лондон, как ты просил,— медленно проговорила Анн.— В номере тебя не было. Я ждала, наступил вечер. Я ждала до утра, а потом позвонила Герд н Челси и узнала, что она уехала. Я думала, случилось какое-нибудь несчастье, в гостинице никто ничего не знал, но в аэропорту мне сказали, что ты только что улетел. Я ничего не поняла—и не понимаю до сих пор.
— А Герд? Разве она ничего тебе не сказала? — Эвальду казалось, что он куда-то проваливается, его бил озноб, голос срывался и дрожал.
— Герд? Она говорила, что встретила тебя на какой-то вечеринке, что вы вместе гуляли, что ты очень изменился и ей часто казалось, будто она имеет дело с двумя разными людьми—мне тоже так казалось. Я лежала у себя в номере и размышляла над этим. И поняла, что не знаю тебя, а еще я поняла, что мне этого даже не хочется. Я чувствовала себя брошенной, преданной, обманутой, чувствовала, что ты ведешь со мной какую-то двойную игру...— Анн посмотрела на него, у Эвальда перехватило горло, он заикался.
— Но Тот Человек существует! Он носит мою фамилию, вот уже несколько недель, как наши жизни переплелись. Он пользуется мною, высосал из меня все соки, обманывает и меня тоже. Неужели ты не понимаешь? Это Он вызвал тебя в Лондон, а сам скрылся, чтобы потом взвалить всю вину на меня... Я был здесь, Герд может подтвердить, я тосковал по тебе, я приехал домой, чтобы увидеть тебя, быть с тобой! В том аду, в котором я очутился, это было для меня самым главным. Ты должна мне поверить! Посмотри на меня! Ты мне веришь?— Эвальд взял лицо Анн в свои ладони.
— Бедный ты мой, бедный! — ответила она, глядя на него в упор, и глаза ее медленно наполнились слезами.
Он заметил, что тоже плачет, и прижался щекой к ее щеке; стул опрокинулся, они стояли обнявшись.
— Идем,—сказала Анн,— идем в спальню. Сядь здесь, рядом, смотри мне в глаза, скажи: когда у тебя появились все эти ощущения?
— Ощущения! — воскликнул Эвальд.— Ощущения! Значит, ты тоже считаешь, что я свихнулся! Спятил!
— Нет, я так не считаю. Сядь, успокойся и расскажи мне, как это началось?
Он судорожно глотнул, огляделся — стены, казалось, смыкались вокруг него,— рядом сидела Анн, от нее пахло дивной свежестью, он глубоко вздохнул:
— Это началось однажды дождливым вечером, я в тот день пришел с работы позже обычного...
Она кивнула:
— Я помню, ты был со мной очень нежен; я прилегла и заснула, а когда проснулась, ты сидел на краю кровати. Никогда этого не забуду, по-моему, в тот вечер я впервые по-настоящему изведала любовь...
Он услышал свой голос, донесшийся словно издалека:
— Это был не я! Это был Он! Он, понимаешь! — Эвальд заметил, что трясет ее за плечи, она отпрянула, пытаясь вырваться из его рук, он отпустил ее, она забилась в дальний угол, комната вдруг превратилась в длинную трубу, в том конце, где сидела Анн, было совсем темно; Эвальд провел рукой по лицу и сказал:
— Вчера я все записал на пленку, но потом выбросил кассету.— Он захохотал и, не переставая смеяться, вытянулся на кровати, по щекам у него текли слезы; Анн села рядом и погладила его по лбу:
— Успокойся. Ты обязательно выздоровеешь.
— Я еще не все рассказал тебе,— отозвался Эвальд.— Ты должна выслушать меня. Это началось однажды дождливым вечером. Я вернулся с работы позже обычного. Не смог отпереть дверь, но кто-то открыл ее изнутри— это был Он, Тот Человек. Ты в это время спала, с этого все и началось. Будешь слушать дальше?
— Да,— ответила Анн, он едва различал ее в темноте. И Эвальд поведал ей обо всем, что помнил, стараясь не упустить ни одной мелочи; порой он с трудом находил слова, порой они текли безостановочно, как слезы; он не скрыл ничего, рассказал о той унылой комнате и женщине в Лондоне и о том, как Герд спала рядом с ним. Он рассказал все. Эвальд словно парил во сне, его ничто не связывало — он должен обнажиться перед ней до конца, покончить с прошлым; он рассказал о своем страхе, о том, как его преследовали, о том, что произошло во время вручения значков ветеранам и на праздновании шестидесятилетия Флака, о комнате в «Гельвеции», о том, как он шпионил за ней и Тем Человеком, как пытался с ней объясниться, напомнил об их разговоре, когда она рассказала ему, как он ругался и каким был несдержанным; о том чужеродном, что разделяло их, о чем он не смел сказать ей, а когда почти решился, она заболела... О своем бегстве от тети Ульрики, о письме, полученном им от Того Человека,— Эвальд вскочил и лихорадочно ощупал внутренний карман: письма не было! Ну конечно, Тот Человек украл письмо, наверно в Лондоне, в номере,— куда бы ему иначе деться; какая сволочь, скотина! Анн молчала; дрожащим голосом, задыхаясь, Эвальд продолжал свою исповедь. Он рассказал о скандале, учиненном им в конторе, о своей поездке, о днях, проведенных в Лондоне, о чайной на Шеперд-маркет, о том, что ему удалось выведать у Герд о ее приключениях с Тем Человеком; о вечеринке в Челси, когда Герд должна была видеть их вдвоем, опустив только сцену в спальне; и про скандал в посольстве, и о своем возвращении домой, и о президенте Горэ, и о двух ритуальных масках, и о свадьбе Лилли и Робби, и о своей тоске, своей любви, своем одиночестве.
— Ты мне веришь? — закончил он.— Веришь? Единственное, что я знаю: я — не Он! Я не знаю, кто я. но я живу, чувствую, прикасаюсь к тебе...
— Но может, он все-таки частица тебя,— сказала Анн со странной улыбкой,— как бы ты этому ни сопротивлялся... И я должна узнать ее, потому что уже люблю — и ненавижу ее!
— Мне ничего не приснилось, все так и было,—сказал Эвальд слабым, как у ребенка, голосом, чувствуя, как на него наваливается страшная усталость и он погружается в сон, во всепоглощающий мрак.
Анн постояла, прислушиваясь к знакомым звукам, укрыла Эвальда пледом, вышла в гостиную и села за письменный стол. Потом она бесшумно закрыла дверь в спальню, зажгла свет, взяла телефонную книгу и стала искать, водя пальцем по строчкам: пансион «Гельвеция». Она подняла трубку и набрала номер.
7
Толстая дама, в которой нетрудно было узнать Гусыню, с жутковатой улыбкой приветствовала гостей, прибывших на бал-маскарад, устраиваемый фирмой. Эвальд придирчиво рассматривал ее: изображая пещерную женщину, Гусыня задрапировалась в дорогие, хотя и явно поношенные, меха, в руках у нее была внушительная дубинка. Рядом стоял Вернер Флак — Д'Артаньян, в широкополой шляпе, сползавшей ему на глаза, сабля времен гражданской войны, панталоны, кожаные сапоги, двойной подбородок утопал в белом кружевном облаке. Эвальду пришла в голову мысль о великовозрастном младенце, над которым кто-то зло подшутил. По залу летали ленты серпантина, царило приподнятое настроение. Эвальд с удовольствием смотрел на Анн—они оба оделись по моде двадцатых годов, на ней была маленькая шляпка ковшиком, юбка до колен, жемчужное ожерелье и длинный мундштук во рту, на нем—старые брюки-гольф, кепка, шелковый шарф и старые автомобильные очки, заменяющие маску. Кругом, куда ни кинь взгляд,—узкие злые щелки вместо глаз. Анн сразу же подхватили в танце, а Эвальд не заметил, как очутился рядом с Робби—белый смокинг, монокль в глазу и тоненькая щеточка усов над губой.
— Кого ты изображаешь?—поинтересовался Эвальд.
— Крупный капитал,—сердито буркнул Робби; чув-ством юмора он никогда не отличался. Старуха в платке и с сучковатой палкой в руках проковыляла мимо, потрепав Робби по щеке.
— Пролетариат!—прокомментировал Эвальд.— Какой мезальянс!
Робби, смущенно улыбаясь, поглядел вслед Бедности:
— Лилли бесподобна! Я не мог бы найти лучшей модели для моей новой серии «Жены рабочих».
— Голые?—рассеянно спросил Эвальд.
Робби внимательно посмотрел на него.
— Мне иногда кажется, что ты немного тронулся.
— Тонко подмечено,—отозвался Эвальд, глядя ему прямо в глаза,—особенно если учесть, что мне пришлось пережить.
Робби надулся. За окном светлая майская ночь опускалась на деревья и на залив; внизу, у воды, сновали мужчины и женщины в маскарадных костюмах, напоминая огромных ярких насекомых—экзотических жуков и сверкающих стрекоз. Взгляд Эвальда остановился на кружившейся в танце ослепительной балерине в черном трико и черной тюлевой юбочке. Черные волосы, стянутые узлом на затылке, загорелая кожа, на шее — несколько белых полосок; он помахал ей рукой, она ему ответила. Пестрые воздушные шары взметнулись к сводчатому потолку, шум усилился, по небу в легких вечерних облаках плыла золотисто-желтая луна. Оркестр заиграл какую-то южноамериканскую мелодию, и Эвальд с содроганием вспомнил свой танец с мадам Горэ. Он оглянулся в поисках Анн—она танцевала с клоуном, лицо которого было покрыто толстым слоем белого грима, а голову плотно облегал черный капюшон,—он был похож на Смерть или на Черта. Они танцевали, тесно прижавшись друг к другу, и Эвальда кольнула ревность. Перед ним склонилась балерина:
— Только один танец!
Он протянул ей руку, и они пошли танцевать.
- Я вчера рассказал Анн все,—произнес Эвальд,— мне хочется, чтобы ты подтвердила мои слова, сказала о Том Человеке в Челси, что это был не я...
Герд смотрела на него, в узких прорезях маски блестели глаза.
— Ты рассказал ей о том, чем мы занимались в спальне?,.
Эвальд резко остановился:
— Мы? Ведь ты видела меня... Видела нас обоих, потом, у реки...
Герд решительно его прервала:
— Двойников не существует! Когда Анн приехала в Лондон, там никого не было!
— Он очень хитер, разве ты не понимаешь! — воскликнул Эвальд.—Дьявольски хитер!
Герд косо взглянула на него:
— Кажется, я начинаю в это верить.
Заиграли фанфары, гомон стих, танцы прервались. Д'Артаньян вышел вперед и пробубнил несколько фраз о сплоченности и радости жизни.
— Этот вечер,— подчеркнул он в конце,—лучшее до-казательство того, что никакому энергетическому кризису не удастся затмить светлое летнее небо фирмы Вернера Флака.
Публика разразилась ликованием, мальчишка- посыльный издал пронзительный свист, под общий хохот Д'Артаньян попытался убежать от кинувшейся к нему Пещерной женщины, но она поймала его и увлекла танцевать венский вальс. Эвальд вдруг обнаружил, что танцует со старухой в платке, она крепко прижималась к нему, он задыхался, пот струился из-под козырька, брюки-гольф казались свинцовыми. В глазах у Эвальда рябило от лиц, масок и пестроты, он подпрыгивал словно заведенный. Они натыкались на другие пары и, кружась как волчок, который вот-вот остановится, отходили к лестнице. Танец кончился, они в обнимку, шатаясь, тяжело дыша и смеясь, вышли в прохладные майские сумерки и спустились к заливу: на воде серебрилась лунная дорожка. Эвальд уже почти не думал о своем. Теперь ему все представлялось даже смешным.
— Зачем устраивать маскарад, Лилли,— сказал он,— мы и так не узнаём друг друга.
— Но ты ведь узнал меня? — И она ущипнула его за руку.— Помнишь, как ты спал с этакой старухой? Было не так уж плохо, а?
— Ты счастлива с Робби?
— Он застенчив, скован, но из него выйдет толк.
Они вошли в рощу, она прижала его к дереву и
поцеловала долгим, жадным поцелуем.
Эвальд высвободился из объятий Лилли и потянул ее обратно в залитый огнями зал; тут же подскочил Клоун Смерти и увел ее прочь, похотливо заглядывая в многообещающее декольте Бедности. У Эвальда пересохло во рту, он протиснулся к бару, взял двойную порцию виски с содовой, отошел в угол и, потягивая напиток, глазами поискал Анн. На мгновение ему показалось, что он ее увидел, он махнул рукой, окликнул, но это была не Анн, а какая-то женщина, тоже нарядившаяся по моде двадцатых годов. Бонни и Клайд — хладнокровные убийцы, романти-зированная бесчувственность! Косые взгляды из прорезей, белые лица, черные, красные, синие маски—люди сталкивались друг с другом, лишь догадываясь, не зная точно, кто скрывается за этими масками. А если всем этим людям не удастся снять маски, если украденные ими лица прилипли к ним навсегда, если даже в решительное мгновение они не смогут освободиться от них?.. Ногти тянут и рвут кожу, воздух дрожит от воплей, кровь ручьями хлещет из разорванных лиц... Эвальд закрыл глаза и снова открыл: Анн держала его под руку, они стояли прижавшись друг к другу, она благоухала свежестью и чистотой. Пронзительный звук фанфар провозгласил наступление полночи. Из глубины зала доносился голос Гусыни, на лестнице теснились гости, Эвальда, как в тисках, зажало в сверкающей блестками и парчой толпе; пахло пудрой, тушью для ресниц, потом. Свет убавили, черные тени заполнили лестницу, ведущую на балкон. Эвальду казалось, что голоса и гул этого людского скопища слышны на много километров вокруг, словно ими заполнен весь континент. Под напором тайных мыслей и еле сдерживаемых страстей сводчатый потолок зала мог рухнуть в любую минуту. Весь мир, вся вселенная были населены масками, клоунами, самодеятельными актерами— убогие играли святых, убийцы — Жанну д'Арк. Они не погибали лишь потому, что никто не разоблачал их, им удавалось скрывать свою пустоту, они сгорали изнутри, не выдавая себя... Анн крепко держала Эвальда за руку, по залу прошелестел ветерок ожидания.
— Приз за лучший женский костюм! — выкрикнула
Пещерная женщина, указывая в толпу своей дубинкой, в другой руке она держала украшенную бантом корзину с фруктами и бутылкой шампанского—и являла собой пародию на оперную певицу. В середине толпы, там, куда указывала дубинка, возникло движение, кто-то пробирался к помосту; ведьма с грязно-серыми патлами, черным беззубым ртом, скрюченными пальцами и водянистыми глазами с хриплым хохотом взобралась на помост и, ковыляя, подошла к прищурившейся представительнице каменного века. Оборвав смех, она приняла корзину, отставила ее в сторону, сорвала парик, маску, и перед публикой предстала розовощекая, улыбающаяся Мильда Шёльдвик. Раздались восторженные возгласы, Мильда сошла с помоста.
— Приз за лучший мужской костюм! — громко провоз-гласила Гусыня.
И вновь в ее руке закачалась корзина с фруктами, дубинка указала в толпу, кто-то, подталкиваемый услужливыми руками, устремился вперед, как несущийся на всех парусах корабль; Эвальд вытянул шею и увидел, как человек в костюме Клайда — брюки-гольф, фуражка— взлетел на помост; в глазах у Эвальда потемнело, он хотел ринуться туда, закричать, открыл рот, но не издал ни звука: там, на помосте, стоял он сам, Эвальд,— его черты, его лисья улыбка, его походка, и даже его страх и его бешенство мелькнули на этом бледном лице. Пол вдруг превратился в трясину, Эвальда засасывало все глубже и глубже, стены покосились, их сдуло, будто легкие кулисы, и железные цепи, которыми он был прикован к будням, к действительности, лопнули с оглушительным грохотом. Он был вышвырнут из самого себя, оплеван, осмеян, уничтожен этим подлым предателем, который присвоил даже его страх и тем самым лишил Эвальда всего, что он имел. Нет, это не кошмар, не страшный сон, оказавшийся явью: Эвальд действительно не один. Между истинным и фальшивым не было никакой тайной необъяснимой связи, это был лишь гнусный двойник... злая копия, кто-то, кто издевался над тем, что было им, Эвальдом. Эвальда охватило бешенство, люди, огни, лица оскалились в наглой ухмылке; он вырвался из рук Анн и стал проталкиваться через толпу, не желавшую уступать ему дорогу,— они его не замечали, смотрели сквозь него, его не было! А Тот Человек — был! Эвальд протискивался между немыми, насмешливыми костюмами и масками, между теми, кто считал его мертвым, исчезнувшим, кто искал глазами его двойника, кто криками и аплодисментами приветствовал его тень. И он услышал свой собственный вопль:
— Это не я! Я—это я!
Все обернулись. Кричали они, смеялись, вообще — видели ли они его? Может, это он был тенью, невидимкой, бледной, безжизненной копией? Как человек, которому нечего терять, Эвальд бросился к своему мучителю, к его лисьей улыбке, к лицу, мгновенно застывшему в гримасе, словно маска. Воздух в зале был густо пропитан парами пота, пудры и ужаса. Внезапно толпа расступилась, рука Эвальда сжимала что-то холодное, револьвер, откуда? Он в растерянности огляделся, мелькали лица, по волнующейся, орущей толпе с балкона скользнул красный свет прожектора. Двойник соскочил с помоста, схватил Эвальда за руки, они танцевали, они боролись, Эвальду удалось высвободить одну руку, он хотел вцепиться в лицо Другого, но пальцы его царапнули по воздуху — или по камню, ногти саднило; Двойник вырвался и побежал, Эвальд — за ним, все вокруг словно поглотила тишина, он бежал в жутком немом мире и слышал свой собственный крик:
— Эвальд! Остановись! Эвальд! — но язык был чужой, голос — чужой, визгливый; Эвальд скатился по лестнице, вслед за Тем Другим, и выбежал в полумрак сада, где легкий ночной ветер раскачивал подвешенные на деревьях красные, синие и зеленые фонарики. На секунду он остановился и поглядел назад—толпа гналась за ним (за кем?) точно стая волков, он услышал пронзительный вопль:
— Эвальд! Эвальд!
Голос был знакомый и в то же время чужой, Эвальд ринулся в лунный свет, увидел среди деревьев своего мучителя, крикнул:
— Вот он!
Он бежал среди холодных, мертвых теней, ветви хлестали его по лицу, на лужайку выплеснулась толпа арлекинов, рыцарей, русалок, пещерных людей и придворных дам, поп-звезд и королев красоты, эльфов и смертей.
— Сюда! — закричал Эвальд и обернулся, но он уже догонял Другого и потому заорал:
— Это я — Эвальд!
Он задыхался, перед ним маячило белое лицо, темный силуэт, искрилась вода залива, он думал на бегу: это— страшный сон, это—кошмар! Он бежал, но что-то в нем остановилось, зная: уже поздно. Все поздно. Он бежал по усыпанной гравием дорожке, почти догнал его, за поворотом вспыхнули автомобильные фары, оглушительно заскрежетали тормоза, послышался глухой удар, посыпались осколки стекла, и луна взметнулась из-за густых безмолвных крон. Потом все звуки угасли, черным водпадом обрушилась тьма, он упал, и его не стало.
8
Он открыл глаза и увидел освещенные солнцем обои в красную полоску, в комнате было тихо. Тумбочка возле кровати, дверь в гостиную. Он боялся пошевелиться, только взгляд его скользил по знакомым, но забытым вещам. Потом он приподнял руку и внимательно осмотрел ладонь. Он мог двигаться, он жив! На лбу у него выступила испарина, он застонал, дверь отворилась, и вошла Анн, она склонилась над ним, затенив свет своими черными волосами.
— Спи,—шепнула она ему на ухо.
Он послушно заснул, опять проснулся, было темно, может, он ослеп? В ужасе он начал шарить вокруг руками, опрокинул стакан, в комнату проник свет из кухни—в дверях стояла Анн, в руках у нее что-то блестело. И вдруг он вспомнил все, словно увидел фотографию, четкую, неподвижную: остановившиеся движения, застывшие, мертвые лица, глядящие на него; не только то, что случилось на маскараде, но все, что он пережил, сфокусировалось как в призме, излучавшей сияние, и этот нестерпимый блеск ослепил его; он резко откинулся назад, закрыв рукой лицо, чтобы глаза привыкли к свету, проникавшему из кухни, Анн вошла в комнату. Глаза у нее глубоко запали, он едва узнавал ее. Она улыбнулась, ее улыбка была похожа на маску, ему нестерпимо захотелось сорвать с нее эту маску, увидеть ее истинное лицо, увидеть ее такой, какая она на самом деле, в ушах у него еще звенел ее крик: «Эвальд! Эвальд!» И прежде чем она наклонилась к нему, он уже знал, что она сейчас скажет.
— Он мертв. Это я заманила его туда, я рассказала ему, какой на тебе будет костюм, я договорилась с Гусыней, что он получит приз, все было рассчитано, все... даже его смерть.—Она улыбнулась, обнажив белые острые зубы.— Его нет, он умер,—сказала она и тихо засмеялась.
Чувствуя прилив сил, жесткими ладонями он сжал лицо Анн—наконец-то он ее узнал! Теперь они равны!
— Бедняга! — хрипло прошептал он.— Бедный маленький Эвальд!
Но Анн, словно не слыша, не ощущая его грубых рук, пробормотала, уткнувшись ему в шею:
— Удалось! Любимый! Мне это удалось!
— Ты уверена?—прошептал он ей в самое ухо.— Уверена? — И укусил ее за мочку, в которой сверкал маленький бриллиант; он держал ее мертвой хваткой, ему хотелось напугать ее: бедняжка, думает, что изгнала его навеки.— Ты уверена, уверена в этом?—шептал он; она была в его власти, он знал, что жив, что все двойники, все маски мертвы, Эвальд мертв, а он жив...
Он чувствовал ее спокойное дыхание у самого уха.
— Да, мой бедный, славный Эвальд! Он умер. А мы живы.
Он легонько оттолкнул ее, заглянул ей в глаза—она знает, кто он,— кровь гудела в его руках, губы невольно растянулись в ухмылке; мгновение, показавшееся им вечностью, они сидели в немом молчании. И, сидя в спальне, они услышали, что кто-то возится у входной двери, кто-то, чей ключ, может быть, не подходил к этому замку, кто-то, кто хотел войти, но не мог, кто-то, кто ошибся дверью или наконец вернулся домой.