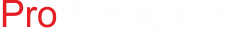ИНТЕРМЕДИЯ В ЛОНДОНЕ
Я наблюдаю за собой, словно дело касается совершенно незнакомого человека.
Во мне происходит что-то, от меня не зависящее...
Я—слепец, которому стреляют в спину;
напрасно я оборачиваюсь в надежде увидеть, что же меня толкает.
Герман Мелвилл. «Марди»
1
— Эвальд?
Она посмотрела на него и сообщила, что у них уже есть пассажир с такой фамилией. Он, улыбаясь, объяснил, что это его тень, преследующая его, поэтому-то он и покидает эту страну, лишенную весны, тепла и красоты — здесь красивы лишь женщины. Она не улыбнулась в ответ, взглянула на его черный портфель — единственное, что у него было с собой,— и, когда он, повернувшись, направился в большой зал с панорамными окнами, наклонилась к сидящей рядом подруге. Он спиной ощущал их взгляды. Эвальд сел и стал смотреть на серое небо, на беспокойно снующих или терпеливо ожидающих пассажиров. Преддверие ада, подумал он, сверкающее, набитое битком, тесное; воздух словно пропитан зловещими предчувствиями, страхом, подавленностью, тревогой, сомнениями, безымянной смертью; голос в громкоговорителе умело дирижировал людскими потоками, направляя их в разные стороны, самолеты взлетали и с глухим рокотом исчезали в облаках; пахло металлом и мастикой. Он закрыл глаза, но, почувствовав, что за ним наблюдают, внимательно огляделся — Эвальда не было. Он послал ему телеграмму в Лондон — небось мечется сейчас, бедняга, у себя в номере, как загнанная крыса. Эвальд поднялся и пошел купить бутылку водки. Впереди стоял человек, от которого пахло чесноком, он изучал прейскурант алкогольных напитков, Эвальду захотелось толкнуть его, на мгновение их взгляды встретились—в глазах незнакомца мелькнуло удивление,— он как будто узнал Эвальда, но очередь зашевелилась, продвинулась, и он больше не оглядывался. Вернувшись на место, Эвальд увидел, что идет дождь. Пейзаж за окном был тусклым, невыразительным. Подчиняясь голосу, грохотавшему на весь зал, Эвальд прошел через турникет на мокрое летное поле, к лениво свистящему самолету, внутри пахло как в автобусе тридцатых годов, играла негромкая, словно ватная, приглушающая страх музыка. Самолет медленно тронулся с места, потом замер, ожидая разрешения на взлет. Эвальд смотрел в иллюминатор: ангары, поля, несколько рахитичных ворон, затесавшихся в стаю хищных птиц; самолет покатился по полосе, неохотно оторвался от земли, рванулся ввысь, стремительно набирая высоту; Эвальд читал «Берлингске Тиденде», не понимая ни слова. Он заказал виски—у стюардессы на губах играла заученная улыбка,— закрыл глаза и вспомнил вчерашний сумбурный день: пораженные лица на заседании, собственную дерзость, с которой он провел новый план рекламной кампании стряхнул с себя растерянность, недомогание, наваждение, и принял решение начать новую, деятельную жизнь. Эвальд попрощался, жадно поцеловал Лилли —она слегка возбудилась, шепнул ей на ухо несколько слов — он уже не помнил, что именно,— он жил и действовал. Эвальд жевал, ел, пил, смотрел на ослепительно прекрасные облака и сверкавшее майское солнце. Кресло рядом было не занято—никто не нарушит его покоя; Эвальд погрузился в тяжелую дремоту: одно на другое наплывают лица Анн, Робби, Вернера Флака, растворяясь в темном, плохо освещенном автобусе; на темной лестнице гулко раздаются шаги, в освещенном дверном проеме четко выделяется черная фигура—это Тот Человек; лестницу затопляет какофония всевозможных звуков, на пороге стоит хозяйка «Гельвеции», он проходит мимо нее и распахивает окно, в комнату врывается поток свежего воздуха, холодящий его влажный лоб; он проснулся. Далеко внизу сверкала вода, почти ослепленный, Эвальд прижался лбом к холодному стеклу и откинул спинку кресла. Волосы Анн рассыпались по белой подушке, она молчит, бледная как смерть,— он смотрит на нее, держа в руке кухонный нож. Кто-то, точно животное, заскребся в дверь. Эвальд распахивает дверь, там стоит Он; он смешно вытягивает шею—кругом женщины: Шёльдвик, Маттис, Лехтинен, Суонперэ, фон Энгель, и среди них Лилли, ее лицо искажено непристойным беззвучным криком, большие голубые глаза широко открыты, как у него самого; вот ее лицо начинает растекаться, как вода по стеклу, он закрывает глаза руками, но перед ним возникает лицо Анн—она лежит на кровати между иссохшими стариками. «Забери меня отсюда!» Ее губы шевелятся возле самого его уха. «Забери меня отсюда!» Но рядом возникает Эвальд, он вцепился в нее с другой стороны, потянул — она лопнула, как хлопушка, пошел дождь из конфетти, а может, это был снег, его охватило огромное, словно бездонный космос, чувство свободы, точно его насквозь промыло ветром; он карабкается по узкой пожарной лестнице, она чуть качается, начинает падать, и он тоже падает, падает, падает, скованный паническим, слепым, холодным ужасом; он упал во что-то мягкое, это — Герд, он погружается в ее необъятное тело; его тряхнуло, трескучий голос стюардессы рассек дымный туман тяжелой дремоты:
— Мы приближаемся к Хитроу.
Разбитый от всех этих снов, Эвальд со стоном пристегнул привязные ремни, во рту был привкус крови. Напряженно-неподвижные ягодицы стюардессы вызвали у него восхищение: может, она робот — костюм с манекена, парик, ноги из пластмассы? Самолет скользил над Кью- Гарденз; Эвальд вспомнил чудесные осенние дни три года назад, Анн, ее улыбку, постоянный свист заходивших на посадку самолетов; туман, неяркий свет и отдаленный шум не затихающего уличного движения. Самолет мягко коснулся земли и тряско покатился по полосе: мимо проплывали поля, редкие самолеты — нелепые громадные амфибии, гигантские жабы, огромные отливающие серебром киты,— ангары, здания; Эвальда охватило возбужде-ние. Здесь никто за ним не следил, он был безымянным, он мог встретиться с Эвальдом, припереть его к стене, уничтожить или таскать за собой, как тень, на цепи, в качестве алиби. Войдя в зал, он огляделся: Эвальда не было. За стеклянными дверями бесшумно отъезжали сверкающие автобусы, стрелка направила его в зал № 1; он шел по переходам, коридорам, завернул за угол, было жарко и людно — пассажиры стояли в очередях, ждали, тащили чемоданы; он прошел в другой зал, спросил, как пройти к лондонскому автобусу, ему показали на лестницу, он спустился, понимая, что произошла какая-то ошибка; в туннеле стоял старый астматический двухэтажный автобус, несколько рабочих в комбинезонах поглядели в его сторону. Он уселся, человек, дававший ему сдачу, даже не удостоил его взглядом. Было совершенно тихо. Кто-то над ним издевается. Он прижал к себе черный портфель, в голове постепенно созревал план. Дернувшись, автобус выкатился на солнце, в прозрачную дымку, окутавшую черно-белые дороги, зеленые поля и словно озябшие деревья вдалеке.
2
Спасаясь от дождя, Эвальд зашел в бар. Внушительных габаритов дама, с которой он попытался заговорить, потратив огромные умственные усилия на то, чтобы слепить фразу об одиночестве в большом городе, резко отбрила его. Эвальд не понял ее слов, но ее спина была достаточно красноречива. Своим цветом весь ее облик, кроме разве что взлохмаченных светлых волос, напоминал, как и многое другое в этом городе, о копоти, сером небе, каменных стенах. Но, может быть, за этой оболочкой из жира цветет дивный сад, в котором можно полежать—вдвоем — под мягким, влажным небом?
Лавируя под моросящим дождем, Эвальд прокладывал себе дорогу по Нью-Оксфорд-стрит, навстречу нескончаемому потоку пешеходов. Впереди фасады домов уже посветлели, улицу залил робкий свет, дождь прекратился, и глухой шум уличного движения сразу же зазвучал в более радостной, высокой тональности. Эвальд находился внутри огромного сердца, внутри необозримой жизни; когда он подошел к Марбл-Арч, умиротворенные деревья и их зеленые тени окутывала серебристая майская дымка. Он брел среди деревьев, от земли поднимался весенний пар, лилась одинокая птичья песнь, сопровождаемая несмолкающим, далеким, настойчивым гулом десятков тысяч машин, прогуливалась влюбленная парочка, отгороженная от всего мира своей любовью. Эвальд изучал попадавшихся ему навстречу людей: все они были разные, и желания у них тоже разные, ни в чем они не похожи, абсолютного сходства вообще не существует; разве что вот эти два скайтерьера похожи друг на друга—по дорожке, опустив морды, бежали рядышком две собачонки, напоминавшие два дрожащих катящихся клубка, и словно на цепи тащили за собой старую даму. Эвальд представил себе, как бежит, скованный цепью с Тем Человеком, они слепо мечутся между деревьями, а во мраке притаился их Мучитель, он подгоняет их, не спуская с них глаз. Эвальд оглянулся: какой-то человек наблюдал за ним, вот он исчез за деревом, Эвальд направился в ту сторону. Когда он подошел, там никого не оказалось, но кто-то в слишком просторном плаще бегом спускался к озеру. Эвальд остановился, перевел дух, посмотрел на раскидистые, уже зеленеющие кроны деревьев, над ними медленно плыли похожие на дым облака. Он повернулся и медленно пошел вдоль берега. По воде скользили лодки, пожилые джентльмены спускали на воду белоснежные яхты—сцена, вполне достойная кисти любого высокочтимого члена Королевской Академии, который выставляется в Национальной галерее. Эвальд любил все это за неизменность: любил этот воздух, эту копоть, маленькие садики, дома, белые три года назад, когда он был здесь с Анн, а теперь с черными подтеками; и новые стеклянные здания, кажущиеся безобразными на фоне портлендских фасадов, и сейчас стояли как бы подернутые тусклой пленкой грязи под изменчивым, дымно-желтым или темным небом. В этой жестокости, в этом уродстве была особая красота, которую он не променял бы ни на что—ни на восхитительные, бесконечные, продуваемые ветрами улицы Нью-Йорка, ни на голубое небо Парижа. Здесь его никто не знал, здесь, не интересуясь, кто он такой, могли воздать ему должное или выкинуть вон, здесь он мог прославиться как неизвестный убийца... Эвальд остановился на Гайд-Парк-Корнер и на мгновение почувствовал себя счастливым. Здесь никто не заметит, если он освободится от своей тени. Его рука сжимала телеграмму из Гельсингфорса — насмешливые строчки о приезде Того Человека, Человека, называвшего себя Эвальдом и укравшего его прошлое, его руки, кожу, глаза, его жену. Но Тот Человек не может украсть его мыслей — их течение никто не мог предвидеть, у него в голове вдруг рождались самые странные идеи, самые неожиданные планы. Они допускали и неожиданную смерть, и отчаянный побег, пожарные лестницы, скандалы, людей, которые бежали, и людей, которые убегали в себя, словно были одержимы желанием разрушать... Эвальд заметил, что почти бежит по Пиккадилли; он остановился, огляделся, прислонившись к стене дома: на другом берегу широкого автомобильного потока виднелись зеленые деревья и стена с вывешенными на ней картинами— как тогда, в Париже, когда он сам распоряжался своей жизнью, когда он был один. Не здесь ли они с Анн свернули и обнаружили множество замечательных лавочек и ресторанчиков, не здесь ли он сидел в старинной прокуренной чайной и мечтал о новой жизни? Куда же все это делось? Город существовал, но существовал ли он сам, Эвальд? Узенькая кривая улочка, редкие, сверкающие в темноте огнями лавчонки, оглушительная поп- музыка и вдруг витрина, заваленная освежеванными тушами. Эвальд смотрел на них не отрываясь, чувствуя, как он весь наполняется холодным светом. Лотки с фруктами, окна в свинцовых переплетах; Шепердзмаркет окутал его запахом кофе и свежего хлеба. А вот и дверь в чайную— он нырнул в нее, словно ища защиты у прошлого. Его захлестнуло волной поп-музыки, отодвинулась красная занавеска, Эвальда потянули вниз по обитым бархатом ступенькам, и он оказался у черной стойки; странная женщина с растрепанными волосами тут же налила ему кружку пива, потом отвернулась и что-то крикнула, он не разобрал ее слов. Его глаза медленно привыкали к темноте. По другую сторону стойки сидел бледный человек и наблюдал за ним, сердце Эвальда остановилось, но в конце концов он понял, что видит самого себя — стена была зеркальная, почти все стены были зеркальные, и в них многократно отражались немногочисленные красные светильники на столиках; входившие и выходившие люди, казалось, бросали на Эвальда подозрительные взгляды и, шепчась, собирались враждебными группами, которые распадались и вновь соединялись по какой-то непонятной, словно бы угрожавшей ему системе. «Тобак- коу Роуд» — время от времени он улавливал эти слова в длинной ритмичной мрачной балладе, ему захотелось уйти—это была вовсе не чайная, но кто-то крепко взял его за локоть, прижался к нему и дыхнул в лицо чесноком. Толстый человек спросил его по-немецки — а может, по-голландски? — не встречались ли они раньше и что он делает в Лондоне? Эвальд опять очутился в темном тряском автобусе, к нему прижимался человек, читавший прейскурант алкогольных напитков; пол заходил у Эвальда под ногами, он поставил кружку на стойку, толстяк взглянул на него как заговорщик:
Лицо толстяка угрожающе придвинулось, но Эвальд уже стремглав взлетел по лестнице — все происходило в полной тишине,— кто-то прижался к стене, давая ему дорогу, рука его лежала в кармане, холодный металл жег ладонь; Эвальд выскочил на улицу, завернул за угол, пробежал через портик мимо булочной, из которой пахло как в детстве; он остановился, прислонился к стене дома. Мимо неслись машины, его никто не преследовал, стояла тишина—мягкая, насыщенная запахом бензина и еще влажного асфальта. Керзон-стрит. Эвальд заметил, что крепко прижимает к боку револьвер. Откуда он у него? Кто вложил оружие ему в руку, тайком опустил в карман, чтобы погубить его? Как это отвратительно! Эвальд положил револьвер обратно в карман, мимо неторопливо прошел полицейский. Раздался резкий свист, Эвальд инстинктивно нырнул в булочную, оказавшись среди женщин, плюшек и венских булочек, его окутало сладковатое тепло, молоденькая продавщица вопросительно взглянула на него, он ткнул наугад, получил пакет, у него были только крупные деньги, пришлось подождать сдачи; Эвальд стоял спиной к двери. Внезапно раздались звуки шарманки, сверкнул блестящий, начищенный металл— Эвальд словно вернулся в детство: утро, завтрак, в его тарелку падает дождь хлебных крошек, из соседней булочной.
Он миновал лавки, обнаружил проход и вновь оказался на Пиккадилли. Ему казалось, что улица кишит иностранцами— незнакомая речь, индийские сари, тюрбаны, темнокожие лица — нескончаемый поток людей плыл ему навстречу; Эвальд шел вдоль домов, немного постоял, разглядывая пустое окно с мятой занавеской табачного цвета; в темной глубине виднелась лысая голова, какой-то человек тоже рассматривал его сквозь поблескивающие очки, он как будто узнал Эвальда, лицо расплылось в жуткой улыбке, шея вытянулась — Эвальд бросился прочь. В Берлингтон-Хаусе была художественная выставка; под ногами у Эвальда хрустел гравий, он толкнул дверь, заплатил и окунулся в великий покой: мягкие серо-зеленые, почти абстрактные натюрморты, тонкие черные линии, нежное сочетание чистоты и тишины—все стремилось к жизненному равновесию. Он ощущал это стремление, ощущал, как оно пробивается сквозь все английское— жестокость, резкость, грубость; им были пронизаны деревья, освещение, приглушенный людской гомон, сады, знакомые Эвальда, с которыми он может созвониться в любую минуту,—тот же Билл, например: они вместе ездили на велосипедах как-то весной лет двадцать назад, и Билл ввел Эвальда в пропахшую капустой, мерцающую телевизионными экранами, будничную, монотонную жизнь городской окраины. Эвальд был уверен, что все это осталось неизменным и Биллу можно позвонить в любой день. Эвальд сидел в тишине и смотрел на контуры скрипки на фоне коричневого и голубого; в дверях, поглядывая в его сторону, разговаривали двое дежурных в темных костюмах: он был единственный посетитель. Его шаги гулко раздавались в тишине, через окна в частых переплетах на пол падали квадраты света, твердый тяжелый предмет все время бил его по левой ноге, рука сжимала клочок бумаги; Эвальд вытащил его и прочел: «Приезжаю договориться тчк одной тени достаточно тчк твой брат до гроба тчк бежать бесполезно тчк не позднее четверга тчк Эвальд». Для Эвальда точка, а для него самого?.. А может, он уже привык метаться, как дикий зверь в клетке? Привыкают ли к такому или сходят с ума? Он видел людей, которые метались по конторским коридорам, метались дни, годы, десятилетия—они врывались в одну и ту же комнату, поднимали одну и ту же телефонную трубку, жевали всегда один и тот же обед, одни и те же слова, обменивались одними и теми же сплетнями, вдыхали один и тот же запах бумаги, пыли, выхлопных газов, ездили всегда на одном и том же автобусе, пробирались в темноте всегда к одному и тому же дому, распахивали всегда одну и ту же дверь и встречали на пороге всегда одного и того же человека... Эвальд содрогнулся и от Пиккадилли-Серкус направился к своей гостинице. Идти туда ему не хотелось, но что-то невольно тянуло его; он чувствовал усталость, расстояния казались огромными, машины проносились как бы через него, словно он был бестелесным, оставляя его как старую ненужную вещь. Эвальд шел медленно, остановился, глядя на пирамиду банок с апельсиновым джемом— любимый джем Анн. Что-то она сейчас делает? Почему он не с ней? Кто с ней? Конечно, Тот Человек, он хитростью сманил ее из больницы и теперь сидит дома на кухне, пожирая ее похотливым взглядом; или сидит на краю ее кровати и, может, сочиняет новую телеграмму: «Задерживаюсь зпт жди воскресенье»; одному богу известно, что Он замышляет там, в спальне; а она совсем беззащитна, ничего не понимает, только видит, что к ней склоняется незнакомец, и, может, кричит от ужаса или от горя; нет, она смотрела ему в глаза ясным удивленным взглядом, любое его объяснение пресекалось Тем Другим; в самую неподходящую минуту звонил телефон, чужой голос будил его. Он был загнан в тупик, в комнаты, в город, где ему нечего было делать. И это все Тот Другой, ему больше не хотелось называть его Тем Человеком—разве он человек? Рядом остановилась женщина. Средних лет, слишком ярко накрашенная, довольно элегантная, с кожаной сумкой в руках — кого-то она ему напомнила. Женщина улыбнулась:
— Один?
Да, Эвальд был один, хотя ему все время сопутствовало его второе «я»; Эвальду нестерпимо захотелось отделаться от этого навязчивого спутника, поэтому он ответил:
— Да, один.
Они пошли вместе, она искоса изучала его, он смотрел на красные двухэтажные автобусы, на поток машин, между ними царило полное согласие; они свернули с Шафтсбери-Авеню—там росли деревья с серебристо- серыми стволами, будто украденные из Парижа; ему казалось, что скоро он избавится от своего имени, от своего страха, от своей одежды. Дом был трехэтажный, слышались громкие голоса, в вестибюле темно, на него могли напасть. Комната—кровать, стол, два стула, умывальник—совсем как его номер. Эвальд стоял у окна, смотрел на улицу, слушая, как она раздевается и моется. На углу виднелся итальянский ресторанчик, потом можно будет пригласить ее туда, деньги у него еще есть. Он почувствовал нарастающее, словно пришедшее извне, желание; он смотрел на свое незнакомое тело, на незнакомую одежду, брошенную на стуле, наблюдал в зеркало за своими движениями, пока его не обдало жаром, и он простонал: я убью тебя, убью! Потом услышал ее жалобный стон и увидел, что наступили сумерки; опусто-шенный и освобожденный, он откинулся на спину.
3
Похожее на черного таракана такси ползло в автомобильной неразберихе на Найтсбридж. Над домами и улицами висел влажный, фосфоресцирующий туман копоти и выхлопных газов; Эвальд расплатился и, прижимая к груди черный портфель, выскочил из машины. Шофер что-то крикнул ему вслед, но он был уже на тротуаре и устремился вперед; загорелся зеленый свет, Эвальд перебежал улицу — мелькали окна и серые фасады,—он шел быстрым шагом и глубоко дышал; голоса и уличный шум отгородили его от всего надежной стеной. Эвальд посмотрел на часы: время есть, все время в мире. Он взглянул на себя в уличное зеркало, поправил галстук—новый плащ, клетчатая английская шляпа, бородка, голубые глаза, презрительная усмешка—да, это он. Эвальд вышел к Гайд-Парк-Корнер, перешел улицу по подземному переходу и бодрым шагом пошел вдоль стены с картинами. Там висел портрет полуобнаженной женщины; Эвальд остановился, глядя на кричащие краски, слащавую порнографию: это была Лилли, только более чувственная и худая. Лилли приберет Робби к рукам, а он, Эвальд, сможет развлекаться с ней по-прежнему, так даже лучше, Анн все равно ничего не замечает. Он оставит жену в неведении— тот экзотический тепличный цветок, чья красота доставляет наслаждение, нежный росток, который тайком можно сломать. У Эвальда пересохли губы. Над раскидистыми деревьями скользило темное облако дыма. Здесь они гуляли вместе с Анн, он помнил это место, вот тут они свернули в парк, и он тоже невольно свернул. Две белые лохматые собачонки тащили навстречу ему пожилую даму, она оглянулась и с удивлением уставилась на нею — что это с ней? Он спешил, почти бегом пересек Грин-Парк—среди деревьев притаилась прохлада, мимо шли влюбленные парочки, словно у них не было других забот, кроме любви. Стемнело, туман почти пропал, Эвальд знал, что идет не туда: он вышел к Мэлл. Воспоминание о солнечной прогулке с Анн заставило его пересечь улицу; в Сент-Джеймсском парке он увидел больших откормленных лебедей, которые с презрением оглядели его, их грузные тела покачивались на воде — могущественные, как белые посланцы смерти. Эвальд стоял и смотрел на лебедей — он видел их тонкие беззащитные шеи, их высокомерие, с которым они держались благодаря своему привилегированному положению,— взрослых и детей, бросающих им еду; они с Анн тоже, кажется, кормили лебедей тогда, и она заливалась сча-стливым смехом. Для Эвальда было пыткой в который раз листать альбом с расплывчатыми любительскими фотографиями, запечатлевшими их поездку, себя он не узнавал: йот он улыбается во дворе Тауэра, вот лежит на зеленой лужайке Хэмптон-корта; вот снимок, на котором он делает вид, что хочет выброситься из окна гостиницы после неудачной попытки открыть нижнюю раму, и еще одна фотография—его забытые ботинки, а может, просто старые, он не помнил, что это должно было означать; занавеска, втянутая в сумрак комнаты, зарево над закопченными крышами. Немного прояснилось, на небе появилось ярко-голубое пятно, высветлившее Уайтхолл, непрекращающийся гул, словно от мощного водопада, окружал Энальда. Он покинул едва колышущиеся деревья и озеро, лебеди смотрели ему вслед; он быстро перешел на другую сторону Мэлл и взбежал по лестнице на Риджент-стрит. Под сводами галереи неподалеку от Пиккадилли он увидел оружейную лавку, в витрине на красной шелковой подушке лежали револьверы, Эвальд остановился и стал внимательно их разглядывать. На мгновение ему почудилось, что он уже был здесь и даже заходил внутрь; он как будто снова увидел того человека, что стоял за прилавком,—лысый, поблескивающие очки, темный костюм со скромной гвоздикой в петлице — знаток своего дела; загородившись ладонями от бликов стекла, Эвальд попытался заглянуть в сумрак помещения: там горела лампа, нет, не лампа, две хрустальные люстры, но людей не было. Он отвернулся, машинально зашагал дальше, во рту был горький привкус; Эвальд свернул на Пиккадилли, впереди шла женщина, напомнившая ему Герд: та же надменная, вульгарная походка, та же бьющая в глаза чувственность, по ее спине нетрудно было представить себе все ее тело. Женщина остановилась у витрины и обернулась—средних лет, с черной сумкой в руке, на губах улыбка:
Эвальду захотелось оттолкнуть женщину, но ее улыбка, глаза, которые, казалось, понимали все, что в нем происходит, вдруг изменились, и в ту же минуту его охватило желание.
— Да, один,— выдавил он, глядя на мостовую, он почти не слышал грохота машин из-за странного глухого шума в ушах; они пошли вместе. Он видел поры на ее лице, румяна, тон, положенный на веки,—должно быть, ей за сорок. Они перешли Пиккадилли, говорить было не о чем, все складывалось нелепо: он чувствовал себя ее мужем — ни дать ни взять английская супружеская чета возвращается домой в теплых майских сумерках. Эвальду не хотелось идти с ней, но он все-таки шел. В нем росло возбуждение, кожа горела; они прошли по Шафтсбери- Авеню и свернули за угол. Немного отстав, он придирчиво оглядел женщину: тело ее не соответствовало лицу; она вела его уверенно, точно они уже обо всем договорились. Миновали итальянский ресторанчик, оттуда доносились приглушенная музыка и пение; Эвальд вспомнил, что Анн очень любила каннелони, кстати, не этим ли она кормила его в тот вечер, когда все началось, когда он открыл дверь и вошел Тот Другой? Эвальд еще взвешивал на пальце нож, блестевший, как волосы Анн в темноте. На лестнице слышалась музыка, голоса; они поднялись на третий этаж, за стеной кто-то простонал:
— Я убью тебя, убью!
Женщина с улыбкой повернулась к нему, сняла платье; волосы, лицо, глаза—все потемнело; опустошенный и освобожденный, он откинулся на спину.
Сдавленный, какой-то шершавый, словно наждак, голос хорошо сочетался с ее загоревшей под кварцевой лампой кожей. Черные пряди волос закрывали беспокойные, мечущие молнии глаза, которые она внезапно вперяли во что-нибудь — совсем как папа Вернер. Резким движением она отодвинула тарелку с лазаньей, официант бросился к ней.
— Несъедобно,— объявила она, не сводя с него глаз; краснея и бормоча извинения, официант удалился.
Эвальда она заметила не сразу, он уже успел сесть за стол. Она вскочила:
— Эвальд!
Он поднял голову—испуганный и бледный как смерть.
— Герд!
Она засмеялась, обняла его—железным объятием; Эвальд почувствовал себя грязным и виноватым, попытался высвободиться, но она держала его мертвой хваткой. Эвальд все еще находился во власти недавнего приключения: вот он одевается, открывает окно, женщина лежит, отвернувшись к стене, он укрывает ее одеялом, кладет на ночной столик десятифунтовую бумажку, выходит, не оглянувшись; спустился вниз, перешел улицу—ужасно хотелось есть... и вот тебе! Герд благоухала лавандой, ей всегда нравился этот запах, еще с детства,— Эвальд хорошо его помнил, этот запах и выдал ее, когда она в тот раз пряталась в сене; Герд, смеясь, вертелась во все стороны.
— Что с тобой? Где твоя мужественность, хвастовство и вообще все трогательные доказательства, что мальчик превратился в мужчину?
— Какую роль ты играешь на этот раз?
— Играть уже ни к чему,— ответила Герд, жадно отхлебнув кьянти,—ты меня убедил.
Эвальд молчал, глядя на ее руки, беспрерывно двигавшиеся по скатерти, морщинистые, худые, пальцы напоминали когти—сколько они оставили царапин, сколько кровавых ран нанесли?
— У тебя такой вид, будто ты потерял больше, чем имел,— сказала она.— Откуда ты узнал, что я здесь? Что-то не помню, чтобы мы посещали это место во время нашего «великого приключения»! Хотя должна признаться— я плохо помню, что тогда произошло. С твоей стороны было очень любезно уложить меня в постель, во не очень-то любезно оставлять открытым кран в ванной: я промочила ноги. Ремонт обойдется в круглую сумму, придется папочке раскошелиться. Мне даже показалось, что ты собираешься меня прикончить—так ты кричал и бесновался, и это посреди Сохо-Скуер! Уж и не знаю, сколько ирландского, русского, французского и шотландского виски ты влил в себя до того, как нас вышвырнули. Помнишь? Небось опять от страха в штаны наложил? А помнишь нашу цветущую молодость?
Герд щелкнула пальцами, подбежал официант, она показала на бутылку и подняла палец, сверкнул бриллиант; откинув со лба блестящую черную прядь, она сказала:
— Вообще-то, мне следовало бы заявить на тебя в полицию. Я знаю—это взял ты, больше некому. Признайся—и замнем это дело.
Не поднимая глаз от тарелки с каннелони, Эвальд кивнул. Она схватила его руку и сжала словно тисками.
— Думаешь, я не попадала в такую переделку? Отча-яние, живешь—будто тебя швырнули в пространство, как стрелу со сломанным наконечником, бьешься словно об стенку, так, что вся душа в синяках, и они уже никогда не сойдут! Смотри!
Он поднял глаза: ее рука выше локтя была усеяна красными пятнышками—следы от иглы. Она покачала головой:
— Нет, с этим покончено; я бессмертна, такой перга-мент, как я, не рвется, я—как старый папирусный свиток. Ты видел их в Британском музее? Кроваво-красные письмена на тончайшей ткани, пережившей тысячелетия, свитки с текстом, эпитафии, молитвы—я вся пропитана ими. Почему ты не пьешь? Пей! Приглашаю тебя на прием в посольство, но учти: такие приемы не выдержать без предварительной основательной смазки—тогда становишься намного привлекательней и разговорчивей.
Герд засмеялась, откинувшись на спинку стула, черная блузка натянулась на полной груди, по коже разбежались тысячи тонких белых морщинок, пухлые красные губы обнажили два ряда превосходных белых зубов. Эвальд наклонился к ней:
— Расскажи обо мне.
— О тебе?
— Да, обо мне, в тот вечер в Сохо.
Она пристально посмотрела на него:
— Вообще-то, ты был не так уж пьян и, по-моему, тщательно продумал все свои безумства. Начал ты с того, что принялся учить бармена в «Тони», как готовить коктейль, который ты называл «Финским Мартини». Затем выступил с сольным танцем, аккомпанируя себе на шейкере, и угостил своим коктейлем весьма респектабельную пару, буквально вынудив их выпить содержимое шейкера,— интересно, как они добрались домой, нагрузившись смесью водки с джином. В «Белецце» ты разбил зеркало в вестибюле, ты колотил по нему и по своему собственному отражению, пока не изрезал руки в кровь. Ну-ка, покажи,— она схватила его левую руку.—Все зажило, осталось лишь несколько шрамов.
Эвальд перевел взгляд на свои пальцы: на костяшках проступали два длинных шрама, внезапно они начали саднить, раньше он их не замечал, к горлу подкатила тошнота. Он слышал голос Герд, теперь он был похож на гул тысячи слившихся голосов, Эвальд встал пошатываясь, она пошла с ним, взяла его под руку, мягкий вечерний воздух приятно освежил голову.
— Да ты болен! Виски, вот что тебе нужно! — Герд остановила такси, они куда-то поехали, Эвальд пытался вспомнить, был ли у него с собой черный портфель и где он живет; взгляд его упал на небо, вот там он и живет: рядом с темными облаками, под крышей, с видом на Шафтсбери-Авеню—кровать из красного дерева, платяной шкаф, сладковатый запах какой-то чужой женщины, витающий над постелью. Герд расплатилась, на ней была черная накидка с красным капюшоном: она—Красная Шапочка, а он—Серый Волк; Эвальд засмеялся и завыл, подняв лицо к лиловому небу, мягко отражавшему лондонские огни. Они прошли по двору, устланному красной ковровой дорожкой, к высоким застекленным дверям, за которыми был виден освещенный свечами зал. В дверях кто-то стоял — старая женщина с серебристо-седыми волосами,— это была его мать, Эвальд наклонился, поцеловал се руку, потом, обхватив обеими руками ее голову, нежно поцеловал в лоб, их глаза на мгновение встретились, в ее и и ляде сквозил ужас; потом его затянуло в зал и, словно дымом, обволокло изысканной речью. Герд исчезла, он оглянулся: женщина, которая была его матерью, о чем-то шепталась с лакеем, потом лакей направился к Эвальду и передал ему визитную карточку: «Жду вас в голубом салоне». Эвальд перевернул карточку—фамилия ничего ему не сказала, но ласточкой прозвенела в ушах. Лакей показал дорогу, открылась дверь: маленькая комната в голубых тонах, на столе одинокая лампа; дверь захлопнулась. Она жестом пригласила его сесть, не спуская с него глаз. Он молчал.
— Почему вы поцеловали меня в лоб?—спросила она.—Я могла бы попросить вас удалиться или приказать выкинуть вас вон.— Голос ее затих, Эвальд молчал. Изящные часы пробили девять раз. Они смотрели друг на друга, Эвальд медленно проговорил:
— Мне показалось, что вы — моя мать.— Горячие слезы застлали ему глаза, женщина кивнула:
— Она давно умерла?
— Да.
— У меня был сын, он был очень похож на вас, я вас тоже узнала, мне трудно это объяснить.
— Был?
— Да, он умер.
— От чего?
— Попал под машину. Я до сих пор иногда вижу его во сне, прикасаюсь к нему, словно он живой. Вы, наверное, находите наш разговор странным, но ведь и ваше поведение сегодня было странным. Вы выпили?
Эвальд наклонился вперед, к ее рукам, она вложила свои руки в его — они были холодные, безжизненно ледяные, он спрятал ее ладони между своими и невольно закрыл глаза, комната медленно закружилась, он проговорил, заикаясь:
— Простите! Простите! Я сам не свой!
Он услышал, как она встала, и вцепился в ее юбку, раздался треск, что-то скользнуло по его рукам, распахнулась дверь, послышались возгласы, крики, его рывком подняли на ноги. В большом зале танцевали венский вальс, танцующие расступились, пропуская двух лакеев, тащивших плачущее пугало с рыжей бородой и длинной, как у жирафа, шеей; его голубые глаза блуждали, Эвальд озирался по сторонам, но безропотно разрешил вывести себя из зала. Прежде чем за ним захлопнулась дверь, он успел увидеть, как жена посла в элегантной нижней юбке, подобрав подол разорванного платья, скрылась за какой- то дверью. Гости шумели, собираясь группами, он хотел позвать Герд, но у него перехватило горло, его протащили через двор, послышалась трель свистка, в руку ему сунули деньги, он плюхнулся на заднее сиденье, и мимо замелькали огни световых реклам. «Я всегда был хорошим сыном,— подумал он.— Всегда!» Однажды он пришел домой, и она с недоумением посмотрела на него, не ударила, только посмотрела, он невольно отшатнулся, словно ожидая пощечины. Он был пьян, его шатало, на столе стояла тарелка с бутербродами и молоко, они оба—и отец и мать — не спали, дожидались его. Эвальда зазнобило: разве он не все сделал для них? Разве он им не подчинился? Машина затормозила, он отдал деньги, которые все время мял в руке, постоял, шатаясь, у гостиницы, увидел портье, пересек огромный, битком набитый холл и с трудом проговорил:
— Девятьсот девяносто шестой.
Дежурный за стойкой взглянул на него, перед Эвальдом был не один человек, а двое, он попытался сфокусировать их, они слились в одно целое, но не до конца, Эвальд услышал:
— Номер занят, сэр, ключа на месте нет.
Он пошел к лифтам, из обоих ресторанов доносилась музыка, витрины переливались дешевыми предметами роскоши, лифт вознес его на девятый этаж; выходя, он чуть не упал, коридор качался. Эвальд остановился у своего номера, было почти темно, он бессильно ударил в дверь, она открылась—кто-то открыл ее.
5
Эвальда разбудил теплый майский ветер, гулявший по комнате. Окно было открыто, в сумерках занавеска казалась белой фатой, на небе виднелись голубые просветы, вдали сверкали гибкие шпили церквей: Лондон Ренна . На подоконнике стояли туфли Эвальда—когда же он их туда поставил? Он быстро умылся, ощущая странное возбуждение. На письменном столе лежал блокнот, к ю-го несколько раз написал в нем «Тюссо, 15.00», каждый раз другим почерком — то каллиграфическим, то с завитушками, то большими печатными буквами; однако и самом низу страницы он увидел слова, написанные его рукой: «Я вступил во владение». Наверное, он был пьян, когда писал это,—на бумаге остались пятна и следы от стакана. Эвальд попытался припомнить, что же все-таки произошло накануне, но голова была совершенно пустая, мл улице распогодилось, и чувство свободы заставило его поскорее спуститься вниз. Он стоял в очереди за завтраком— чай, бекон с яйцом, большие ломти поджаренного хлеба, тарелка с корнфлексом, изможденная официантка—море людей и одиночества, и меж тем удивительное единство: все они чужие друг другу, все собираются в город, все говорят на чужом языке. Заметив Эвальда, метрдотель возбужденно замахал руками:
— No, no, not again!1
Метрдотель был похож на испанца или на армянина— что-то темное, экзотическое, Эвальд попытался вступить в переговоры:
— Я имею право на завтрак!
Но метрдотель покачал головой, Эвальда вывели—вот позор!—всю жизнь его преследуют недоразумения; но в такой солнечный день лучше махнуть на все рукой и забыть о неприятностях, он направился в город: там он найдет где позавтракать. Эвальд зашел в кафе самообслуживания, просторный зал был выдержан в красно-черных тонах, очередь быстро продвигалась вперед, Эвальд взгромоздился на табурет с сиденьем из кожезаменителя. На окне, выходящем на Лейстер-Скуэр, играли солнечные блики, вспорхнула стайка птиц и исчезла в легкой дымке. Сосед справа вытер рукой рот и, наклонившись к Эвальду, сказал:
— В такой день и сам человек становится прозрачным, истинно вам говорю. Его видно насквозь. Приезжий?
Эвальд кивнул. Человек говорил по-английски, но понять его было трудно; на голове у него красовался причудливый котелок — похож на Чарли Чаплина, подумал Эвальд. Такой же костюм, такая же трость.
Эвальд снова кивнул, старые водянистые глаза незнакомца чего-то от него требовали, в них притаился чуть ли не страх; человек слез с табурета, прошелся туда и обратно, помахивая тросточкой,— никто не посмотрел в его сторону, лишь чьи-то равнодушные глаза следили за ним, он играл для Эвальда.
— Я долго бродяжничал, сэр, но теперь с этим покончено. Имеем кое-что в банке.— Он хлопнул себя по карману пальто — в неподвижном, горячем, пропитанном чадом воздухе повисло облачко пыли.— Но есть другой,— человек вплотную придвинулся к Эвальду,— тот, кто пытается украсть все, что я имею,— одежду, лицо, все, понимаете? Это—Лжеиисус!
Он мгновенно повернулся к сидящей рядом девушке — перед ней стояла чашка кофе, она курила и жевала резинку.
— Ты мне не веришь? Берегись!
Девушка отхлебнула кофе, неторопливо и равнодушно погляделась в зеркало, украшавшее покрытую красным лаком стену. Эвальд вышел из кафе, веселые красные автобусы теснились на Чаринг-Кросс, серыми стайками взлетали голуби., Ему показалось, что кто-то окликнул ею, он ускорил шаг; заполнившая его пустота дала трещину, и в нее просочился ночной мрак, в мозгу замелькали отрывочные воспоминания: кто-то сдавил его голову, словно тисками, он борется, точно утопающий, и просыпается, будто выбрался из бездны. Эвальд остановился: открытое окно! Звуки врезались в него, причиняя боль, потом опять исчезали; он смотрел на поток машин, на небо, на колонну Нельсона, никто его здесь не знает—надо вернуться домой. Эвальд огляделся, поблизости оказалось бюро путешествий, там пахло нагретой кожей. По мшисто-зеленому ковру, закрывавшему весь пол, он подошел к мраморной стойке, одинокая крашеная блондинка подняла на него глаза в синих тенях, он протянул ей свой обратный билет и в ожидании опустился на белый стул, погрузившись в таинственную, теплую, приятную тишину, заполненную телефонными разговорами. Что-то сейчас делает Анн? Он должен вернуться. Рядом сидела дама с жемчужным ожерельем на морщинистой шее, держа на коленях черного пуделя; Эвальд вспомнил свою собаку—три года родители даже не подозревали о ее существовании; он учился в институте и немного подрабатывал, завести собаку ему не разрешали, но он все-таки купил себе собаку, скрыв это от родителей; жила она у Робби, Эвальд сам выгуливал ее—это была любимая, отверженная собака-невидимка; через несколько лет она погибла, попав под машину,—безжалостная смерть, он плакал, стараясь, чтобы никто этого не заметил. Отец, как всегда, сидел в своем любимом кресле и читал газету, всем распоряжалась мать, крупная, сильная женщина—Эвальд до сих пор помнил ее красные руки, орудующие со стиральной машиной. Эвальд был послушным сыном. Родители возлагали на него большие надежды, заставили получить образование; отец поговорил с Вернером Флаком—они выпивали, сидя в гостиной, фронтовые товарищи, друзья навек,—и Вернер одолжил деньги. Мать подняла крик—гордость не позволяла ей брать деньги в долг, они должны были сами заработать их it поте лица, отец лишь взглянул на жену, она замолчала и ушла на кухню. В детстве и юности, которые он теперь напоминал как нечто далекое и мрачное, был один образ — его сестра Эва: ее не коснулась никакая тень. Эвальд тупо смотрел в большое окно на дома напротив, на грязный мрамор, все время меняющий цвет; в этом городе стены домов были живыми, как и стены, которые он видел в детстве в своем дворе,— копоть, грязь, ну конечно же, он узнает их, эти стены. Глаза в синих тенях снова смотрели на него: на сегодня мест нет, есть на завтра, не возражаете? Эвальд получил билет и не спеша двинулся по Уайтхоллу; город расстилался перед ним, Эвальд свернул к реке. Могучая река была окутана дымкой, вверх и вниз по течению шли паромы и парохо-ды, на берегах зеленели деревья; Биг Бен пробил четверть часа, мимо тянулись серые и белые стены, здания громоздились друг на друга, по мосту тек нескончаемый поток красных автобусов. Эвальд брел, пропитываясь туманом, шумом уличного движения, плывущими облаками, тенями, и все время ощущал нависшую над городом печаль, гнетущую его тяжесть и одиночество, легким туманом скользившее над широкой рекой. Ему не хотелось видеть это, хотелось оказаться среди узких улочек, застроенных одноэтажными домиками, среди кирпичных стен, окошек с цветочными горшками и гипсовыми кошками, тихого мещанского брюзжания—там он чувствовал себя дома. Эвальд уже не знал, долго ли он так шел, спустился наугад в ближайшую станцию подземки и сел на поезд, идущий к Ватерлоо; вагон трясло, Эвальд ощущал себя винтиком, пылинкой, с грохотом раздвинулись двери, он выбрался на солнечный свет и пошел по незнакомым улицам. Здесь непривычно пахло фруктами, рыбой, влажной древесиной, высокие стены пакгаузов отливали коричневым или были черные от копоти, окна, как открытые беззубые рты, смотрели на лениво текущую воду, каменные мостовые, каменные дома, странные каменные тумбы на углах улиц, мужчины в кепках и черных башмаках на пуговицах, сточные трубы, извивающиеся вдоль стен, тени, наполненные голосами и криками, громкий скрип лебедок, звон цепей, крики десятника: «Майна! Майна!» — и тем не менее пустота, пустыня! Внезапно Эвальд очутился на серой улице — ряды дверей, играющие дети; он представил себе их темные комнаты, лестницы, бабушку, сидящую где-нибудь в кухне, запах бедности и уюта и удивительной гордости, независимости; все окна были разные, хотя дома, стены и дымовые трубы, напоминающие неровные зубы на фоне мерцающего, закопченного неба, были похожи друг на друга как близнецы. Кое-где — в ступеньках, в стенах, в тротуарах— камень выщербился, то и дело попадались щели, забитые камнями: может, следы бомбежек, а может, вечный след давних катастроф. Потому что все здесь было вечное—жизнь и существование пустили корни в 9ТОм камне. Эвальд чувствовал себя дома. Он шел по мостовой, кричали дети, пронзительно звенели велосипедные звонки, из бара на углу пахло жареным картофелем, Эвальд не останавливался; у Блекфрайарз он перешел на другой берег, в дымке стальной портьерой над окном реки висел Тауэрский мост. Какое удивительное сочетание— нежнейшая дымка света и окаменелая грязь! Сердце города—средневековый камень и вместе с тем эта распахну гость, эти смены настроения! Эвальд прислонился спиной к перилам моста, на балюстраде сидели чайки—все 910 он покидает, завтра он уже будет сидеть у себя на кухне, в Цветочном Венке, и гладить Анн по лицу. Внезапно потемнело, лучи солнца скользнули над искрящейся серой водой, резкие порывы ветра ворвались в почерневший город, Эвальд поспешил прочь. Он ждал поезда, из темных туннелей и гулких коридоров донеслось тяжелое дыхание пропахшего дымом ветра, сверкал кафель. Эвальд взглянул на карту—на Чаринг-Кросс он пересядет и доедет до Бейкер-стрит, оттуда совсем недалеко до музея мадам Тюссо. Часы показывали 14.10. Он был один, помощи ждать неоткуда, сейчас главное — освободиться. Убил ли он Другого? Спинка скамейки врезалась ему в спину, Эвальд сидел закрыв глаза, сзади загрохотал поезд, гоня перед собой затхлый грязный воздух. Он слышал, как Тот упал,— Эвальд слышал, как Тот Человек упал,— и снова опустился на кровать, провел рукой по лицу: длинная подсохшая царапина вдруг начала саднить, он ее заметил только сейчас. Эвальд попытался разглядеть что-нибудь сквозь темное стекло, но снаружи было еще темнее; он увидел лишь бледное лицо, неясные очертания собственного лица: он сидит за столом, пишет, зачеркивает, опять пишет, потом выбрасывает написанное в корзину. Окно открыто, тишину нарушают одинокие машины или пронзительный свист. Он открыл глаза, поезд остановился, он вошел в вагон. Подземная жизнь Эвальда.
б
С кем он должен встретиться, Эвальд не знал. Вынырнув из теплого подземелья, он увидел странного человека в фиолетовой накидке, бумажной короне, с позолоченным деревянным мечом в руке. Человек что-то втолковывал прохожим, но те почти не обращали на него внимании. Ему бы встретиться с Чарли Чаплином, подумал Эвальд,—вот была бы пара! У каждого за плечами придуманное прошлое, каждый вжился в свою роль— король и клоун. В Лондоне все возможно. Наверное, можно раздвоиться, идти и беседовать с самим собой, никто и внимания не обратит, пока чего-нибудь не случится, пока не разрушится иллюзия и не рухнут стены, а тогда обнажится омерзительный, позорный лик, разобьются зеркала, погаснут неоновые огни, наступит тьма. Эвальд шел по Мэрилебон-Роуд; он бывал здесь раньше, в другой жизни, вместе с Анн. В то время он был молод, не уверен в себе, искренне влюблен, овладевал искусством, так сказать, респектабельной чувственности. Теперь ему открылось совсем другое: расцарапанная кожа, страсть, вспышки неукротимой ярости, судорожные движения, как у человека, не умеющего обуздать свои чувства. Все это он теперь видел на расстоянии. Начал моросить дождь, прохожие, словно фокусники, неизвестно откуда вытащили черные зонты; Эвальд уже дошел до музея, еще несколько шагов, и он оказался в сверкающем, каком-то нарочито неправдоподобном фойе. Никого. Ни одного знакомого лица. Он сел за белый столик — часть фойе была отведена под кафе, мимо бесконечным потоком шли люди, часы показывали без десяти три. Напротив уселся человек в совиных очках, с усами по колониальной моде.
— Ну и погодка! Неудивительно, что эта страна кишит сумасшедшими и убийцами—разумеется, с соблюдением внешней благопристойности. Трупы расчленяют в лабораториях, закапывают в садах или в новолуние бросают в Темзу. Комната ужасов—ничто по сравнению с действительностью. Кислота или стилет одинаково идут в ход— мертвецы и ночные кошмары у каждого уличного фонаря. Я прав? Так ведь?
Эвальд посмотрел на него и спросил:
— А те, кто думают, будто они два разных человека?
— Это шизофрения! Скоро она станет признаком здоровья: революционеры, купающиеся в роскоши, политики, которые говорят одно, а делают другое, домашние хозяйки, проводящие вечера в своих швейных кружках, рассуждая о воспитании детей, которые в это время томятся запертые в чуланах,— словом, все, кто, раздвоившись, катятся по параллельным путям, катятся все быстрее и быстрее, пути постепенно расходятся, и люди разрываются между ними — одна нога здесь, другая там, а в результате—безумие. По ним это не всегда заметно.
— Только у меня на приеме у них развязывается язык. Разрешите представиться.— Он протянул визитную карточку: «Джереми Макклоу, психиатр», и улыбнулся, оскалив желтые зубы. Он слегка шепелявил, круглые, обточенные, словно заранее написанные, слова так и сыпались с его женственно-красных губ, глаза за толстыми стеклами очков казались выпученными.
Психиатр быстро огляделся, доверительно наклонился к Эвальду и прошептал:
— Вы его видели?
— Кого?
— Моего двойника! Он украл у меня практику. Открыл кабинет поблизости от моего—я еще не установил, где именно, он не подозревает, что я за ним слежу, надеется ускользнуть от меня, но он ошибается! Кстати, как вы об этом узнали? Вы его пациент? Вас приставили шпионить за мной? Вы!..—Он схватил Эвальда за воротник пальто и притянул к себе.
— Отпустите меня, вы с ума сошли!
В голосе Эвальда звучала такая ненависть, что пораженный психиатр разжал пальцы и откинулся на спинку стула. Эвальд поспешно встал, вышел из кафе, поднялся на лифте наверх, в музей; это был какой-то будуар для мертвецов—застывшие глаза, блестящая кожа; нереальность всего этого даже утомляла.
Кто-то сел рядом с ним на скамью, кто-то сказал:
— Если б мы сидели неподвижно, то сошли бы за экспонат. Как по-твоему?
Он смотрел на Того Человека, Тот Человек смотрел на него; веснушчатый мальчуган в длинном, на вырост, пальто, цеплявшийся за женщину в платье крупными цветами, показал на них пальцем:
— Мама! Гляди, гляди!
— Ты думал, я умер?—тихо спросил Человек.
— Надеялся,—ответил Эвальд.—Я забыл про тебя, окно было открыто, я не сообразил, что это должно означать.
— Тебе это почти удалось, ты стал сильным, смотри.—Он повернул голову—на щеке виднелся шрам, длинная красная полоска.
Эвальд растерянно провел рукой по своей запылавшей щеке.
— Это ты меня оцарапал, смотри!
Совершенно одинаковые, они глядели друг другу в глаза, Тот Человек сказал:
— Ты чуть не вытолкнул меня из окна, вот я и решил уйти от греха подальше. Ты был в истерическом состоянии. Я разыскал Герд, она приютила меня и поведала о твоих подвигах в посольстве — по-моему, они произвели на нее неотразимое впечатление, она буквально набросилась на меня. Герд уверяет, что я могу прославиться в лондонском высшем свете, уже поговаривают, будто я пытался раздеть жену посла в одной из внутренних комнат, что посла отзывают и что я — дикий финн, еще не вкусивший плодов цивилизации,— в общем, я стал героем скандала, которым все возмущаются, но о котором все говорят, Человеком, делающим все, что взбредет ему в голову. Герд со своей стороны старается смягчить самые нелепые россказни о той ночи, когда залило весь дом и жильцы плавали по лестницам, точно золотые рыбки, вырвавшиеся из разбитого аквариума.
Он огляделся, мимо проходили люди.
— Сиди тихо! — шепнул Тот Человек Эвальду в ухо, они застыли, неподвижные как манекены, несколько посетителей подошли поближе.
— Невероятно! — воскликнула невысокая дама в фи-олетовой шляпке, похожей на черпак, она уже протянула руку, но кто-то оттащил ее.
— Экспонаты трогать запрещено! — предупредил де-журный, внимательно посмотрел на них, отошел и вдруг резко остановился, словно молнией пораженный, обернулся, они улыбнулись, встали и пошли ему навстречу, он попятился, налетел на президента Трумэна, тот зашатался, дежурный быстро повернулся, подхватил президента, форменная фуражка сползла дежурному на лоб; они медленно вышли из зала, какой-то человечек в котелке бросился за ними, протягивая блокнот:
— Please, автограф, please!
Эвальд расписался, передал блокнот Двойнику, он тоже расписался, оба посмотрели на белую страницу с двумя одинаковыми подписями — «Эвальд Эвальд». Сзади послышались возмущенные голоса, они ускорили шаг, свернули в коридор, миновали Трафальгар и выбрались на улицу. Дождь перестал, но порывистый ветер гнал по асфальту старые газеты. Двойник потянул Эвальда за руку, они побежали — колонны, тихие фешенебельные кварталы. Ухватившись за железную решетку, Двойник вскочил на выступ в стене и заорал во весь голос. Эвальд—за ним. Охваченные неистовым весельем, они неслись по улицам, свернули к Риджентс-Парк; навстречу им медленно скользили автомобили, во всем ощущалось богатство и роскошь, террасы домов смотрели на плачущие под прозрачными вуалями деревья, небо над Лондоном было тревожное, в синих просветах. Тяжело дыша, но не переставая смеяться, они опустились на скамейку; мимо шла толпа ребят в невероятных одеждах, с гитаристом во главе -барабан, индийские сари, ковбойская шляпа, босые ноги,— они пели какую-то ритмичную песню— ни Эвальд, ни Двойник не разбирали ее слов,— ребята увидели их, окружили, смеясь, показали пальцами знак победы и исчезли, словно песня. Эвальд и Двойник молча сидели рядом, между деревьями стлался легкий туман, опустились багровые сумерки, начали зажигаться фонари.
— Я сегодня приглашен к Герд на вечеринку, пойдем вместе,— сказал Двойник.— Это единственное и самое естественное решение проблемы. Пойдешь?
Эвальд наблюдал, как постепенно затихает большой город, который сейчас был так далеко, и все голоса звучали нежно, как будто их промыл дождь.
— Пойдешь? — повторил Двойник, железной хваткой стиснув руку Эвальда. Эвальд не сопротивлялся.
— Пойду. А завтра я уезжаю.
— Да, завтра мы уезжаем,— откликнулся Двойник. И они посмотрели друг на друга без ненависти, словно были братьями.
7
Шум голосов летел над рекой. Маленькие живописные особнячки, каменные набережные, плакучие деревья, грохот стереодинамиков — Эвальду казалось, что ему никогда еще не случалось бывать в такой спокойной, богатой, приветливой, надежной обстановке. Они протиснулись в прихожую, Герд там не было. Лестницу, ведущую на второй этаж, заволокло густым дымом, гости беспорядочно сновали по комнатам с бокалами шампанского в руках, воздух оглашали оживленные выкрики: Love! Darling! How nice!1—будто это кричали разволновавшиеся попугаи. Аффекты, эффекты—сверкающие пузыри на дорожке лунного света... или нефти. Эвальд вдруг обнаружил, что сидит на красной вельветовой подушке рядом с немолодой женщиной в шотландской юбке, с косичками, как у Гретхен, и сероватым пробором; у нее были розовые щечки, и казалось, она только что сошла с этикетки «Белой лошади» .
— Политика пронизывает все. Вы делаете чертеж стула и тем самым совершаете политический акт. Ваши поступки зависят от ваших взглядов. Если стул окажется слишком дорогим, значит, вы правый, дешевым—вы левый. Вы работаете не изолированно, это часть единого целого...— Она неопределенно махнула рукой в сторону медленно колышущегося, воркующего, пьющего, слащавого сборища длинных платьев, надутых губок, вязаных свитеров, челок; время от времени мелькали смокинги и декольте, настолько смелые, что платье уже теряло всякий смысл. Эвальд задумчиво рассматривал нечто белое и воздушное, скрывавшее ложбинку между грудями Гретхен.
— Если я правильно вас понял, вы—дизайнер по мебели,—сказал он.
— Вовсе нет, darling,— засмеялась она, выдохнув теплую розовато-красную струю воздуха ему в ухо.—Я сижу дома, мое хобби—сад.
— Какой же сад вы называете левым и какой— правым? Сад с дешевыми цветами и сад с дорогими? Голый сад и сад с пышной растительностью?
— Ах ты шутник!—воскликнула она и бросилась ему на шею.—У вас, северян, редкое чувство юмора!
Эвальд с трудом поднялся, он прокладывал себе путь в облаке соблазнительно благоухающих духов—знакомых здесь не было; пудель с красным бантом на шее путался под ногами гостей. Куда пропал Тот Человек, тот Эвальд, его довесок? Внезапно у него в руках оказалась тарелка с бутербродами, он начал есть, обнаружив, что жутко проголодался. Молодая женщина с широкими скулами, темными, зачесанными назад волосами, в комбинезоне, сшитом из маленьких кусочков кожи, говорила, перекрывая шум:
— Активность означает, что мы придерживаемся широких взглядов. Активность означает, что мы признаем за пролетариатом право первенства. Мы уничтожаем паразитов там, где до них можно добраться. Тело, тело общества отторгает и уничтожает бациллы инфекции. Нужно выискивать фашизм, где бы он ни скрывался, а затем...
Она выпила шампанское и протянула бокал. Кто-то наполнил его. Серебряный браслет хищной змейкой обвил ее руку, сверкнул зеленый глаз. Эвальд не выдержал и отошел, ему было трудно стоять, за низким стеклянным столиком нашлось свободное место, он утонул в черной коже дивана, чьи-то лица неодобрительно повернулись к нему. Какой-то человек с холеной бородкой клинышком наклонился и сказал:
— Детей нельзя держать в инкубаторе, каковым является семья. Элси отводит их в детский сад в Гранкулле, и у нас на целый день развязаны руки.— Человек говорил по-шведски—Эвальд был среди соотечественников.
— Что это за тип, там на диване? Знакомое лицо. По-моему, мы на днях видели его в посольстве! — писклявым голосом спросил толстый блондин.
Подошла скуластая женщина и села рядом с обладателем бородки клинышком; Эвальд вспомнил: это были знаменитые супруги-архитекторы, прославившиеся как выдающиеся теоретики и сталинисты; ее резкий голос ножом вспорол минутную тишину:
— Крупный капитал, черт возьми, идет рука об руку с синдикалистами...— Послышался ропот, пожилой господин с седыми усами встал с кресла и сказал:
— Какая чушь! Я уже пятьдесят лет социалист, а такие, как вы, только дискредитируют цели социализма! — Он потянулся, чтобы поставить пустой бокал на стол, но не достал.
— Социализм!—пронзительно засмеялась женщина.— Да это не что иное, как либерализм, подкрашенный красной краской!
Теперь Эвальд припомнил: эта чета живет в большой розовой вилле и часто выступает по радио и телевидению. Знаменитости—мужественные, активные, новообращенные; социологический жаргон, словечки вроде «широкие взгляды», «проблематика», «народ», «рабочие» лезли из них, как перестоявшее тесто, на людей они глядели холодно, ибо обладали властью.
— Свобода слова,— проговорил обладатель бородки клинышком,— понятие не однозначное, это язык, созданный сообща всей пролетарской массой...
Эвальд стал медленно выбираться из своего угла, обладатель бородки наблюдал за ним.
— Где я тебя видел, черт меня подери? — спросил он, слегка картавя.— Из-под какого камня ты выполз?—Он протянул вперед холеный указательный палец.—Ты— мелкобуржуазная соня.
Эвальду удалось наконец встать, он протолкался к выходу, поднялся по лестнице и нашел нужную дверь— оттуда пахло мочой. Выйдя из туалета, он увидел прямо перед собой белую дверь и открыл ее. Герд с задранной юбкой сидела на коленях у какого-то мужчины; внезапно она повернулась и поглядела прямо на Эвальда—они смотрели друг на друга целую вечность, темнота и страх сгустились вдруг вокруг них, Герд не двигалась, губы у нее дрогнули, Эвальд быстро попятился и закрыл за собой дверь. Натыкаясь на гостей, он сбежал с лестницы и кинулся к открытой двери: его окутал тихий, прохладный вечер. Беспорядочный гул стал отдаляться, Эвальд пересек улицу и подошел к каменным перилам набережной. На поверхности воды играли световые блики, воздух был пропитан ароматом роз. Эвальд перегнулся через перила: вверх по реке беззвучно плыл пароходик с зажженными огнями, оставляя за собой маленькие водовороты в серебристой воде. Кто-то подошел и молча встал рядом. Он повернул голову: Герд. Она посмотрела на него:
— Я думала, что со мной наверху был ты, я не узнала тебя.
— Я только заглянул...— начал Эвальд, но Герд прервала его:
— Нет, не ты, это другой... Я еще подумала, что ты, как и я, огрубел, стал черствым, что только берешь, жестоко и бессердечно... Ты никогда таким не был.
Они на мгновенье замолчали — из дома вышли люди, смеясь, прошли мимо и скрылись из глаз. Герд тихо сказала:
— Я взяла от жизни все, что могла. Последние годы здесь, на Чейни-Уок — фешенебельное местечко, я знаю, и это доставляет мне удовольствие,— я живу, словно отрешившись от самой себя. Если б у меня был материализовавшийся двойник, уж я бы постаралась и однажды лунной ночью, когда тени бывают особенно резкие, утопила его в реке, чтобы снова стать цельным человеком. Цельным.
Она засмеялась, на него пахнуло кофе, Герд спросила:
— Хочешь кофе? Я всегда беру с собой термос, когда иду сюда—здесь холодно.
Эвальд выпил обжигающий, крепкий напиток и вернул ей пустую чашку:
— Спасибо!
Над водой неслись приглушенные звуки, Герд сказала:
— Ты тяжело болен. Ты был хорошим мальчиком. Может, даже слишком хорошим. Твои родители были мещанами, мелкими садистами, я пыталась вырвать тебя из этой трясины, но мне это не удалось. Тебя тянуло к слабым, ты нашел Анн.— Герд накрыла его руку своей сухой теплой ладонью.—Ты никогда не умел жить... до сегодняшнего дня.
Она повернулась к Эвальду, и он внимательно поглядел на ее лицо. Он видел, что это человеческое лицо, за внешней маской таилось нечто живое, страдающее, молящее: узнай же меня! Найди во мне то, что свойственно только мне, и никому другому! И если я сама не знаю себя, объясни мне хотя бы, что во мне не мое!
Они стояли рядом, касаясь плечами друг друга, по небу плыли облака, ветер доносил тяжелый запах глины и нефти. Герд закрыла лицо руками и проговорила:
— Chi ё in alto е s'affaccia s'avvede che brilla la tolda e il timone nell'acqua non scava una traccia.
— И это значит?
— Тот, кто смотрит сверху, видит, что палуба сверкает и руль не оставляет следов на воде.
Эвальд услышал шаги за спиной, он уже знал, кто это; они обернулись. Он увидел черную тень, грозную и чужую—никогда не сможет Эвальд примириться с Ним. Никогда? Герд обняла его, на мгновенье он ощутил ее тепло, ее жар; потом она кинулась через улицу и вбежала в дом, дверь захлопнулась. Если предложить Тому Человеку остаться в Лондоне, что он потребует за это и чем это обернется для Герд? Но какое это имеет значение? По каменной стене скользили тени деревьев, Эвальда обдало холодным ветром.
— Я могу телеграфировать Робби,— сказал он,— попросить денег, оставайся еще на несколько недель, если хочешь. Я вернусь и все там улажу.
— Зачем ты едешь? — спросил Человек, который был им, Эвальдом, который был частью его самого.
Он подошел поближе:
— Хочу купить себе еще одну небольшую передышку! Хочу понять, что я такое и что такое ты во мне!
Тот Человек погладил бородку:
— Ты всегда был бесхребетным романтиком. Это еще одна из твоих вечных уверток.
— Возможно,— ответил Эвальд, чувствуя, как на него наваливается страшная усталость.— И в этом я тоже должен разобраться. Если я живу двойной жизнью, я не смогу сбежать сразу от обеих. Наверное, нельзя сбежать ни от одной из них.
— Мне казалось, что мы уже поняли друг друга, когда бежали с тобой по Риджентс-Парк. Впрочем, могу себе представить, что у тебя было лишь временное помутнение рассудка. Потому что ты—трус. В глубине души ты трус, ты от всего увиливаешь и едва осмеливаешься жить. Поезжай. Но сегодня в гостинице ночую я. А ты поищи приюта где-нибудь здесь. Даю тебе две недели. Потом я приеду и разорву все твои круги. Ясно?
Он бросил Эвальду плащ, повернулся и ушел. Карман плаща оттягивал какой-то тяжелый металлический предмет. Резкие черные тени изрезали весь берег.
8
— Я раскаялась, случайно достала билет! Ты не против, если поеду с тобой и начну новую жизнь?..— Лицо ее исказила горькая гримаса. Эвальд взял ее под руку и покатил тележку.
Самолет уже ждал сигнала к взлету, когда Эвальд вспомнил, что забыл послать Анн телеграмму о своем приезде. Ему показалось, будто он попал в западню. Самолет взмыл в воздух, Герд схватила Эвальда за руку и уже не выпускала ее. Они сидели как дети, и их, словно пух одуванчика, несло сквозь облака.