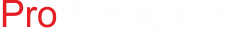ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЕЛЬСИНГФОРС
У меня есть маленькая тень, которая следует за мной повсюду,
но каково ее назначение, я не понимаю...
Р. Л. Стивенсон. «Моя тень»
1
Выйдя на улицу и пройдя несколько кварталов, Эвальд впервые в жизни почувствовал, что за ним кто-то следит. Отвратительное чувство—кто-то как будто крался следом, наблюдал за всеми его движениями, даже передразнивал их. Эвальд остановился перед витриной кондитерской и невидящим взглядом уставился на пирамиду булочек с изюмом. Потом он обернулся и оглядел Микаельсгатан. Улица была пустынна, если не считать нескольких прохожих, не внушающих подозрения. Эвальд заметил, что окно его кабинета в конторе освещено—оно светилось, хотя и слабо. Там, за этим окном, он потерял три года жизни и дослужился до начальника отдела. Кому могло прийти в голову следить за благопристойным начальником отдела? Правда, эта благопристойность не мешала ему иногда заглядывать в порнографический журнал или частенько нарушать супружескую верность, при этом он по-прежнему оставался благонамеренным гражданином, занимающим в обществе определенное положение. Эвальд почти не отступал от истины, заполняя налоговую декларацию, плевал на людские толки и пересуды, если они не задевали его доброго имени, и жил относительно счастливо со своей женой Анн в двухкомнатной квартирке в большом новом районе под названием Цветочный Венок. Стоило Эвальду подумать об этом Цветочном Венке, как он ощущал холодок неуверенности и одиночества. Безобразное скопище трех десятков пятиэтажных домов, расположенных параллельно и перпендикулярно друг к другу, воплощало убогую мечту неизвестного архитектора; оно служило вечным укором этому пройдохе, который, сплетя свой Венок, скрылся в старомодной шестикомнатной вилле, стоявшей в густом саду в Коттбю — старом районе деревянных вилл и особняков. Эти мысли успели пронестись в голове Эвальда, пока он осматривал улицу, недоумевая, откуда мог взяться свет в окне его кабинета; затем он отвернулся от витрины и продолжил свой путь к автобусной остановке по сверкавшему от дождя ущелью между домами. Эвальд прошел несколько шагов, и снова чей-то взгляд уперся ему в затылок. Эвальд вдруг увидел себя чужими глазами: как он выглядит, как идет, что собой представляет. Ощущение, будто за ним следят, было вызвано его внутренним состоянием, оно не имело реальных причин и потому не поддавалось объяснению. Необъяснимого Эвальд не любил.
Он вырос в мелкобуржуазной семье, в двадцать девять лет познакомился с Анн, зайдя поздравить троюродную сестру с Новым годом и выпить у нее чашечку кофе. Три месяца спустя они поженились. Жизнь Эвальда складывалась спокойно, в меру стремительно и в соответствии с тем планом, который он еще в юности начертал на белой скатерти в доме своих родителей. Отец и мать настаивали, чтобы план этот был осуществлен. Что имелось в виду, было не совсем ясно, поэтому, сдав весьма посредственно выпускные экзамены в школе, он все-таки окончил коммерческий институт и вскоре получил место в конторе Вернера Флака. Вернер Флак, похожий на жирного поро-сенка, был близким другом отца Эвальда, а потому мог приносить пользу и отцу, и сыну. Эвальд находил свою работу скучной, но надежной. А в ненадежные времена следует держаться надежных мест. Подобной мудростью Эвальда щедро снабдили родители, особенно отец, мать говорила мало, а то, что говорила, нельзя было вспомнить без ужаса. Эвальд на секунду остановился перед темной витриной и увидел свою тень. Конечно, это был он, но какой-то ссутулившийся, словно придавленный неизвестной тяжестью. Или с ним рядом кто-то стоит? Нет, поблизости никого не было. Я устал, решил Эвальд, устал от сверхурочной работы и выяснения отношений с Лилли. Лилли была покорной любовницей Эвальда, вернее, Эвальд был ее любовником, правда весьма незавидным. Белокурая жизнерадостная Лилли, умевшая доставлять столько удовольствия в постели, стремилась поддерживать добрые отношения с Вернером Флаком, и Эвальд был у нее своего рода связным. Нисколько не удивлюсь, если они сейчас занимаются любовью под моим письменным столом, почти без ревности подумал Эвальд. И он тут же извлек из паноптикума своей души образ верной Анн, которая ждала его дома к вечернему чаю. Лицо Анн он видел неясно, но во всем ее облике было что-то святое, возвышенное, отчего неуверенность Эвальда отнюдь не уменьшилась. С отрешенным лицом лунатика, который идет во сне и не видит, что за ним наблюдают, Эвальд сел в автобус. Автобус был старый, хорошо знакомый, и там, как всегда, воняло, в зеркале водителя Эвальд смутно различил свое лицо. Оно было бледное и чужое. Чтобы отвлечься, Эвальд начал думать о Лилли, о ее соблазнительном бюсте, который нынче вечером казался особенно вызывающим под красным, плотно облегающим джемпером. На самом деле грудь у нее не такая уж и большая, подумал Эвальд. Он любил, прижавшись ухом к ее груди, вести долгие сердечные беседы с этой женской душой, в которой мирно уживались здравый смысл, легкомысленные иллюзии и откровенная похоть.
— Похоть,— произнесли губы Эвальда,— похоть.
Он смаковал это слово, и пожилая дама с тремя сумками, что сидела возле него, увидев его закрытые глаза, пересела на другое место. Ей не понравилась внешность Эвальда. Мало кто находил его привлекательным (сам-то он относился к меньшинству, отдававшему дань его красоте), однако многим его внешность казалась оригинальной благодаря рыжим волосам, острому подбо-родку с мягкой шкиперской бородкой, голубым, слегка водянистым глазам и некоторому сходству с жирафом. Порой его улыбка приоткрывала опасную глубину, и тогда недруги (а их у Эвальда было не много) вспоминали о бабушке и сером волке. Обнаженные в этой улыбке белоснежные зубы выдавали сатанинскую хитрость, которая, по мнению большинства, да и по его собственному, ему вообще не была свойственна. Люди образованные считали, что он похож на героев Альберта Энгстрёма, пожалуй, даже на самого Кулингена, то есть, если б Кулинген был добропорядочным и пристойным человеком, он выглядел бы точь-в-точь как Эвальд. Однажды Эвальд зашел в городскую библиотеку, чтобы своими глазами увидеть рисунки этого Энгстрёма, и обнаружил настоящий зверинец: старики и старухи, чаще всего пьяные в стельку, обменивались скабрезными шутками — все это не доставило Эвальду ни малейшего удовольствия. Что касается Кулингена, между ними не было и отдаленного сходства. Даже шляпы у них были разные.
Эти сбивчивые мысли мелькали в голове Эвальда, пока он со слипающимися глазами трясся в автобусе по дороге к Цветочному Венку. В его усталом сознании Лилли и Анн слились воедино: из-под пышного белокурого парика Лилли глянуло бледное нервное лицо Анн с похотливыми глазами Лилли, а на свежем и круглом, как яблоко, лице Лилли благодаря темным волосам Анн и ее скорбно сжатому рту появилось трагикомическое выражение обреченности. Продолжая дремать, Эвальд усмехнулся, но, когда возле него сел человек, от которого пахло чесноком, он проснулся. Наелся чесночной подливки, подумал Эвальд. Хватает же у людей наглости. Я не против чеснока, но всему есть мера. Эвальд посмотрел на соседа. Покачиваясь на сиденье, тот читал прейскурант алкогольных напитков, потом сунул его в карман и как заговорщик взглянул на Эвальда:
— Такие дела. Пей пива больше, брюхо будет толще!
В тот же момент автобус тронулся, проплыл мимо здания станции, и Эвальд увидел часы, но зеркальца водителя ему не было видно. Рядом с ним какой-то человек читал прейскурант алкогольных напитков, потом он сунул его в карман пальто и сидел покачиваясь. Эвальду чего-то недоставало. Что-то тут было не так. Человек глянул на Эвальда:
— Такие дела! Пей пива больше, брюхо будет толще!
Эвальд вспомнил: запах чеснока — чесноком .больше не
пахло. Но ведь раньше пахло! Эвальд точно помнил, что они уже проезжали тоскливые ряды домов на Баккасгатан и темный мрачный велодром. А меж тем оказалось, что автобус только-только миновал подъем на Кайсаньемигатан. Эвальд почувствовал себя посылкой, которая пришла раньше времени. Наверно, он спал, и ему все приснилось. На лбу у него выступили капли пота. Он молчал. По стеклам автобуса сбегали серебряные ручейки дождя — до Баккасгатан было еще далеко, и до велодрома тоже, не говоря уже о Цветочном Венке.
Анн Эвальд подала молчащему мужу тушеную капусту—его любимое блюдо. Запах капусты распространился по всей квартире, на площадке он смешался с запахом горохового супа Лехикойненов, горячих пирожков Стормов и подгоревшей каши Пуусари, живших на первом этаже. Чем пахло на третьем этаже, жильцы первого и второго не знали, так высоко они не забирались. Возможно, и там, под небесными стропилами, все выглядело и пахло точно так же. Здесь, на втором этаже, жилось недурно: уютная гостиная с видом на окна кухонь и спален в доме напротив, спальня с балкончиком, на котором у Эвальда всегда кружилась голова, и кухня, где свободно могли разместиться шесть человек и неплохо пообедать, отчасти благодаря банковскому счету Анн Эвальд. У Анн был только один недостаток: тяжелый порок сердца; всю жизнь ее оберегали от волнений, единственное волнение, от которого ее не уберегли,— это сватовство Эвальда. Может, потому ее робкое «да» так тихо прозвучало у пастора три месяца спустя. С самого начала Эвальд понял, что Анн следует беречь как зеницу ока, вернее, как зеницы очей. Как зеницу одного ока он стал беречь ее, узнав о ее болезни, как зеницу другого — заглянув в ее банковский счет. Они сердечно беседовали о всяких будничных мелочах, значительных событий в их жизни не случалось. Под покровом ночи они шептали друг другу «кисонька моя», «мой котик» или «мой пончик»; написанные черным по белому, эти слова кажутся глупыми, однако в темноте спальни они приобретали совсем другое значение. Легкий трепет после любовных игр, весьма неторопливых, говорил Эвальду, что Анн иногда получала удовольствие, но окончательной уверенности в этом у него не было. Эвальд не хотел бестактно спрашивать ее об этом, не хотел быть грубым (хотя и был способен на грубость), он боялся потревожить покой, которым было отмечено все ее хрупкое существо. Темнокарие глаза, темные, слегка вьющиеся волосы, нежная, как сливки, кожа и поразительное тело с манящей линией бедер (далеко не у всех женщин такие манящие бедра, думал иногда Эвальд), которую, правда, скрывала одежда,— все это внушало ему гордое чувство собственности. Днем Анн у своей близкой подруги кроила платья для представительниц среднего класса, она приходила и уходила когда хотела. Скромно, но со вкусом она обставила жилище Эвальдов.
— Что-то ты задержался сегодня,— сказала Анн Эвальду и погладила его по рыжеватым волосам.
Он словно ястреб склонил голову набок, как бы уходя от ее прикосновения, и с набитым ртом пробормотал что-то невнятное. Небось занимался вечерней гимнастикой с этой вульгарной дрянью Лилли, в общем-то равнодушно подумала Анн, целуя мужа за ухом. Эвальд быстро вытер рот рукавом, схватил нежную руку Анн и впился своими лисьими зубами в самый сгиб локтя. Анн вскрикнула, отдернула руку и увидела, как на ее бледной коже проступают красные следы от его зубов, словно знак чего-то полузабытого и постыдного.
— Ты что! — воскликнула она.— С ума сошел?
Но Эвальд как будто уже забыл о ней: целиком отдавшись выуживанию последних кусков колбасы из горшочка с тушеной капустой, он пробормотал что-то вроде «Катись ты!..» — слова, которые Анн слышала от него не часто. За окном стемнело, Анн охватила горячая жалость к себе, она пробилась точно робкий родничок и увлажнила ее глаза. Анн отвернулась, открыла холодильник и несколько секунд постояла закрыв глаза. Ей казалось, что весь мир погрузился в тягостное молчание.
— Что-нибудь в конторе? — спросила она наконец.
Эвальд ответил, что его шефа Вернера Флака давно ждут два метра земли на каком-нибудь кладбище подальше и что он, Эвальд, собственноручно доставил бы его туда, читая при этом заклинания, в которых чаще всего встречалось бы слово «черт». Наконец-то Анн заметила, что ее муж чем-то взволнован, и даже встревожилась, когда услышала про гнусных типов, от которых разит чесноком, которые отравляют существование честным гражданам в автобусах, самолетах и трамваях и которые способны читать только прейскурант алкогольных напитков.
— Небось знают его уже назубок, черт бы их побрал!— закончил Эвальд и неловким жестом привлек Анн к себе на колени. Почувствовав его сильные руки, Анн впервые подумала, что в ее муже таится неведомая страсть, о которой она не знает. Решится ли она когда-нибудь заглянуть в эту бездну? У нее, как всегда перед неведомым, будь то новое блюдо или новое знакомство, слегка кружилась голова. Жизнь была чревата мелкими, но грозными опасностями, и Анн приходилось лавировать, чтобы избегать их. Она высвободилась из объятий Эвальда, ушла в гостиную и поставила пластинку Баха—они с Эвальдом любили Баха и часто слушали эту пластинку с застывшими лицами и отрешенными взглядами, время от времени кивая друг другу в глубоком, неизъяснимом взаимопонимании. Как известно, в музыке каждый слышит и находит свое.
Почти все окна в доме напротив были освещены. Там сидели люди, которые смотрели телевизор или слушали радио. По улице сейчас слоняются только убийцы, хулиганы, пьяницы да рабочие, думала Анн. Она вдруг почувствовала сильную усталость и вспомнила, что не прилегла на сорок пять минут после обеда, как велел доктор.
— Я лягу, отдохну,— сказала она Эвальду.
— Я не думал пугать тебя,-—объяснил Эвальд.— Просто мне захотелось укусить твою руку. Впиться зубами, будто в сочный плод.
Анн улыбнулась ему, ушла в спальню, скинула туфли, легла и укрылась красным одеялом. Несколько минут она лежала, слушая, как Эвальд шелестит газетой, как разговаривают в соседних квартирах, как, завывая, промчалась «скорая помощь», а потом погрузилась в глубокий сон. Ей приснилась широкая пасть с острыми зубами; эта пасть надвигалась на нее. Анн перевернулась на другой бок, и зубастая пасть исчезла, осталось лишь слабое ощущение боли и тревоги, оно последовало за Анн в ту темноту, где уже не было сновидений. На кухне Эвальд пустил горячую воду и сполоснул тарелки. Все было тихо и спокойно, мягкий свет падал на хлебницу и пачку маргарина, поблескивала мойка из нержавеющей стали. Эвальд достал из ящика нож и взвесил его на указательном пальце. Легкий как перышко, нож покачивался, словно крылья самолета, вознесенного воздушным потоком под самые облака. В окне отражалось лицо Эвальда и его улыбка, он не отрываясь смотрел на нож. Потом не спеша положил его обратно в ящик. Из спальни слышалось легкое дыхание Анн. Эвальд остановился в дверях спальни. На девическом секретере Анн горела маленькая лампочка. Эвальд смотрел на волосы, разметавшиеся по белой подушке. Губы у него пересохли. Он шагнул прочь, прикрыл дверь и вдруг услыхал странный звук, будто кто-то скребся во входную дверь. И как ни странно, этот звук нисколько не удивил Эвальда.
3
Эвальд повернул ключ, но дверь не открывалась. В эту минуту на лестнице погас свет. Он пошарил рукой в поисках пробки. Может, он ошибся этажом? Не успел он взглянуть на табличку с фамилией, как дверь отворилась— Эвальд стоял в дверях темной тенью. Минуту они смотрели друг на друга. Казалось, прошла вечность. Неожиданно незнакомец грубо втащил Эвальда в прихожую и запер дверь. Эвальд зажег свет. Из спальни не доносилось ни звука. Незнакомец разглядывал Эвальда. Эвальд разглядывал незнакомца. Эвальд, только что вошедший в квартиру, сказал:
— Потрясающее сходство.
Ничего умнее он не придумал. Двойник закрыл ему рот большой шершавой ладонью и прошептал:
— Анн!
У Эвальда потемнело в глазах. Как он смеет так бесцеремонно произносить ее имя! Уж не убил ли он ее? Может, он надругался над нею? Двойник затащил Эвальда в ванную и запер дверь. И тут они увидели себя в зеркале. Они походили друг на друга как близнецы. Разница, конечно, была, но Эвальд не сразу ее заметил. Сходство было поразительное: одинаковые волосы, одинаковые шкиперские бородки, одинаковые глаза, подозрительно и недоверчиво смотревшие в зеркало на своего двойника. Эвальду стало не по себе: это невероятно, это было похоже на дурной сон или шутку. Наверное, незнакомец— актер. Двойник заставил Эвальда сесть на крышку унитаза.
— Идиотская шутка,— прошептал он.— Только посмей крикнуть — живо пасть заткну.
И Эвальд не посмел крикнуть.
— Дата рождения?
— Двадцать пятое августа сорок третьего года.
— Точно. В четыре года я болел малярией.
Возразить было нечего.
Дома, родители, улицы, районы, женщины — все сходилось. Эвальда коробило от того, как Двойник говорил об Анн:
— Нашу птичку не стоит посвящать в эту историю, боюсь, сердечко не выдержит.— Он улыбнулся лисьей улыбкой Эвальда. Эвальду было не до смеха. Кафель излучал холодный блеск, от него слепило глаза. Анн могла проснуться в любую минуту.
У нас одна жизнь и одно прошлое, думал Эвальд. Одна работа и одна жена. Мы один человек, и все-таки нас двое. Про себя он решил называть незнакомца Тот Человек. Он почувствовал на губах привкус крови.
— Анн может проснуться в любую минуту,— сказал Двойник.—Уходи-ка ты поскорее.
— Я?
— Да, ты. Переночуешь где-нибудь в гостинице. Утром созвонимся. Позвони мне. На работу.
— Но ведь ты — не я,—сказал Эвальд.— Это мой дом, мои вещи, здесь все мое. Если ты прикоснешься к Анн, я...
— Что ты?.. Думаешь, мне она чужая? Да я знаю каждую родинку у нее на коже. Знаю, как она медленно поворачивается на бок, когда я ложусь рядом. Знаю ее...
Он перехватил руки Эвальда и прижал их к его туловищу. Выпроводив Эвальда в прихожую, он открыл входную дверь, медленно вытолкал его на темную площадку и осторожно щелкнул замком. Эвальда трясло, он сел на верхнюю ступеньку, за окном виднелись черные деревья, дома с освещенными окнами, люди, которые жили и двигались как ни в чем не бывало. Вечерняя жизнь Цветочного Венка, его жизнь. Эвальду захотелось вскочить, забарабанить в дверь так, чтобы искры посыпались, чтобы прогнать этот страшный сон и вернуть явь: вечерний чай, газету, телевизор. Он ненавидел себя, свою молчаливую покорность, свое малодушие. Как побитый подошел он к своей квартире и с колотившимся сердцем приложил ухо к двери: тишина. Оставаться здесь было бессмысленно. Куда же ему деваться? Эвальд включил на лестнице свет и, раздавленный и обреченный, начал спускаться нетвердыми шагами. Скоро он оказался во дворе. Низкие облака бросали серый отсвет на черные кроны деревьев и высокие угловатые силуэты домов. Эвальд заметил, что держит в руке черный портфель. Разве с работы он вернулся с портфелем? Должно быть, так. На улице было пустынно. Моросил мелкий дождь. Он отыскал свои окна: в гостиной горел неяркий свет. Вот зажглась красная лампа в спальне. Впору было закричать, но Эвальд не закричал. Ему стало холодно, и он маши-нально направился к автобусной остановке. Навстречу попадались редкие прохожие. Все было мертво, по крайней мере здесь. Только бы уснуть, утром все уладится. Но где? У кого? Вопросы эти были непривычными для Эвальда. Он чувствовал себя ребенком, которого выгнали из дому. Ничего не видя, он сел в автобус. Черный портфель лежал у него на коленях. Эвальда лихорадило. Когда автобус уже приближался к центру, Эвальда охватило странное чувство тепла и покоя. Он расстегнул портфель: там лежали пижама, зубная щетка и книга, которая называлась «Подозрения». Непонятно, сам он положил книгу в портфель или ее дал ему Тот Человек? Эвальд не помнил. Уличные фонари, черные блестящие тротуары, ветер, бегущий навстречу. Странный город, мертвый, населенный мертвыми людьми, которые, как и Эвальд, торопливо шагали по улицам. На Эспланаден тускло горели фонари: то ли весна, то ли осень—не разберешь. Эвальд шел словно отрешившись от самого себя, ему стало легче. Он добрался до Касернгатан. И тут почувствовал, что дует резкий, холодный ветер. Над Обсерваторским холмом кружили белые чайки. У подъезда Лилли Эвальд остановился. Он стоял, держа в руке черный портфель. Бруннспарк заволокло туманом. Мимо прошел человек, и на какой-то страшный миг Эвальду показалось, что это Тот. Нет, другой, походка у него была не такая, как у Эвальда. И не такая, как у Того Человека. Эвальд тихонько поднялся по лестнице, словно боясь, что кто-то услышит его шаги. Дверь показалась ему безмолвным черным пятном.
4
Эвальд проснулся с таким чувством, будто в последний момент вынырнул на поверхность из темной глубины моря, еще мгновение — и он задохнулся бы. Взмахнув! руками, он откинул с лица одеяло. Рядом спала Анн, через окно в спальню пробивался утренний свет. В ушах у Эвальда стучало, он приподнялся было, но снова лег и закрыл глаза. Анн тихо проговорила:
— Я совершенно разбита.
Эвальд снова приподнялся и спросил:
— Почему?
— Ты сам знаешь,— ответила Анн.
Голос ее звучал слабо, будто издалека, и был какой-то бесцветный. Эвальда охватил страх, сердце громко стучало. Неожиданно Анн прильнула к нему и прошептала:
— Это было ужасно, замечательно и ужасно! Впервые ты забыл...
Она уткнулась лицом в плоскую грудь Эвальда, от ее волос пахло свежестью и чистотой. Вместе с Анн Эвальд откинулся обратно на подушку. Что это с ней? Она целовала его, ее руки шарили по его телу. Зазвонил будильник, Анн потянулась к кнопке. Эвальд тоже рванулся к часам, и они с Анн сплелись в причудливый узел, из которого он высвободился не сразу. Они смотрели друг на друга.
— Мне приснился кошмар,— сказал Эвальд.— Я только чудом не умер.—Он погладил Анн по плечу, оно еще хранило тепло постели.— Сегодня мне предстоит приколоть пять значков за выслугу лет на пять заслуженных грудей, по одной груди у каждой женщины останется без значка.
Он положил ладонь на грудь Анн, которая напоминала маленький нежный плод.
— Этого хватит на несколько недель,— сказала Анн.
Но Анн была уже в ванной, она крикнула оттуда:
— Ой! Что это?
Анн вернулась в спальню, в руках у нее был шарф, и Эвальд попытался вспомнить, где же он его видел.
— Вот, лежал в ванной,— сказала Анн.— Это твой?
— Да, наверно,— ответил Эвальд. Нашарив ногами шлепанцы, он бросился в ванную, запер за собой дверь и приник головой к кафелю: кошмар продолжался. Освободиться не удалось. Поскорее бы очутиться в конторе. Он пил кофе и односложно отвечал на вопросы Анн, она так и льнула к нему, этого раньше не бывало. В гостиной, которую он, казалось, не видел целую вечность, вся мебель — стулья, вазочки и книги—стояла на своих обычных местах. Окно смотрелось серым прямоугольником.
Автобусы были набиты битком, Эвальду пришлось стоять. По улицам спешили толпы людей, Эвальд был без сил, когда добрался до конторы. В коридоре он встретил Лилли.
— Тебе получше? — спросила она.
— Спасибо за заботу,— ответил Эвальд.
— Ты поговорил с Анн?
Эвальд удивился:
— О чем?
Лилли придвинулась к нему совсем близко, Эвальда словно окутало светлое облако женственности и расчета. От неонового света, льющегося с потолка, у нее под глазами лежали черные тени, а может, это косметика? Эвальд внимательно, с каким-то новым интересом разглядывал Лилли. Прежней податливости как не бывало.
— Ты не человек, а хладнокровное животное! — сказала она.
Эвальд не ответил, но озноб, пробежавший у него по спине, подтверждал, что ее замечание не лишено справедливости. Может, он и в самом деле холодный, расчетливый индивидуалист? Они разошлись, каждый занялся своим делом, но многозначительная улыбка Лилли повисла в воздухе словно знак вопроса или петля. Эвальд так и не понял, что она имела в виду. Прежде чем идти в конференц-зал, он успел просмотреть почту. Его речь была готова, она писалась по шаблону и произносилась каждый год, когда очередные ветераны фирмы достигали определенного трудового стажа; после речи торжественно подавался кофе с печеньем и в благодарность за ревностную службу на благо фирмы «Вернер Флак и К°» героям дня вручались маленькие платиновые значки с изображением двух скрещенных рук. Не хватает только пламени, чтобы напомнить о кремации и всеобщем уничтожении, подумал Эвальд, которого несколько тяготила предстоящая ему роль. Они вошли — у трех женщин глаза сияли, две выглядели довольно хмуро. Пятеро женщин. Эвальд плохо их знал, но моменту приличествовал дух сердечности, многолетнего товарищества и деловитости. Виновницы торжества выстроились шеренгой, в отдалении две девушки из кафетерия ждали знака, чтобы начать разносить кофе. Эвальд откашлялся:
— Сегодня у нас особенный день! Двадцать пять лет вы верно и преданно трудились на благо фирмы. Вы трудились в поте лица... отдали фирме всю жизнь... а что она дала вам? Нищенское жалованье. В благодарность Вернер Флак и компания преподносят вам, своим честным труженицам, эти значки. Может быть, вы рассчитывали на денежное вознаграждение? Как бы не так! Наш шеф, который в такой день предпочитает не появляться в конторе, получил эти значки за бесценок благодаря деловым связям, а кофе с печеньем фирму не разорят. Жалкая свинья! Хотел бы я знать,— произнес Эвальд, рассеянным взглядом пробегая по бумаге, дрожавшей в его руке,— хотел бы я знать, скольких из вас пытался он ущипнуть исподтишка, не говоря уже о шлепках пониже спины, о красивых обещаниях шикарно поужинать, о сверхурочной работе и мелком распутстве, которые он позволял себе за эти двадцать пять лет вашей службы? Ведь он был в самом расцвете сил, когда вы поступили к нему, правильно я говорю? А? Фрёкен Шёльдвик, фру Маттис, фру Лехтинен, кто там дальше, фру фон Энгель, чудесная фамилия, дворянская, правда? А вы, фру Суонперэ? Вы все работали с полной отдачей, в этом я убежден. Я не очень хорошо вас знаю, но зато этого негодяя Вернера знаю как облупленного. А теперь примите глубокое соболезнование фирмы по поводу преждевременного... Гробовое молчание сменилось заметным волнением. Хриплый голос сказал:
— В жизни не слыхала такой странной речи.
Эвальд вытер лоб пестрым носовым платком.
— Вам нездоровится? — басом спросила фру Маттис.
— Не знаю,— ответил Эвальд.
Он ощупью нашел подушечку со значками и сделал шаг вперед, шеренга приосанилась. Трясущимися руками Эвальд прикалывал значок за значком на грудь почтенных тружениц. Одно было несомненно: фру фон Энгель любила чеснок. Эвальду все время казалось, что он вкалывает булавку в какой-то неизвестный вид пластмассы. Если попадался нагрудный карман, дело продвигалось быстрее. Но при виде декольте у Эвальда возникало непреодолимое желание подсунуть пальцы под вырез, чтобы не поцарапать булавкой бледно-лиловую кожу. Пол слегка ходил у него под ногами, словно он стоял на палубе корабля. Эвальд чувствовал, что сейчас ему хорошо бы выпить чего-нибудь покрепче, но еще накануне его предложение угостить ветеранов коньяком вызвало бурю негодования у Вернера Флака. Выпивка? В рабочее время? Неслыханно!
Фру Суонперэ, похожая на вратаря, посмотрела на Эвальда проницательным материнским взглядом.
— А речь, между прочим, была не так уж глупа. Что правда, то правда — Вернер свинья. Но со мной ему было не справиться. Раз он попытался зажать меня в большом сейфе.— Она разразилась оглушительным хохотом.— Да-а, дела. И этого мы ждали двадцать пять лет. Кофе с печеньем! Венские булочки наверняка куплены по дешевке, они черствые. Я помню, когда старик был еще жив и Вернер не так хорохорился, он всегда вытягивал у нас деньги. Некоторые давали из страха потерять работу.
— Кого ты имеешь в виду? — возмущенно спросила ФРУ фон Энгель. Ее длинное узкое лицо так и вспыхнуло.
— Ну от тебя-то он держался на пушечный выстрел,— успокоила ее фру Суонперэ.—Тебе повезло. А вот Мильдой Шёльдвик, этой пышкой, он полакомился, правда?
Мильда Шёльдвик невозмутимо наклонилась вперед, ее круглое лицо сияло благодушием и жизнелюбием. Резким движением она выплеснула кофе прямо в декольте фру Суонперэ. Кофе исчез, будто его проглотили, и лишь коричневая кромка на кружевной отделке напоминала о случившемся. Фру Суонперэ замерла. Казалось, весь мир затаил дыхание. Но только на секунду: сделав рывок, фру Суонперэ вцепилась в полную шею Мильды Шёльдвик и начала ее трясти так, что кофейный столик заходил ходуном — взметнулись кофейные брызги, подпрыгнули пирожные; Эвальд вскочил, подбежали официантки—вот это праздник! — страсти, подавляемые двадцать пять лет, вырвались наружу. Эвальд попытался разнять дерущихся.
— Опомнитесь! — крикнул он и сам не узнал своего голоса. Он казался себе встрепанной птицей, которая слепо мечется в своем большом и теплом густонаселенном гнезде; вокруг него мелькали восхитительные парики, серебристые пряди волос, ногти цвета запекшейся крови, широко открытые глаза с накладными ресницами, красные губы, растянутые в улыбке или в крике,— страсти бушевали в гулкой тишине. Фру Суонперэ в своем испорченном платье осторожно выплыла из зала, велича-вая, как айсберг. После нее на полу остались лужицы, которые официантки тут же подтерли. Царила странная, неправдоподобная тишина. Эвальд недоуменно посмотрел на машинописный текст речи, который держал в руке. Он видел его впервые: искаженный, вывернутый наизнанку, неузнаваемый, этот текст потешался над Эвальдом, разевая черные пасти строк. Кто-то сыграл с ним коварную шутку, уготовил ему провал. Женщины вокруг стола принялись жевать и беседовать. Все нормально, ничего не случилось. Подмигнув, фру Маттис достала из черной пластмассовой сумки коричневый пузырек и протянула Эвальду:
Эвальд повиновался: он всегда был послушным. Сперва он слушался мать, потом—Анн. Его повиновение было не отказом от собственной воли, а данью мудрости. За этим повиновением таилась улыбка. Настолько он был мудр. Кофе сразу стал крепче, из чашки поднялся ароматный дух, теплая волна опустилась в желудок. У Эвальда еще хватило сил встать, когда в облаке духов вернулась фру Суонперэ и как ни в чем не бывало села вместе со всеми, чтобы принять участие в застольных сплетнях. Задымились сигареты, со старых воспоминаний стряхнули пыль, и наконец Лилли, упершись щедрой грудью в плечо Эвальда, положила перед ним подписной лист—собирались деньги на шестидесятилетие Вернера Флака. Заместитель Флака поставил круглую сумму. Эвальд порылся в бумажнике и дрожащей рукой вывел свою подпись, дамы с интересом изучали подписной лист.
— Значки и кофе стоят по пятерке, эти деньги он получит обратно,— подсчитала Мильда, напоминавшая сову на охоте.
Женщины затараторили, перебивая друг друга, их лица выражали презрение, безразличие, иронию.
— Во всяком случае, сегодня мы больше работать не будем — за двадцать пять лет он может подарить нам эти три часа.
— Анархистки! —подумал Эвальд и представил себе, как они притаились с пулеметом в горной пещере или швыряют бомбы в мужскую уборную — от них всего можно ожидать. День с его гулом автомобилей погружался в серую дымку. Эвальд заметил, что тихонько покачивается на стуле, его словно овевал нежный ветерок. Надо позвонить Анн, подумал он, но что сказать ей, он не знал. Где же здесь дверь, нужно ее найти. Эвальд продвигался на ощупь, как будто шел в полной темноте. Из конференц-зала послышался веселый смех. Стодвадцатипятилет-ний опыт заполнил коридоры, двери стали проницаемыми, и вся контора, которая, несмотря ни на что, была человеческим организмом, потеряла свои очертания. Охваченный внезапным страхом, Эвальд распахнул дверь в уборную, за дверью никого не оказалось. В зеркале, висевшем над раковиной, он увидел свое лицо. Только лицо. Что-то случилось очень давно, но что именно, он не помнил: какой-то обман, покушение на убийство? Выходя из уборной, он столкнулся с Лилли.
— Ты похож на покойника. Впрочем, если помнишь, тебе пришлось спать на полу.
Эвальд покачал головой; так, не переставая покачивать головой, он вошел в кабинет, схватил телефонную трубку и услыхал голос Анн.
— Это я,—проговорил он.
Эвальд чувствовал, как она напряглась,—дома произошло что-то, чего он не знал.
— Что за глупая шутка? —ледяным голосом спросила Анн.
— Я пил только кофе,— сказал Эвальд, язык ему не повиновался.—Только кофе! — повторил он в немую трубку. Тут до него дошло, что он пил не только кофе. Эвальд осторожно повесил трубку, прошел по коридору и вернулся в конференц-зал, женщины еще не разошлись, немолодые лица обратились к нему: любая из них годилась ему в матери. Пройдя через весь зал, он сел на свое место. От кого-то пахло чесноком, и он сразу перенесся в автобус, он знал: ему не уйти, он из тех, кого пресле-дуют.
После ухода Эвальда Анн долго сидела на краю постели, у нее как-то странно кружилась голова, казалось, дом медленно наклоняется, а потом, словно во сне, выпрямляется снова. Она сидела в халате, с распущенными волосами, уронив руки на колени; в окно глядело солнце, на обоях в красную и белую полоску лежали оранжевые ромбы. Анн думала об Эвальде, о том, что выражение его лица постоянно меняется: то оно робкое, то неожиданно и по-новому властное, то замкнутое, то открытое. Анн поняла, что совершенно не знает мужа. Когда они познакомились, он обладал качеством, которого она ни у кого не встречала прежде: умением слушать. Он и теперь слушал ее как будто с интересом, смотрел ей в глаза так пристально, что она невольно опускала взгляд, однако она сомневалась, что он действительно слушает ее. Да, в последние дни Анн все больше и больше сомневалась в этом. Часто он как бы замыкался в своем собственном мире, где для Анн не было места, где не существовало нежности к ней; его улыбка, которую она прежде находила привлекательной, теперь иногда казалась ей хитрой и циничной, и хотя его глаза по-прежнему следили за Анн, за каждым ее движением, видели они при этом нечто совсем другое, недоступное Анн. И если он прикасался к ней в такие минуты, казалось, он прикасается к неодушевленному предмету.
В спальне царили тишина, солнце и одиночество. Анн посидела еще немного, и образ Эвальда постепенно исчез из памяти, она стала разглядывать окружавшие ее вещи. Белый письменный стол, который заменял ей туалетный столик, детские фотографии — лето на острове, где она провела столько дивных солнечных месяцев,— все эти вещи были из родительского дома, Анн сохранила их после смерти отца и матери. Все, что стояло в спальне, принадлежало ей, лишь приоткрытый шкаф и галстук, висевший на стуле, напоминали об Эвальде. Она встала, убрала галстук и подошла к окну. Над крышей соседнего дома голубело небо с черным изящным узором, нарисованным голыми ветками березы, во дворе хлопали крыльями чайки: сбившись с пути, они залетели далеко от моря и теперь обследовали помойку в поисках пищи. Вот они вспорхнули и легко заскользили в воздушных потоках, отдыхая в полете; внезапно Анн поняла, что ее переполняет счастье. Словно живительный солнечный свет заглянул к ней в душу, во все самые тайные уголки, и обратил в ничто мрачные воспоминания последних дней. Она снова присела на постель. Все было такое знакомое, такое близкое, она была одна, и это одиночество наполнило ее огромным безоблачным счастьем. Какая свобода! Конечно, пока есть Эвальд, пока он рядом, она не может наслаждаться ею. Но Анн уже испытала чувство свободы, и оно одарило ее особой, сокровенной мудростью, превосходством, тайной, недоступными ему. Он мог обладать ею, мог увлечь ее своей страстью, мог даже рисковать ее жизнью — и рисковал иногда, словно в ярости от переполнявшего его желания, это Анн понимала. Но не в его власти было отнять у нее солнечный свет, который сейчас пронизывал ее насквозь, который ничего от нее не требовал и был как откровение. Плевать ей на режим, на диету, на предписания врача и советы Эвальда, если можно сидеть у себя в спальне и быть самой собой — когда внутри у тебя пустота или, как говорится, тишина. Она вдруг подумала, что, может, и Эвальд тоже мечтает о таком покое, вспомнила, как на днях он вернулся с работы раньше обычного, усталый и бледный, и уснул, держа ее за руку. Как раз в тот день позвонил какой-то человек, выдавший себя за Эвальда, и пытался — это было неприятно, потому что голос его звучал буднично и действительно был очень похож на голос Эвальда,— подшутить над ней, задеть ее, испугать. Кому, кроме Эвальда, могло прийти в голову пугать ее — он иногда находил необъяснимое удовольствие в таких развлечениях. Этот звонок напугал ее. Очень напугал.
Но сейчас, когда она сидела в спальне, наслаждаясь блаженным одиночеством, новые, незнакомые черты Эвальда не смущали ее. Иначе и быть не может, думала Анн, каждый человек таит в себе противоречия, нерешительность, трусость, мужество, прекрасные мечты и низменные страсти — все это уживается в одном и том же человеке. Человеческую натуру невозможно познать до конца. Разве она знает самое себя? Или Эвальд — ее? Чего они ждали друг от друга, когда сошлись благодаря взаимной терпимости, пониманию и невзыскательности? Анн знала, что Эвальд тянется к ней, но в то же время ему была свойственна такая гордыня, которая убивала все его добрые устремления, и тогда между ними вырастала стена. Любит ли она его? Во всяком случае, Анн могла представить себе свою жизнь и без Эвальда—она живет одна, как сейчас, напоенная солнечным светом. А может, чувство, которое она только что испытала, родилось не благодаря его отсутствию, а, наоборот, благодаря тому, что он есть у нее и отсутствует лишь случайно, что все вещи вокруг—часть их общего дома? Можно ли назвать это домом? Анн встала и через дверь заглянула в тихую гостиную—диван, стол, невысокая книжная полка, плакат Тулуз-Лотрека, на стуле возле письменного стола валялись лиловато-зеленая в черную клетку рубашка и экзотический галстук с пальмами. Взгляд Анн остановился на этих предметах, она взяла их и стала рассматривать. От рубашки сильно пахло дешевым дезодорантом. Анн вспомнила, что Эвальд всегда был осторожен в выборе одежды: никаких ярких цветов, все строго и даже скучновато, под стать ему самому, прежнему Эвальду. В недоумении Анн положила обратно рубашку и галстук. Яркий свет потускнел, в окно глядел серый день, на лестнице заплакал ребенок. В спальне Анн остановилась перед зеркалом, присела на стул и некоторое время разглядывала свое лицо. Еще в детстве профиль Анн часто называли классическим, и к радости ее и к досаде. В последнее время Эвальд как будто впервые обратил внимание на ее внешность. Ее это смущало, она чувствовала себя раздетой. Ей нравилось, что он никогда не придавал значения ее наружности. Он был изумлен и благодарен, когда со временем обнаружил, что таких женщин, как Анн, принято называть красавицами. Но она знала, что ее красота играет не главную роль. Его больше волновали ее акции. Анн принимала это как должное. Ее отец тоже любил акции гораздо больше, чем свою жену. Но в Эвальде здоровая деловитость сочеталась с застенчивостью и нежностью. В нем было что-то, чего она не могла бы выразить словами. Анн не отрываясь смотрела в зеркало. Собственное лицо казалось ей бледным, увядшим, от былой красоты почти ничего не осталось. Худая, неестественно большие глаза, длинные, тонкие руки. Вдали послышалась сирена «скорой помощи», мир был полон движения и голосов, Анн вдруг захотелось услышать голос Эвальда. Он сам взял трубку и коротко ответил:
— У меня совещание, позвоню позже.
Анн застыла с трубкой в руке, глаза ее почему-то наполнились слезами. Она осторожно положила трубку на место, прошла в кухню и принялась мыть посуду, глядя в окно на унылый двор с редкими, промокшими насквозь ивами и чахлыми березками, на дома, видневшиеся за ними. Людей там не было.
С брезгливым страхом Эвальд разглядывал дом, где снимал комнату Двойник, с которым ему приходилось теперь делить свою жизнь. Мертвый, грязный фасад с высокими окнами в частых переплетах и черной просмоленной крышей, носивший следы жалких попыток с помощью карнизов и редких побегов дикого винограда придать дому благопристойный вид, глядел на такие же мертвые дома, которые выстроились на этой грязной улице и уводили мысли к началу века. «Пансион «Гельвеция»— значилось на ржавой вывеске. Здесь Эвальду предстояло начать свою двойную жизнь, встретить самого себя и познать отвращение к самому себе. Можно сердиться на себя, можно досадовать, но истинное отвращение ты почувствуешь лишь после общения с собственным отражением, долгой и постоянной связи с ним, долгого и постоянного раздвоения личности. Эвальд нырнул в подъезд, там пахло пылью и мочой, за грязными окнами виднелись дымовые трубы, кто-то яростно выколачивал ковер. Эвальд начал взбираться по деревянной лестнице, ступени были обиты железными полосами. Мимо него прошла женщина с мокрым бельем, с криком пронеслись трое ребятишек, они чуть не сбили Эвальда с ног, высокий худощавый мужчина в широкополой шляпе при виде Эвальда остановился и внимательно поглядел на него, лицо мужчины вдруг стало подергиваться, словно он встретил привидение. На трясущихся ногах Эвальд продолжал свой путь, что-то бормоча себе под нос. Рядом с дверью в пансион висел старомодный колокольчик, звук у него оказался чудовищно громким, будто колокольчик звонил в бесконечных темных переходах и коридорах. Эвальду открыла женщина неопределенного возраста, в очках, похожая на большую серую мышь, она как будто принюхивалась:
— О, вы, должно быть, близнец господина Эвальда? Проходите! Господин Эвальд ждет вас, комната номер семь, по коридору направо.
Она тащилась за ним до самой двери, словно хищник, преследующий свою жертву. Из-за двери крикнули:
— Войдите!
Эвальд вошел. Гардины табачного цвета были задернуты неплотно, в старом кожаном кресле под большим торшером с зеленым шелковым абажуром сидел Двойник и смотрел на Эвальда. Дверь закрылась, и Эвальд почувствовал себя в неволе, словно попал в клетку.
— Оказалось, Лилли известно больше, чем мне,— медленно произнес Двойник.— Как выяснилось, ты не пошел в гостиницу, а провел ночь у нее. Я этого не знал. Еще один такой промах, и ты будешь горько раскаиваться.
Он говорил тихо, глядя то на свои узловатые пальцы, то на Эвальда.
— Ты сам допустил много промахов,— сказал Эвальд.— Сначала вернулся с работы раньше, чем следовало. Я позвонил Анн, и она решила, что кто-то хочет ее напугать. Кроме того, ты оставил на стуле свою вонючую безобразную рубашку, Анн не привыкла к таким вещам.
Эвальд без приглашения присел на край кровати. Она была застелена белым вязаным покрывалом, из умывальника капала вода, Двойник поглядел на Эвальда и улыбнулся своей лисьей улыбкой:
— Я люблю ко всему относиться с юмором,— сказал он.— А ты мастак создавать комические ситуации. Мне очень понравилась твоя речь на вручении значков ветеранам фирмы. Знаешь, что сказал Вернер? Ну и сукин сын этот Кулинген! — сказал он, и в голосе у него звучало восхищение. Наша слава завзятых скандалистов растет, но делам это не вредит, скорее наоборот. Лучше пусть ругают, это тоже реклама. Под каким же камнем прятался ты все эти годы, с того дня, как мы родились? Ведь мы с тобой все равно что близнецы, все равно что узники, скованные одной цепью, и даже не подозревали об этом, вот это уже выше моего разумения. Я актер, умею здорово притворяться, а ты словно вмурован в серую стену, тебя от нее не отличишь, и на тебе пятна от сырости, как на этих обоях. Посмотри на себя. Сравни нас. Видишь разницу?
Он заставил Эвальда подняться и подвел к узкому мутному зеркалу в платяном шкафу. Этот напористый, наглый, хвастливый тип показался Эвальду совершенно чужим. Однако они были похожи, у них были одинаковые лица и почти одинаковый брезгливый, пренебрежительный взгляд. С несвойственной ему злостью Эвальд отпихнул Двойника и снова сел на кровать.
— Можешь идти,— сказал Эвальд.
— Не вздумай повторить этот номер с Лилли,— предупредил Эвальда Двойник.— Завтра зарплата. Разделишь се поровну, мою половину положишь в конверт и спрячешь в левый ящик стола, тот, что запирается.
— Это невозможно,— возразил Эвальд.— Мне надо заплатить за квартиру, потом, я брал взаймы у Анн, а вот ты...
Он умолк, не зная, что сказать. Некоторое время они сидели молча, потом Двойник произнес почти нежно:
— У нас общая жизнь, общие трудности. Я тут оставил тебе немного коньяку, вчера купил. Слушай, не перейти ли нам на недельные дежурства, чего мотаться туда-сюда каждый день? У тебя и на ровном-то месте кружится голова, где тебе выдержать такие американские горки. Анн на тебя жалуется. Она тобой недовольна. Говорит, что ты вечно молчишь, занят своими мыслями. Обо мне этого не скажешь. Я разговариваю. Действую. Живу. Ясно?
Он наклонился к Эвальду. Эвальд наклонился к нему. Они долго изучали друг друга, и у обоих возникло чувство, что другой мертв, что он—лишь отражение в зеркале, они одновременно протянули правую руку и коснулись друг друга. Так они сидели одну секунду. Неожиданно Двойник схватил кисть Эвальда и укусил его за большой палец. Эвальд вскрикнул от боли. Он зажал палец, на ковер упало несколько капель крови.
— Ты что? — прошептал он.
— Хотел убедиться, что ты живой,— невозмутимо ответил Двойник.
Он встал и надел пальто. Достал из левого кармана жевательную резинку и положил себе в рот. Эвальд пососал ранку на пальце, а когда Двойник, повернувшись к нему спиной, открыл дверь, осторожно вытянулся на кровати. Он лежал опустошенный, разбитый и слушал, как тишина, подкравшись, остановилась у запертой двери. Далеко за окном слышался неясный городской шум. Похоть, подумал Эвальд, и глаза его закрылись. Почему у него в голове всплыло именно это слово, Эвальд не знал. И тут же его губы тихо произнесли:
— Господи.— Потом повторили:—Господи.
Вокруг царило безмолвие. На улице зажглись фонари, за гардинами медленно двигались тени. В дверь тихонько постучали. Эвальд не ответил, и дверь медленно открылась. В комнату осторожно скользнула Серая Мышь, остановилась и посмотрела на Эвальда.
— Ваш брат сказал, что задаток уплатите вы.
Она протянула ему счет, в темноте Эвальд не мог разобрать цифру. Хозяйка быстро вернулась к двери, и под потолком вспыхнула огромная хрустальная люстра— как это он не заметил ее раньше? Хозяйка склонилась над Эвальдом так низко, что чуть не упала на него. Ее волосы распустились и скрыли лицо — безмолвный серый водопад.
— Нет! — вскрикнул Эвальд и отпрянул назад, она подняла свое равнодушное, пустое лицо, и он узнал в ней Анн — это была старая, алчная, иссохшая и безобразная Анн, и она смотрела на него большими блестящими глазами. Он откинулся на подушку и зажмурился, сейчас его могли спасти только сон и молчание. Он едва расслышал ее слова:
— Я еще приду.
Она тихо вышла, прикрыв за собой дверь, ее шаги, словно частые удары сердца, словно удары пульса, насквозь пробивали тишину, оставляя крохотные красные следы с каплями крови. Он лежал не двигаясь, потом приподнялся, спустил ноги и сел, вглядываясь в темноту, в отсвет уличных фонарей. На тумбочке блеснул стакан с водой, Эвальд залпом осушил его. Неожиданно зазвонил телефон.
7
Плотная воинственная фигура Вернера Флака заняла место между двумя изящными стульями «чиппендейл». Слева от него стояла его жена, по прозвищу Гусыня, в цветастом платье и новом темно-рыжем парике. Она держала орхидеи, которые, казалось, вот-вот вырвутся и улетят. Справа от Шефа — он, как всегда, был в голубом смокинге — стоял его сын Робби — неудачник, которого Эвальд знал еще в ту пору, когда они, мальчишками, совершали набеги на фруктовые сады вокруг Солнечного Зайчика, летней резиденции Флаков. Робби, в свитере и мятых вельветовых брюках, своим обликом напоминал отца. Выражение лица у него всегда было хмурое— из чувства солидарности с простым народом. Робби был радикалом и художником. Его полотна в духе критического реализма показывали жизнь, которую Робби знал только понаслышке, он не опровергал слухов о своем якобы пролетарском происхождении, о детстве, прошедшем в нужде и лишениях, и превратился в этакого доморощенного борца за справедливость, готового отпра-виться на штурм Капитала. Пьяный, он имел обыкновение со слезами в голосе объяснять Эвальду, сколько зла приносят деньги его отца. Эвальд усталым голосом (поскольку тема была избитая) предлагал отдать презренный металл нуждающимся, дабы поддержать дело революции. Робби это задевало за живое, и он возражал, что успешно бороться против капитализма можно только с помощью крупных накоплений, так сказать изнутри. Он был полной бездарностью, и это не было тайной для его многочисленных единомышленников, благодаря чему Эвальд лишь укреплялся в мысли, что все на свете фальшиво и ненадежно. Вся обстановка флаковского дома свидетельствовала о богатстве и фальши. Стильная мебель была искусной подделкой, а сам Вернер Флак—дешевой копией с американского миллионера: хвастливый, высокомерный и скупой. Под коротко остриженными волосами вырисовывался массивный череп, который можно было сравнить разве что с большим валуном. Наверно, в глубине души Дядюшка Флак оставался ребенком, и ребенок этот плачет о том, что не может вырваться из своей тюрьмы, думал Эвальд, медленно пробираясь сквозь толпу к виновнику торжества, чтобы пожать его мягкую ладонь. Если бы еще Дядюшка Вернер самостоятельно добился успеха, а то ведь он получил в наследство все состояние своего отца, кроме отцовской честности. Мимо поплыли серебряные подносы с шампанским; верные служанки в белых фартучках, таких крохотных, что их назначение оставалось для Эвальда загадкой, прокладывали себе путь между крупными и мелкими акробатами делового мира-—в воздухе слышался звон золотых монет. Зачем я здесь? — подумал Эвальд. Что сейчас делает Тот Человек? Эвальд вдруг представил себе, как Тот страстно набрасывается на бледную Анн; на лбу у Эвальда выступил холодный пот, и он, словно утопающий за соломинку, схватился за бокал с шампанским, осушил его и потянулся за новым. Эвальда оттеснили в угол, неожиданно взгляд его упал на декольте Лилли; то, что он увидел, скорее напоминало ягодицы, чем грудь. Он уже не раз думал об этом сходстве. Но только сейчас четко сформулировал свою мысль. С удивлением Эвальд услыхал, что высказал это соображение вслух. Взгляд Лилли остекленел — казалось, ее глаза хотят пригвоздить Эвальда к стене, потом послышался шорох вечернего платья, и она исчезла в толпе. Теперь Лилли ненавидит его. Лучше б он прикусил себе язык, пустоголовый болван! Но в голове Эвальда было не совсем пусто, там все время вертелась и топала нетерпеливыми ножками одна мысль, она сражалась с воображаемыми врагами и без конца показывала Эвальду Анн: то в халатике, то красный носик Анн и ее бледную кожу, то ее удивительные, теплые, карие глаза; Эвальд крутил головой и был похож на жирафа, глядевшего поверх зеленых зарослей на туземцев, которые безжалостно вытаптывали на своем пути всю траву. Жаль, Анн простудилась и не смогла пойти вместе с ним. Эвальд не очень верил в ее простуду, наверно, у нее были другие, более серьезные причины, о которых она помалкивала: теперь у них появились секреты друг от друга. И все из-за Того Человека. Эвальд вдруг обнаружил, что стоит лицом к лицу с Робби и тот хлопает его по спине — Робби бессознательно перенял жест коммерции советника Вернера Флака.
— Как поживаешь? Как здоровье, как любовь?
— А как поживает Борьба с Капиталом?
— Взорвать бы сейчас все это сборище к чертовой матери!
— Это ты неудачно придумал, ведь ты и сам здесь, так что отправишься в преисподнюю вместе с авангардом капитализма. Как твоя живопись?
— На той неделе у меня открывается выставка в Красной Галерее — этюды из жизни рабочих.
— Где это ты видел рабочих? Может, у «Вернера Флака и К°»?
Робби снисходительно усмехнулся:
— Вот уж где настоящее мелкобуржуазное болото!
Он залпом осушил бокал с шампанским, у него был вид мальчика, пьющего на завтрак стакан молока. Эвальд вспомнил их детские игры. Далеко не всегда безобидные. Бедняга, подумал он о Робби, вечно им помыкают, командуют, угнетают, требуют то одно, то другое, тряпка. Совсем как я. Отсюда его вечное недовольство, его надоевшие теоретические битвы на баррикадах и непереваренная книжная чепуха.
— Нет, к черту, больше я здесь не выдержу! Пойду в библиотеку, идем со мной,— позвал Робби Эвальда и, словно буксир, начал прокладывать себе путь. Обходя Лилли, Робби вспыхнул, точно конфирмант, и Эвальд подумал, что ни разу не слыхал, чтобы Робби имел дело с женщинами. Может, он бесполый? Гладкий, как греческая статуя, и интеллекта у него не больше, чем у статуи. Эвальд не спускал глаз с грязно-красного свитера, украшенного каймой и звездами, это был плод честолюбивых устремлений Гусыни, которые неизменно приводили ее к намеченной цели, будь то свитер или звание почетного доктора. Гусыня двинулась к Эвальду, ее руки распахнулись, словно крылья летящего альбатроса, ширина размаха была весьма внушительная.
— У тебя такой вид, будто ты присутствуешь на собственных похоронах,— сказала она, и ее добродушное, вульгарное лицо расплылось в улыбке.
С другого конца зала за ними наблюдали заплывшие, блестящие глазки Дядюшки Вернера: он выжидал. Кто-то откашлялся, наступила тишина, и одна за другой полились поздравительные речи, бесчисленные корзины цветов означали, что наступил апофеоз торжества. Было здесь множество и небольших статуэток, и хрустальных ваз, и ящичков с сигарами, и поздравительных адресов, переплетенных в натуральную кожу, и огромнейшая бутыль шампанского, с которой Вернер не мог справиться сам и поманил к себе Эвальда:
— Ну-ка, открой!
Эвальд в жизни не видел таких бутылей, она напоминала пушку времен первой мировой войны. Он принялся за нее, и разговоры, возобновившиеся было после торжественных речей, смолкли — публика наблюдала за Эвальдом. Он сорвал металлическую печать, снял с пробки проволочную обмотку, но проклятая пробка не поддавалась. На помощь Эвальду пришел Вернер Флак, теперь они вдвоем взялись за бутыль, это была смешная борьба со стихией, с законом всемирного тяготения и законом подлости—наконец пробка выстрелила в люстру, и, обдав Гусыню и ближайших гостей, из горлышка забила такая мощная струя, что казалось, в бутыли скоро ничего не останется. Эвальду удалось повернуть горлышко в сторону, словно это было не горлышко, а брандспойт, и последние капли оросили густой бобрик на голове Дядюшки Вернера, от чего он засверкал, как трава после дождя. Гости бросились врассыпную, будто спасаясь от бомбежки. Гусыня в мокром цветастом платье кинулась прочь, на мгновение Дядюшка Вернер и Эвальд остались с глазу на глаз; и Эвальд почувствовал, что губы у него растягиваются в улыбке. Он ничего не мог с собой поделать. Истолковать улыбку Эвальда можно было только как злорадство. Вернер Флак побагровел от гнева, шатаясь, отступил назад, словно собирая силы для атаки, потом ринулся вперед, но поскользнулся, ухватился за стол и дернул на себя скатерть, скатерть поехала со стола, а вместе с нею все, что на нем было: мощная и неудержимая лавина посуды, бутылок, графинов, сандвичей, закусок, сыров; гости и верные служанки с визгом отскочили. В центре этого урагана, тяжело дыша и отфыркиваясь, лежал коммерции советник Вернер Флак, словно покойник на гражданской панихиде, принимающий последние почести, но глаза его не угасли, просверлив насквозь потолок, они, точно ледяные иглы, прожектор или луч лазера, искали и нашли наконец свою жертву; издав протяжный громкий вопль, военачальник дрожащей рукой указал на Эвальда. Эвальд начал медленно отступать, все происходило как бы во сне, и, подобно водам Красного моря, разделившимся перед детьми Израиля, гости разделились перед Эвальдом, который пятился к двери, точно покидал приемную президента или королевский зал для аудиенций. От голоса Вернера Флака задребезжали оконные стекла и люстра, лампочки замигали, это был боевой клич Царя Джунглей, от которого кровь стыла в жилах. Из глотки Эвальда, перехваченной словно осиная талия, помимо его воли вырвался тонкий слабый крик, это была жалкая пародия на знаменитый крик Тарзана: Аоаоаиаааа! Аоаоаиаааа! Не спуская глаз с Царя Джунглей, Эвальд со своим сдавленным воплем скрылся в непроходимых зарослях, иными словами—в библиотеке, он влетел туда и захлопнул за собой дверь, погони не было слышно.
— Что там за переполох?—спросил Робби у него за спиной.— Можно подумать, началась третья мировая война.
— Спаси меня! — Эвальд кинулся к нему и схватил его за руку.— Дядюшка Вернер хочет меня убить!
Ему казалось, что лицо сползает с него, как маска, у которой лопнула резинка, мальчишки бросились вверх по лестнице в комнату Робби, захлопнули дверь и притаились. Эвальд будто вернулся в детство, где не было ничего невозможного и где еще витали герои любимых книг. Здесь стояли модели самолетов, электрическая железная дорога, на стенах висели фотографии красоток пятидесятых годов—невероятно! Эвальд и Робби, как дети, окунулись в свой забытый и призрачный мир, а вокруг бегали, кричали, весь дом скрипел, грохотал, ходил ходуном, постепенно освобождаясь от криков и жизни, наконец все затихло. Эвальд заметил, что крепко держит Робби за руку. По щекам у него текли слезы. О чем он плакал? О том, что все сложилось не так, как надо? О том, что и это пройдет, рассеется, как рассеивается и забывается сон? В детской Революционера царил покой, невинный и безмятежный, с кровати Робби на Эвальда мертвыми коричневыми глазами смотрел большой, набитый опилками медведь. Робби достал красный носовой платок и протянул его Эвальду, тот высморкался и вернул платок. Они понимали друг друга без слов. Дверь отворилась, и на пороге черной тучей вырос Дядюшка Вернер. Эвальд и Робби смотрели на него: они на него—снизу вверх, он на них—сверху вниз. Вдруг он весь затрясся, глаза у него закрылись, а из глотки, точно поток раскаленной лавы, хлынул смех, ему пришлось опереться на Гусыню, стоявшую у него за спиной,— Империя, опирающаяся на плечо Богини Войны,—из-за туч выглянуло солнце и озарило эту сцену, придав ей дух Монументальности, Величия и Вечности.
8
Вопреки обыкновению в воскресенье ярко светило апрельское солнце и голубел высокий небесный свод, ранняя весна заставляла ветер тихонько звенеть в вершинах деревьев и осыпана море блестками. Сверкал белый шпиль Свеаборга, паром совершал свой привычный путь туда и обратно. С холмов Бруннспарка перед Эвальдом открывалась морская даль, он видел чаек, которые взмывали в небо, камнем падали вниз и кружили над водой; видел гуляющие парочки, и его охватило горькое чувство одиночества. Он проснулся в пансионе «Гельвеция», вернулся в этот обшарпанный, провонявший табаком мир грязи, спертого воздуха и бедности; Эвальд с трудом открыл окно, сорвал с него пожелтевшие полосы бумаги, толкнул заскрипевшую створку и впустил в комнату кусочек голубого неба. При свете дня комната выглядела еще отвратительней: постель напоминала поле битвы, грязно-серый ковер со стилизованными розами безуспешно пытался прикрыть затоптанный, неровный, черный пол; дурацкий шкаф с мутным зеркалом, продавленное кресло, круглый стол на тщедушных львиных лапах, покрытый длинной белой скатертью не первой свежести, торшер в капоре с бахромой — все было чужое, бессмысленное и зловещее. Что же это за жизнь? Ему нестерпимо захотелось все исправить, прекратить эту глупую двойную игру и позвонить Анн. Но не успел он приступить к осуществлению своего плана, как зазвонил телефон. Эвальд снял трубку, ему никто не ответил, слышалось лишь чье-то сдерживаемое дыхание.
— Я знаю, что это ты! — крикнул Эвальд.— Кто еще может позвонить мне?
— Простите, я ошибся номером.
Трубку положили. Зачем же в таком случае позвонивший так долго молчал и дышал в трубку? Эвальд быстро оделся, умылся и выбежал на улицу; он шел бесцельно, к морю, вышел на набережную, зашел в Бруннспарк и долго кружил по нему. Люди чинили лодки, воздух был на диво мягкий, среди берез притаились бледные, фиолетовые тени, большая белая лодка бесшумно скользила по воде к причалу. Если я уеду, подумал Эвальд, брошу все на Того Человека и исчезну, что я от этого выиграю? Я ведь и так уже исчез. С таким же успехом я мог бы и умереть, думал он, солнце затопило его глаза и проникло в самую сокровенную глубину его отчаявшейся души. Он откинулся на спинку скамьи и смотрел вдаль. На Угнсхольмен было пустынно, на пляже виднелись островки грязного снега, мимо Эвальда текла толпа гуляющих. Я невидимка, ничтожество: Другой спит с моей женой, ест мою пищу, откусывает от моей жизни, да еще запивает моим питьем. Другой пытается вложить свои слова в мои уста и говорить моим голосом. Этот Исав, этот ряженый, этот дьявол! Мысли Эвальда все больше принимали библейское, ветхозаветное направление: он видел себя жертвой, принесенной во имя жизни Анн и Того Человека, а над ним реял грозный, чернокрылый, карающий бог. Эвальд запрокинул голову и посмотрел в небо; оно было голубое, там в невидимых воздушных потоках парили белые чайки, мир возрождался. Эвальд перебирал в памяти события последних дней. Его жизнь как будто изменила направление, вроде товарного вагона, прицепленного не к тому составу, и вот этот тяжелый вагон катится все дальше и дальше: от скандала к скандалу, от кошмара к кошмару. Неужели это происходит с ним наяву? Что действительно пережил Тот Человек, а что наврал? Тот Человек, который был Эвальдом,— что знал Эвальд о нем? У них была общая жизнь, но с таким же успехом они могли родиться на разных планетах. Может, Тот Человек инопланетянин? Может, он посланник сатаны? Явившееся из космоса астральное тело, принявшее человеческий облик и направленное на Эвальда, чтобы уничтожить его? Может, это лишь начало великой борьбы и новых превращений? А вдруг... вдруг большинство людей, проходящих мимо,— это материализованные тени, двойники? А вдруг президент... Эвальд закрыл глаза и попытался успокоить-ся. Глупости, думал он, чепуха! Завтра начинается моя неделя дома. Моя настоящая жизнь. Я сделаю Анн сюрприз, поведу ее в ресторан, буду более нежным, более внимательным, чем всегда, более любящим, завоюю ее доверие, а при случае заведу разговор о двойниках; я пойду в библиотеку и прочту все, что написано на эту тему, найду выход, все улажу и тогда, вольный, как чайка, умчусь вместе с Анн на все лето, а Тот Человек испарится, исчезнет, превратится в воспоминание, в сон, в точку...
Эвальд открыл глаза и увидел пару, которая приближалась к нему, сердце бешено забилось, от страха он втянул голову в плечи: к нему приближались Анн и Тот Человек. Как они здесь очутились? На чем приехали? Эвальд поднял воротник, ему хотелось провалиться сквозь землю, нет, лучше все сразу выяснить, броситься им навстречу и крикнуть:
— Вот я! Он обманщик! Настоящий Эвальд — это я!
Но вместо этого он съежился на скамейке и повернулся к ним спиной, он слышал, как они остановились и Тот Человек сказал:
— Скоро мы уедем, скоро мы сядем на белый корабль и бросим здесь все как есть. Что ты на это скажешь?
Эвальд услышал ее смех, ее милый, нежный голос что-то прошептал в ответ, Эвальд не разобрал, что именно, его она не заметила. Они прошли мимо, Анн была в демисезонном пальто из толстого твида, Тот Человек красовался в новой куртке Эвальда, на ногах у него были ботинки Эвальда, свои лживые глаза он спрятал за темными очками; на мгновение Эвальду показалось, что Тот Человек обернулся, узнал его и издевательски помахал ему рукой; а может, он просто что-то показывал Анн, крепко прижимая ее к себе; у Эвальда перед глазами поплыли красные точки. Он крался за ними, перебегая от дерева к дереву и затаив дыхание, он боялся потерять их из виду, следил за каждым их движением, за каждым шагом. Это преследование принесло ему неизведанное наслаждение, которое согрело его. Эвальд шел за ними мимо здания Таможни к Рыночной площади, он холодел при мысли, что его могут заметить, и сгорал от желания обнаружить себя. Солнце сверкало на фасадах домов и выбивало золотые искры из купола Успенского собора. Анн и Тот Человек остановились на трамвайной остановке. Эвальд почувствовал себя смертельно усталым. Он повернулся, безлюдными улицами добрался до «Гельвеции», открыл свою дверь — затхлый воздух больше не смущал его,— снял пальто, аккуратно повесил его и лег на кровать, завернувшись в белое покрывало, он был похож на кокон. Мой саван, подумал он прежде, чем глаза его закрылись и он уснул, измученный,— не человек, а только оболочка от человека, под которой скрывались пустота и отчаяние. Эвальду приснилось, что он едет в трамвае вместе с Анн, она держит его под руку, ее рука ничего не весит; он что-то говорит ей и вдруг видит, что рядом с трамваем кто-то бежит, то и дело обращая к Эвальду свое бледное лицо, на этом лице нет ничего, оно совершенно пустое.
— Вы еще не в нокауте,— внятно произнес пастор Нурён. Дюжина лиц повернулась к нему на белых подушках, беззубые рты открылись, костлявые руки протянулись к пастору, кое-кто продолжал похрапывать, а в дверях букет сестер милосердия склонился головками друг к другу. Ромашки, подумал Эвальд, и ему стало весело.
— Вас еще ждет последний раунд! Левый хук, правый хук — вас ждет матч с Богом! Вы уклоняетесь от ударов, входите в клинч, Великий Судья разводит вас, но вы снова бросаетесь в бой! И наконец, побежденные, являетесь пред око Божие...
— Какое оно, это око? — подумал Эвальд. Может быть, голубое? И кто такой Великий Судья, если бог дерется на ринге? Один из больных сел на кровати и что-то крикнул, его не поняли, он кричал, как попугай, смеялся и кивал своей усохшей головкой; за спиной у пастора виднелся кусочек голубого неба и крыша соседнего корпуса больницы— там, наверно, лежали старые женщины. Пастор был во власти вдохновения, он раскачивался из стороны в сторону, его маленькие белые кулачки так и мелькали, он уклонялся от ударов — нет, спасения не было: его ждал нокаут.
— Ииииии! — раздалось на одной из постелей — кто-то зашелся в кашле; кашель ударил в голые стены палаты, и сестры бросились на помощь; почти у каждой кровати на тумбочке стояли тюльпаны. Закончив осмотр нокаутированных, лежавших на кроватях, поставленных в два ряда, пастор прошел мимо Эвальда. Эвальд поспешил к кровати со своим букетом тюльпанов. Дядя Франс подмигнул ему голубым глазом и улыбнулся:
— А, пришел! Ждал у ринга?
Эвальд кивнул.
— Здесь летают какие-то птицы, изгадили мне всю постель и одеяло,— пожаловался дядя Франс.— Смотри!
Его худая рука стала водить по одеялу, Эвальд как завороженный следил за ее движениями, неожиданно он схватил и остановил эту руку, старик не отрываясь смотрел Эвальду в глаза.
— Я не хочу здесь лежать!
Дядя Франс был последним родственником Эвальда со стороны отца, а Эвальд был его единственным наследником. Когда дядюшка уснет вечным сном, Эвальду достанутся тридцать толстых альбомов со спичечными этикетками, а также вся движимость из дядиной прокуренной однокомнатной квартирки: мебель красного дерева, старое пианино, шесть метров переплетенных книг и кровать. Эвальд отгонял мысли об этом дне. Дядя Франс лежал в больнице уже пять лет, и Эвальд знал всех больных. Многих уже похоронили, их место заняли другие. Это была огромная фабрика смерти, пересадочный пункт, зал ожидания; Эвальд склонился над дядей Франсом, поправил одеяло. На соседней койке сидел больной с колючими главами, очень похожий на хорька, и озирался по сторонам:
г
— Тени тащат они за собой, свои собственные тени, но НА страданья вознаградятся вдвойне!
Он радостно, как заговорщик, кивнул Эвальду, и тот кивнул ему в ответ. Внезапно взгляд человека застыл, он мю-то увидел за спиной Эвальда. Эвальд обернулся: к постели дяди Франса приближался Тот Человек. Чудовищно! Эвальд обеими руками ухватился за железную перекладину кровати, пытаясь взглядом испепелить пришельца. Из жилистого горла человека-хорька вырвался странный свистящий звук, резкий и пронзительный; палата наблюдала за ними. Дядя Франс обратил улыбающееся лицо к посетителю, который склонился над ним и спросил:
— Как поживаешь, старая галоша?
У дяди Франса забегали глаза, рука неловко поднялась к голове, он попытался отодвинуться. Двойник смотрел на него взглядом заклинателя змей, притворяясь, что не замечает Эвальда; облаком смерти навис он над кроватью дяди Франса. Человек-хорек позвонил в колокольчик, пришла сестра, на которую Эвальд давно поглядывал.
— Что тут стряслось? — спросила она.
Больной указал на Эвальда и его Тень:
— Это же тень. Он ненастоящий! Смотрите! Ну, что я говорил? Кто был прав?
Глаза у человека-хорька широко раскрылись, веки дрожали, лицо пошло пятнами. Сестра повернулась к Двойнику:
— Где тень? Это господин Эвальд...
Тот улыбнулся своей лисьей улыбкой, Эвальду захотелось крикнуть:
— Это я Эвальд, а не он... Он...
— Да, кто же он? — спросил Двойник, улыбка как бы приклеилась к его насмешливому, чувственному рту.— Кто же как не брат-близнец, которого ты не желаешь признавать?
Дядя Франс лежал молча, закрыв глаза рукою, другой рукой он шарил по одеялу, пытался укрыться с головой, сестра засмеялась и, повернувшись к Хорьку, погладила его по голове, чтобы успокоить,— в палату словно заглянуло солнце, старики, те, что еще ценили красоту, улыбались сестре и протягивали к ней руки. Фальшивый Эвальд взял у соседней койки стул, сел на него и склонился к Эвальду:
— Как думаешь, много у старого хрыча денег в банке? Как-никак тетя Этель была Шернрёф или что-то в этом роде, так что денежки у нее водились, а?
Он приблизил лицо к Эвальду, изо рта у него дурно пахло. Эвальд отодвинулся, положение становилось смешным. Ловким движением Тот Человек сдернул одеяло с лица дяди Франса.
— Он — мой двойник, а я — его. Ясно?
Голубые глаза дяди Франса выражали испуг, даже ужас, он смотрел в потолок, голова его дергалась на подушке. Эвальд резко поднялся, Двойник — тоже и последовал за Эвальдом, взял его под руку, так они и шли по всем коридорам, точно скованные одной цепью; Эвальду казалось, будто его ведут на суд, на позор, на гибель.
— Как тебя угораздило явиться сюда?—с трудом спросил он.
— Я позвонил Анн, и она сказала, что ты здесь.
— Позвонил Анн?!
— Да, я изменил голос.
— Зачем ты пришел сюда?
— Да уж, конечно, не ради старого хрыча. Мне нужны деньги, я на мели.
— Ты же получил половину моей зарплаты, больше у меня нет!
— Только тихо! — Двойник стиснул плечо Эвальда — какое оно слабое, хрупкое. Тем временем его свободная рука нырнула во внутренний карман Эвальда и выудила оттуда бумажник, с улыбкой он кивнул проходившим мимо сестрам, те прыснули от смеха, остановились и посмотрели вслед двойникам. В коридоре пахло мастикой и еще чем-то сладковатым, в окна глядел ясный, холодный день, большой лифт, подрагивая, медленно опускался вниз; Двойник сунул обратно бумажник Эвальда и дружески похлопал его по животу; Эвальд обратил внимание на его желтые пальцы—заядлый курильщик. Только сейчас он это сообразил, у него не укладывалось в голове, как могла Анн... Додумать он не успел, они уже вышли из больницы — в синеватой ранней весне не было ничего весеннего: ледяной ветер гулял по голой замерзшей земле.
— Корпуса, корпуса, высокие старинные окна, и за каждым окном старики, ждущие своего часа, одни лежат с закрытыми глазами, другие — с открытыми, щеки запали, вокруг г лаз чернота. Эвальд с Двойником шли бок о бок.
- Вчера я ночевал у Лилли,— сказал Тот Человек.— Тебе не мешает об этом знать. Она осталась мною довольна.— Он глянул на Эвальда.—Ты знаешь, что она собирается замуж за Робби?
Эвальд шел, опустив глаза в землю, в кустарнике пели птицы — интересно, какие? Он отгородился от внешнего мира, замкнулся в себе и не отвечал—может, его молчание заставит Того исчезнуть? Как бы не так: Двойник сел н автобус вместе с Эвальдом, склонился к его уху и стал нашептывать подробности минувшей ночи, провожая глазами всех входящих и выходящих. От него ничто не могло укрыться. Эвальд поднял глаза: на Двойнике была старая, смешная, заношенная тирольская шляпа. Эвальд не удержался и потрогал свою — точно такая же, только не заношенная, ведь он купил ее совсем недавно, она еще не могла так выглядеть! Рассматривая Двойника, Эвальд находил в нем новые и новые отталкивающие черты: мешки под глазами, бледная кожа и коварная усмешка— псе это вызывало омерзение. На плаще у Двойника не хватало пуговицы, на ее месте болтались обрывки ниток. Эвальд перевел взгляд на собственный плащ — у него тоже не хватало пуговицы и висели нитки. Он и забыл, что пуговица оторвалась. Он словно падал в безвоздушном пространстве, словно, беззвучно крича, становился все меньше и меньше. Скрипнув тормозами, автобус остановился, они вышли. Двойник по-братски хлопнул Эвальда но спине и, насвистывая, зашагал прочь, а Эвальд остался один на большой площади.
10
— Я все думаю о тебе и удивляюсь,— сказала Анн.— Женаты мы с тобой недавно, и тем не менее мне кажется, что я достигла определенной вехи, во всяком случае, той точки, когда следует остановиться и подумать. Когда мы поженились, мне казалось, я знаю тебя. Ты был застенчивый, даже замкнутый, но очень искренний. Казалось, ты веришь мне, я — тебе, мы понимали друг друга без слов. Я была счастлива, если надежность и уверенность можно назвать счастьем...
— Счастье, наверно, что-то большее, — сказал Эвальд. — Счастье — это когда у тебя не подрезаны крылья, когда ты не связан, не скован, когда ты волен и свободен рядом с другим. Ты знаешь, я испытал это с тобой. До тебя я этого не знал. В детстве меня всегда заставляли придерживаться различных образцов. И я без возражений придерживался их, но это была дрессировка. Когда отец умер и у матери уже не было сил командовать мною, я почувствовал, что постепенно освобождаюсь. Сестра уехала за границу, у меня же на это не было ни сил, ни желания. Я перебивался кое-как, пока не встретил тебя. Чтобы обрести свободу, я прибегал к обычным уловкам: читал, приглядывался к жизни, ходил в театр, в кино, старался не распускаться, бегал в Рабочий институт, занимался на курсах английского языка, я даже ездил в Копенгаген и пьянствовал там и вернулся если не более умным, то по крайней мере более свободным. Я так долго ждал встречи с тобой, что, увидев тебя, сразу понял: это она.
— Да, ты сразу вызвал во мне доверие,— сказала Анн.— Наверно, потому я и привязалась к тебе. Может, тебе нужна была сильная женщина, которая бы мудро и решительно руководила тобой? Здоровая женщина, она бы заставила тебя действовать более уверенно. Но я хоть не скрывала, что не такая. Я слабая, у меня порок сердца, это налагало на тебя особые требования: никаких потрясений. Как избегают потрясений? Как можно жить в стороне от всего? Стоит ли платить такую цену хотя бы и за жизнь? Я старалась, чтобы в нашем доме мы всегда могли найти укрытие, вернее, не укрытие, просто покой, чтобы мы могли быть здесь самими собой, муж да жена—одна душа, как любила говорить моя мудрая мама. Одна душа—так и было весь первый год, вплоть до недавнего времени. Помнишь наши долгие прогулки? Вместе мы видели лучше, чем порознь,— разве это не признак родства душ? Мы могли бродить молча, могли даже пойти в разные стороны, но потом обязательно сходились и рассказывали друг другу, что видели. Наша жизнь была не очень бурной, но она была такая душевная... да, пожалуй, это самое подходящее слово: душев-ная.
Анн опустила голову, закрыла глаза рукой, и Эвальд услыхал, что она всхлипнула, из-под пальцев выкатилась слеза и упала на скатерть. Эвальд смотрел, как она упала; он обхватил руками голову Анн.
— Вот увидишь, все будет хорошо, это пройдет, я просто переутомился на работе, поэтому я такой странный, сам себя не узнаю...
— Странный—это слишком мягко сказано,— проговорила Анн.— На прошлой неделе ты бесновался как дикий зверь, что я чего-то не купила и чего-то не сделала, но все время молчу, что шеф у тебя свинья, а Робби...
— Робби — неудавшийся художник, ничтожество, но я псе равно люблю его,—сказал Эвальд.— Он — друг детства. Ты бы видела его комнату: это комната мальчишки. Робби прячется там, там он бывает самим собой в промежутках между сочинением революционных стихов.— Эвальд вдруг услышал свой голос как бы со стороны. Отчаянный страх сдавил ему горло: вечер, темнота за окном, а вокруг — грозная, настороженная тишина.
— Мне показалось, ты его ненавидишь,— сказала Анн.— Помнишь, он заглянул к нам на прошлой неделе и рассказывал о ваших приключениях на юбилее Вернера— ты еще наорал на него? Может, ты не помнишь, потому что был пьяный? Ты послал к черту Робби и все его семейство, я даже не могу повторить все, что ты говорил. Неужели ты ничего не помнишь?
Анн смотрела на него, в него, он попытался спрятаться от этого взгляда, словно мышь от кошки. Ее губы, казалось, произнесли «где ты?» и «кто ты?», может, он ослышался, неверно истолковал ее молчание, ее взгляд — взгляд человека, боящегося потерять любимое существо? Чтобы избежать этого взгляда, Эвальд склонился к ней, закрыл глаза и стал покрывать поцелуями ее губы и мокрые от слез щеки, он гладил ее по волосам и бормотал бессмысленные слова; Анн не отзывалась на его ласки, наконец она отстранилась и сказала:
— Дело не в том, что ты все забываешь — я постоянно замечаю, что ты не помнишь о собственных поступках,— а в том, что ты изменился, вернее сказать, меняешься. Когда мы поженились, у меня была иллюзия, что все так и останется без изменения: все вещи в нашем доме будут вечно стоять на своих местах и наше чувство друг к другу не изменится, может, станет глубже, это так, но не изменится. Однако в последнее время наша жизнь как-то пошатнулась, разве ты сам не видишь, что во всем появилась какая-то ненадежность, двусмысленность, я не узнаю даже самое себя... Иногда я смотрюсь в зеркало и думаю: я ли это? Кто я? Да я ли отдавалась вчера любви так же грубо, по-животному, как он, подверглась унижению, унизила себя сама, но при этом где-то в глубине души наслаждалась этим? Меня мучает невыносимое одиночество оттого, что я больше не принадлежу себе... Ты меня понимаешь? Понимаешь? Я уже пыталась говорить об этом с тобой, но ты не слушал меня, смотрел куда-то вдаль. Посмотри же на меня сейчас. И ответь честно. Что я для тебя значу?
— Все,— ответил Эвальд.— Наберись терпения. Если тебе кажется, что я тебя унижаю, помни, что я унижаю себя. Со мной что-то происходит, я должен в этом разобраться, мне так часто хочется рассказать тебе обо всем, но я боюсь... Боюсь, что не смогу объяснить, мне кажется, я сплю и мне снится кошмар.
Но Анн больше не слушала. Она откинулась, лицо ее побелело и стало совсем прозрачным, она схватилась рукой за бок и дышала с трудом, Эвальд кинулся к ней, попытался ее поднять, она была как мертвая. Он отнес ее в спальню, все это было так нелепо, что напоминало фильм, в котором убийца пытается куда-нибудь спрятать свою жертву; странные мысли, словно испуганные золотые рыбки, метались у него в голове: только бы она не умерла! Она не должна умереть! Это я виноват! Он уложил Анн на постель, стал искать у нее пульс, не нашел, пульса не было, лишь на шее у нее билась голубая жилка. Анн лежала приоткрыв рот, губы посинели — Эвальд бросился к телефону. Вызвав «скорую помощь», он поспешил обратно, укрыл Анн пледом, попробовал заговорить с нею, но не получил ответа; здесь было страшно: стены, мебель, лампы, безмятежно горевшие в кухне и в гостиной, не принадлежали ему, его собственная жизнь не принадлежала ему, и виноват в этом был Двойник! Он все это украл, разбил вдребезги и растоптал! В приливе ненависти к самозванцу Эвальд с любовью прижал к себе жену, вдалеке, за темными лесами прогудела сирена «скорой помощи», пошатываясь, он встал, натянул на себя плащ, умылся; в зеркале он увидел чужое лицо, лицо Того Человека смотрело ему в глаза, страшное неживое лицо, бегущее собственного отражения.
В машине, по дороге в город, Эвальд держал Анн за руку, машину трясло и подбрасывало, Эвальду казалось, что каждый толчок бьет Анн по сердцу, что это он сам бьет ее. Конец, думал он, сам не понимая, что имеет в виду. Конец, конец—ерунда, ничего не кончено, они не договорили, все кончено, все пошло прахом: освещенные витрины, которые проносились мимо, бесформенные тени, спешившие домой или куда-нибудь развлекаться. До чего же они темные, волосы Анн, она приоткрыла глаза, и Эвальд чуть не вскрикнул от радости, он приложил ухо к ее губам — дыхание было теплое, она жива: массаж сердца, кислород, врачи, приборы, которые она только сейчас заметила, помогли ей выжить, они сделали свое дедо, теперь он сделает свое, он посвятит этому всю AH »ш», никто, кроме него, не сможет этого сделать...
Никто, кроме того, кто холодными глазами разглядывает ее лицо, морщинки на ее шее, сжатые руки, тень боли и праха, скользнувшую по лицу, точно холодный свет у уличных фонарей. Никто, кроме того, кто занял его тело и смотрел его глазами, сохранив собственный взгляд. Он шел за носилками по холодным длинным коридорам, сидел на стуле, увидев на столике газету, стал читать в ожидании; неужели я—Тот Человек? — подумал он. Но ему все было безразлично.
11
Над коробками домов Цветочного Венка раскинулось голубое небо. На дорожке, где еще белели остатки снега, мелькали запыхавшиеся воскресные бегуны, на деревьях и в рощицах неистовствовал птичий хор. Даже в душу Эвальда пробился луч этого бесплатного для всех коммунального света. Свет проник ему прямо в сердце, когда он дремал, сидя на балконе, закутавшись в большой клетчатый плед. И согрел его; однако в мыслях Эвальда по-прежнему царили мрак и смятение. Он видел то себя, то своего Двойника, и они тщетно искали выход из этого лабиринта. Эвальд ощупью продвигался по черным тупикам, иногда у него вырывался крик, которого никто не слышал. Он был в отчаянии; если он наталкивался на Того Человека, один из них сразу же убегал; потом они вместе искали выход, но вот Двойник, вопреки всем правилам, с воплем вырвался на свободу и исчез, Эвальд онемел, застыл и... проснулся; широко открыв глаза, он смотрел на солнце, пока из глаз не потекли слезы. Анн лежала в больнице, но дело уже шло на поправку, хотя врачи предупредили, что до полного выздоровления еще далеко. Эвальд сидел у ее кровати, они говорили мало, за них творили глаза. Они рассказывали о любви и о душевном родстве, иногда Эвальд и Анн тихонько беседовали о будущем, о путешествиях, которые они совершат, о ношах краях, которые они увидят; Эвальд приносил в больницу пачки ярких проспектов из бюро путешествий, и они рассматривали заманчивые фотографии отелей, пляжей, экзотических улочек и столов, заваленных яствами. Порой Анн со вздохом откладывала их в сторону и, откинувшись на подушку, закрывала глаза. Тогда Эвальд сидел совсем тихо и смотрел на нее, ломая себе голову над тем, как удержать Двойника за пределами больницы; часть заветных сбережений уже исчезла в пасти этого ненасытного искаженного подобия Эвальда, и Эвальд понимал, что деньги, накопленные с такой любовью, Двойник пустил на свои низменные удовольствия: на бары, ночные клубы, стриптиз и прочий разврат. Бог знает, думал Эвальд, какой славой пользуется Тот Человек в пансионе «Гельвеция», если там вообще интересуются своими постояльцами: странные звуки из соседних комнат убедили Эвальда в том, что «Гельвеция» — не совсем обычный и невинный пансион. Наглядное доказательство тому Эвальд получил неделю назад, когда, войдя в свою комнату, он обнаружил в постели Двойника с партнершей, которая при виде Эвальда издала вопль (это было поздно ночью) и, завернувшись в простыню, исчезла со сцены, подобно героине какой-нибудь оперы в духе Вагнера. Двойник, которому в это время следовало тихо и мирно почивать в целомудренной квартирке в Цветочном Венке, как заговорщик улыбнулся Эвальду своей дерзкой лисьей улыбкой и дал понять, что жизнь есть жизнь и воздержание годится не для всех. Он провел в «Гельвеции» ночь и утром отправился прямо в контору. Эвальд же остался, чтобы прибраться и почитать в тишине «Мысли» Блеза Паскаля; он наткнулся на эту книгу в городской библиотеке и теперь читал ее с огромным удовольствием. Он как раз дошел до раздела «Величие» и начал читать афоризм 210: «Величие.— Человек велик потому, что сумел создать столь образцовый порядок помимо своего желания», тут дверь в его комнату, где происходило постижение афоризмов великого мыслителя, распахнулась, и перед Эвальдом, извергая поток непристойной брани, явилась белая валькирия, участница ночной оргии; она обрушилась на Эвальда, обвиняя его в том, что вчера вечером он добавил ей в грог какой-то ядовитой дряни и затащил ее, невинную деревенскую девушку, в свою грязную постель, а потом ей, мол, привиделся Дьявол в раздвоенном образе: лишь две крупные бумажки, добытые в поте лица, успокоили невинную девушку — это была еще одна унизительная жертва на позорный алтарь Того Человека. Эвальд зажмурился от яркого света, он чувствовал, что его душа извивается, как наживка на крючке, и ее вот-вот проглотит омерзительная рыба. Этого нельзя допустить! Дико озираясь вокруг, Эвальд поднялся, солнце сверкало на крышах домов, безобразные фасады Оросали веселые отблески, ветерок шевелил ветви четырех сосен, растущих во дворе. Эвальд поглядел вниз, и у него, как всегда, потемнело в глазах. Кто-то позвал его снизу и помахал ему рукой, Эвальд махнул в ответ, прищурился, и сердце у него упало: он узнал Двойника, Тот невозмутимо шагал по дорожке. Эвальд повернулся спиной к весне и невидящими глазами уставился на уютную, но сейчас такую безжизненную спальню. Чайки насмешливо кричали у него за спиной, хлопнула входная дверь, он все еще стоял неподвижно. Двойник вышел на балкон, плюхнулся на стул, задрал ноги на перила и развалился, как большой похотливый кот, солнце пылало на его рыжей бородке.
— О-о-о! Какое небо! Ты заметил, как все изменчиво, жизнь не стоит на месте: то солнце, то снег— удивительно! Помнишь, что говорит по этому поводу твой Паскаль? «Часто самые глупые поступки оказываются самыми благоразумными из-за присущей человеку несобранности», афоризм 208. Что ты на это скажешь? Несоб-ранность тебе не присуща. Значит, какой вывод нам следует сделать? Что самые благоразумные поступки чаще всего оказываются самыми глупыми — посмотри на себя. Разве это не так? Ты все пытаешься убежать, бьешься головой об стену, хочешь спастись, тебе кажется, что за тобой следят—ведь ты сам говорил об этом Лилли, и напрасно—она ждала от меня новых излияний, и мне стоило большого труда прикинуться чувствительным, я не способен одновременно и на страсть, и на чувствительность. Либо одно, либо другое. А для тебя, судя по всему, одно другому не помеха—вот счастливое устройство! Знаешь, мне не хватает Анн. Я тоже простой смертный, одиночество тяготит меня так же, как и тебя, правда на другой лад. Я люблю покой и роскошь, хотя и не возражаю против обыкновенного, заурядного семейного счастья. События последних недель заставили меня о многом задуматься. И я пришел к выводу, что только деньги могут удержать меня вдали от Анн.
Он спокойно и пристально посмотрел на Эвальда. Эвальд спросил:
— Сколько тебе нужно, чтобы ты уехал? Скажем, на две недели, только не слишком далеко, на Бали или Багамские острова у меня денег не хватит, а вот в Европу?..
— Может, навестить в Швеции нашу любимую сестричку?— предложил Двойник с коварной ухмылкой.— Сколько прошло времени, а она все молчит о денежках, которые когда-то получила взаймы и забыла вернуть. Мы обходим этот вопрос братским молчанием уже несколько лет, не так ли? А ведь мы всегда—хотя и по-разному — были скуповаты, скажешь—нет? Даже стоя с Анн перед алтарем, мы не забывали приятную экономическую сторону дела — у нашей хрупкой новобрачной были акции, тяжесть которых превышала ее собственный вес. Насколько я понимаю, муж у сестрички состоятельный, а вот память не вполне. Может, съездить к ней и объяснить, что легкая добыча не должна отбивать память?
Двойник замолчал и потянулся, откинувшись на спинку стула.
— Я давал ей не в долг,— сказал Эвальд,— это был один из немногих подарков, которые я сделал за свою жизнь, и сделал я его без всякой задней мысли. Запрещаю тебе вмешиваться в это дело! Единственное, что в моих силах,— это отправить тебя в Лондон на две недели; беру на себя дорогу и гостиницу, остальное тебе придется доплатить самому. Я знаю, тебе хочется съездить именно в Лондон, верно? Уезжай, дай мне передохнуть, давай обдумаем наше положение и найдем какой- нибудь выход. Только, пожалуйста, никаких писем и открыток!
Эвальд с удивлением слушал самого себя: он говорил спокойно, уравновешенно; произнеся эту тираду, он по-чувствовал себя пустым, ясным и холодным, как весеннее небо над головой. Двойник тем временем поднялся и, опершись на перила, смотрел вниз.
— Вон топает наша общая тетя Ульрика—очевидно, ей захотелось навестить своего дорогого племянничка. Она уже в подъезде, бежать поздно. Предлагаю тебе спрятаться в ванной, тетку я беру на себя. Или, может, хочешь остаться? Но тогда поездка в Лондон вряд ли состоится! Решай! Эта старая карга чересчур чувствительна.
Неожиданно для себя Эвальд очутился в прихожей, на лестнице послышались тяжелые шаги, и раздался решительный звонок. Эвальд мгновенно шмыгнул в ванную и запер за собой дверь. Началась долгая приветственная церемония, преобладал бас тети Ульрики; властным тоном она потребовала у Двойника полного отчета о его жизни за последнее время; она спросила, как чувствует себя бедняжка Анн, справляется ли он с готовкой, и припомнила кое-какие нежелательные эпизоды из детства Эвальда, которые заставили его в ванной задуматься, не был ли виновником всех этих проделок Тот Человек — от этого предположения Эвальда пробрал озноб так, что у него застучали зубы. Удалившиеся было голоса снова вернулись, сильный рывок в дверь означал, что тете Ульрике понадобилось в ванную.
— Сегодня воскресенье,— возразил Двойник вялым голосом, в котором Эвальд немедленно узнал свой собственный.
— Эти современные квартиры никуда не годятся,— проворчала тетя Ульрика.— Сломать дверь ничего не стоит, я знаю, как это делается. Принеси-ка большую отвертку.
— У меня нет отвертки,— ответил ей еще более вялый и бесцветный голос.
— Глупости! Отвертка есть в каждом доме! — возразила тетя Ульрика, и было слышно, как она двинулась на кухню.
Загремели кухонные ящики, Эвальд глянул на окно ванной: рядом с окном проходила пожарная лестница. У Эвальда словно выросли крылья, непостижимым образом ему удалось с крышки унитаза вскарабкаться на умывальник, открыть окно и перекинуть через подоконник одну ногу; призвав на помощь господа бога, он высунул руку, ухватился за лестницу и наконец выбрался наружу, одно мгновение он висел в воздухе, уцепившись за перекладину лестницы, словно утопающий за соломинку, но вот нога его нашла опору; руки саднило, в ушах стучало, перед глазами плыли круги, однако, несмотря на это, он был совершенно спокоен, его несла неведомая сила; он спускался по лестнице, не глядя вниз, женщина с нижнего этажа оторвалась от приготовления воскресного обеда и уставилась в окно на Эвальда, лицо ее выразило изумление и недоверие. Эвальд быстро продолжал спускаться; коснувшись земли, ноги Эвальда автоматически зашагали по дороге, они привели его в гущу прогуливающихся жителей Цветочного Венка, в гущу крикливых детей, собак, журчащих ручьев, беременных женщин, сверкающих автомобилей — в этот калейдоскоп красок и жизни. Только достигнув центра Цветочного Венка, Эвальд заметил, что рука у него кровоточит, плаща нет, а пиджак лопнул на плече. Он обмотал носовым платком содранную ладонь, остановился и посмотрел вокруг: часы показывали без шести минут три, в кинотеатре «Звезда» на дневном сеансе шел фильм про Джеймса Бонда— «Жить или умереть». Эвальд пощупал карман, бумажник был при нем, окунувшись в уютную атмосферу Анонимности, он купил ненумерованный билет и пробрался на последний ряд полупустого зала. Он сидел неподвижно, совершенно опустошенный, и с благодарностью упивался безумными приключениями, мелькавшими на экране, он отождествлял себя с героем фильма и, закрыв глаза, видел, как выпрыгивает в окно ванной, спускается по пожарной лестнице, ловко уходит от погони, он — знаменитый шпион, двойной агент, человек, которому дано право убивать. После фильма Эвальд уже не сомневался— он пошел прямо домой, взбежал по лестнице и позвонил в дверь. Ему открыл Двойник, в квартире была тишина.
— Честно говоря, такого я от тебя не ожидал,— сказал Двойник с восхищением в голосе.
Эвальд приблизился к нему, ткнул костлявым пальцем ему в грудь и произнес:
— Ты уезжаешь. Завтра в левом ящике стола найдешь билет, деньги и карту Лондона. Ясно?
Эвальд ощущал непривычное спокойствие, рожденное сознанием, что терять нечего — хуже не будет. Он как бы слился с тенью Двойника, наделив ее своей волей и своей кровью. Но когда тот ушел, Эвальд сел к кухонному столу и уронил голову на руки: он был пуст, у него не было ни слов, ни имени; за окном смеркалось.
12
Коммерции советник Вернер Флак запустил палец в нос, внимательно изучил все, что ему удалось оттуда извлечь, и обратил ледяной взгляд на Эвальда:
— Я не имею обыкновения вмешиваться в личные дела своих подчиненных, и уж меньше всего в твои дела. Ведь я знаю тебя с детства. Но я вынужден просить тебя обуздать свою похоть, в последнее время ты совсем распоясался. Одно дело — ущипнуть вертлявую девчонку- секретаршу, тут тебе никто и слова не скажет, но задирать юбки пожилым почтенным сотрудницам — это уже никуда не годится. Я у себя такие выходки не потерплю, ясно?
Эвальд посмотрел на тарелку, где клейкая макаронная запеканка ждала, когда же ее съедят.
— Этого не повторится,— тихо проговорил он.
— Прекрасно,— обрадовался Вернер Флак,— я не сомневаюсь в твоем благоразумии, хотя мое доверие подвергалось тяжкому испытанию. Скоро у нас состоится ежегодный майский карнавал. Идиотская традиция, которую между тем многие очень любят. Надеюсь, он пройдет без особых происшествий. К сожалению, рождаемость после карнавальной ночи обычно повышается, но будем уповать на то, что джентльмены не станут обнажать ни лиц, ни более благородных частей тела—равно как и дамы,—и в результате никто не пострадает.
— Вернер, ты невозможен.— Гусыня вся заколыхалась от сдавленного смеха. В такие минуты она как будто теряла четкие очертания. Находились добровольцы, которые во время приступов этого непобедимого смеха пытались силой остановить ее желеобразное колыхание, но в благодарность за свою самоотверженность получали мощную оплеуху и отлетали к противоположной стенке. Вернер и Гусыня стоили друг друга; даже не обладая воображением, Эвальд мог представить себе их дерущимися; от этой мысли у него по спине пробегал холодок.
Столовая на вилле Флаков была обшита дубовыми панелями, окна в частых свинцовых переплетах пропускали какой-то неопределенный свет: одинаковый и в ясные дни, и в ненастье. Трапезы в этой огромной великолепной комнате отличались оригинальностью: водку здесь подавали одновременно с красным вином, а дорогое виски могли подать на десерт; эта особенность приемов в доме Флака очень нравилась Эвальду, она делала их непринужденными. Еда тоже была достаточно оригинальна: горячие блюда подавались холодными, а десерт — горячим как огонь; жареное мясо с картофелем, дичь, шерри; водка; чай с пуншем — все неспешно, но безостановочно исчезало и на лотке коммерции советника, Гусыня не уступала ему. Такое угощение было не по силам тому, кто не прошел определенной тренировки или хотя бы не знал заранее, что последует за чем; неподготовленные гости, словно цветы, выросшие в суровом климате и внезапно пересаженные на щедрую тропическую почву, никли, роняя к-мостки на макароны, запеченные с сыром и сопровождаемые шампанским; гости неверными шагами покидали столовую, чтобы вернуться бледными, как мороженое, подаваемое здесь с японской водкой. За столом, по обычаю, царила полная откровенность, все называлось своими именами, по крайней мере коммерции советником. Дли Эвальда это не было новостью; он с детства слышал такие разговоры, хорошо помнил их бесцеремонный тон и полное пренебрежение к присутствующим; эти разговоры почему-то действовали на Эвальда очищающе, словно катарсис. Однако на Робби подобные беседы производили иное впечатление, он и сейчас сидел с мрачным видом, уставившись прямо перед собой. И все-таки у отца с сыном было много общего, это несомненно: оба угловатые, резкие, исполненные сознания собственной правоты. Робби рассеянно выпил шампанское, протянул бокал, и верная служанка в белом фартучке снова наполнила его. Сейчас Робби поднимется и произнесет пламенную речь, подумал Эвальд, и швырнет бокал в камин, отец его разразится хохотом и будет хлопать себя по ляжкам, а Гусыня опрокинет стул, обуреваемая желанием первой начать «Танец с саблями». Мысли Эвальда блуждали, и наконец он подумал: со мною что-то неладно. Наверно, я схожу с ума. Он отхлебнул из бокала, и у него захватило дух: в бокале оказалась водка; подали кофе, Эвальд глотнул горячий кофе и обжег горло, руки его беспомощно задвигались по столу, холодные глазки Вернера Флака с интересом следили за ним.
— Неплохо, молодой человек! Помни, ты должен присутствовать на завтраке, который я даю в честь президента Оподеля Реопа Горэ. И никаких отговорок, это приказ. Ведь ты говоришь по-английски.
По вполне естественным причинам Эвальд не мог ответить ему, лоб у него покрылся испариной, и он бросил умоляющий взгляд на Робби. Робби поднялся и отодвинул стул.
— Нам пора,— сказал он.
Его отец тоже встал и крикнул сыну:
— Бездарный болван! Плевать я хотел на твои стихи!
— Ну и плюй! — крикнул Робби в ответ.— Ты понимаешь в поэзии не больше, чем бегемот.
— Ты-то, дурень, откуда знаешь, что бегемоты понимают в поэзии? Ты вообще ни черта ни в чем не смыслишь: жизни не видел, опыта не имеешь. Вот и строчишь всякую революционную чушь! Чему тут удивляться !
Гусыня не удержалась и захлопала в ладоши, ее мягкие, пухлые, белоснежные руки напоминали лапы какого-то огромного косматого зверя, но не хищного, а травоядного, который питается корешками, ягодами и молодыми побегами бамбука. Она хлопала и, прищурив глаза, наблюдала за поединком между отцом и сыном, как за теннисным матчем, но партнеры играли неумело, они уже выдохлись и без сил упали на свои стулья. Эвальд с отчаянием ждал конца обеда. Каждый свободный день был для него драгоценным, он подолгу просиживал у Анн, которая ежедневно доказывала ему свою нежность, это были едва заметные, но дорогие Эвальду доказательства; он не требовал невозможного. При мысли об Анн у него навернулись слезы, и он неожиданно икнул, словно изо рта у него выскочил гадкий утенок. Коммерции советник раскурил сигару и сказал:
— Ладно, ступайте, а то не ровен час проморгаете свою революцию. Деньги на билеты есть? Смотри, Робби, если у тебя не окажется денег, тебя туда не пустят. На лот раз реакционная свинья и крупный капитал не примчатся к тебе на выручку.
Вернер Флак сладострастно затянулся сигарой, и его лицо заволокло дымом. Робби побагровел, его голова, словно кочан красной капусты, торчала из воротника грубого серого свитера с кожаными заплатами на локтях. Чем не землевладелец? — подумал про него Эвальд, в глубине души он, может, хороший человек, как и я, но честолюбие гонит его по ложному пути. Со смешанным чувством думал он о предстоящем вечере, на который Робби уговорил его пойти, прибегнув к жалобным интонациям, напомнившим о минувшем детстве. Зато теперь это литературное суаре разрешало им встать из-за стола и откланяться.
— Я надеюсь на тебя, малый,— сказал Вернер Флак и, пристально глядя на Эвальда, так сильно сжал ему руку, что тот чуть не вскрикнул.
Неожиданно бросив руку Эвальда, Вернер Флак ловко повернулся на каблуках и исчез. Гусыня проводила их до двери, справилась о здоровье Анн, посетовала, что Анн была очень бледная, когда она навещала ее последний раз, и припомнила, что одна из ее теток, страдавшая тем же недугом, скоропостижно скончалась, оставив своих пятерых детей круглыми сиротами.
— От судьбы не уйдешь,— прибавила она, широко улыбаясь Эвальду, и по привычке вытолкала мальчиков за дверь, крикнув им на прощанье: — Бегите, погуляйте. Только смотрите не испачкайтесь!
В зале, где происходило чтение, гиперреализм был представлен во всех своих проявлениях. Одинокая спичка на белом фоне, черные ножницы, грязный, вывернутый наизнанку чулок были самыми восхитительными и впечатляющими произведениями. Между двумя скульптурами — одна изображала каблук, вырезанный из свилеватой березы, а другая, скорей всего, женский зад (мрамор?) — был сделан помост. Когда Эвальд и Робби вошли в зал, на складных стульях уже сидели тридцать две пожилые дамы, четыре господина и трое маленьких детей, непонятно как сюда попавших. Маленькая дама жалобным голо-ском читала стихи, Эвальд почти ничего не понял; время от времени она оглушала паству воплем:
О, твой двойник из ракушек и моря, я слепо бьюсь в кухонное окно!
Покидая помост под редкие аплодисменты, маленькая дама попыталась изобразить книксен. После нее выступал молодой человек с глазами навыкате, он читал слишком длинное эссе о каком-то известном эссеисте, собрание зашевелилось, и детский голос сказал:
— Хочу еще мороженого! Дай еще!
Молодой человек упорно продолжал читать. Его сменил старик, он выступил с мемуарами:
— Гутта Линдквист был неистощим на шутки. Однажды, когда мы сидели в «Нюланде», он воскликнул при виде телячьего филе...
— Мое будущее в красном облаке...
Непостижимый экстаз гнал его дальше и дальше,
публика, как могла, поспевала за ним, его голос то взывал во всеуслышанье, то опускался до беззвучного шепота. Эвальд в отчаянии огляделся. В зале висело несколько картин, изображавших ножи и вилки, лежащие то крест- накрест, то параллельно; Эвальд долго смотрел на них, но они так и остались обыкновенными ножами и вилками; грозовым облаком прошумели аплодисменты; теперь какой-то человек средних лет с деревенским выговором рассказывал о своей усадьбе, подозрительно поглядывая на публику живыми карими глазами, как будто не верил, что ее могут интересовать его заботы: скотный двор и распри с чинушами из муниципалитета; две дамы впереди Эвальда начали перешептываться. Робби сидел как статуя, только руки беспокойно теребили рукопись; наступи-ла его очередь, и он рванулся вперед. Робби опубликовал пять сборников стихов, поговаривали, что дело не обошлось без коммерции советника, но Эвальд считал это злобной клеветой, хотя и понимал, что большая часть из написанного Робби — бездарная чушь.
— Я прочитаю стихи из моего шестого поэтического сборника. Он адресован не вам! Он вышел из недр пролетариата и туда же вернется! Прошлым летом я работал на заводе...
Эвальд закрыл глаза. Робби действительно проработал на заводе кладовщиком три недели, это вдохновило его на несколько монументальных полотен, на которых были изображены рабочие с изнуренными лицами; свои картины Робби вдоль и поперек исцарапал ножом — эти скверно написанные каторжники производили тяжелое впечатление. Теперь Робби читал стихи, которые питались из того же источника:
— Согбенный, со стальным взором, ты несешь знамя единения...
Эвальд застонал про себя: господи! Его вдруг охватило бешенство, он еле сдержался: расточать время на такие глупости, когда Анн лежит в больнице одна; драгоценные минуты текут сквозь пальцы, Тот Человек в Лондоне, но ведь он вот-вот вернется! Эвальд взглянул на внимающую паству—лица не выражали ни радости, ни интереса. Над собранием парило облачко почти забытых духов — над маленькими и большими шляпами, над норковыми палантинами и меховыми манто; одна ярко размалеванная художница, спрятавшись за огромными темными очками, пыталась запечатлеть собрание. Робби закончил чтение своих радикальных текстов несколькими сомнительными фразами и сердито поглядел вокруг: никто не свистел, никто не рвался с ним спорить, дама, сидящая впереди, спросила свою подругу:
— Это случайно не сын Вернера Портки?
Эвальд впервые слышал это прозвище, ему захотелось узнать, откуда оно взялось, он наклонился к даме и спросил:
— Простите, но почему Портки?
Дамы обернулись к нему — белые маски, жесткие глаза.
— Вас это не касается.— Они отвернулись и замерли в прежних позах.
Эвальд встал и опрокинул стул, все посмотрели в его сторону, но он, не обращая ни на кого внимания, направился к выходу, оделся, остановил такси и дал адрес больницы. Время для посещения уже кончилось, но Эвальд решительным шагом прошел мимо справочного стола к лифту, потом по коридору и вошел в палату: Анн была жива, она улыбнулась ему, и уже никакая сила не могла бы прогнать его отсюда.
— Где ты был?
— Ходил на литературный вечер вместе с Робби.
— Тебе понравилось?
— Нет.
— Ну хоть что-нибудь новое ты узнал?
— Да, ты — самое прекрасное стихотворение.
— Какой ты милый!
Смеркалось, внизу раскинулся город, окутанный голубой дымкой весны.
13
«Брат Тень! Или как мне называть тебя? Ты — моя чистая совесть, мое неясное, сглаженное отражение; здесь, в номере, мое отражение в зеркале гораздо четче, оно напоминает меня в «Гельвеции», куда мне отнюдь не хочется возвращаться. Я видел Тауэр и Хэмптон-Корт, посетил злачные места—ты, наверно, употребил бы именно это выражение — словом, окунулся в грязь и разврат, повеселился вовсю и назанимал денег у старых знакомых, которые нашли, что я сильно изменился. Как бы там ни было, я здорово овладел искусством занимать деньги и потому советую тебе овладеть искусством отдавать долги; не исключено, что я исчезну, когда подойдет срок платежа,— все в воле божьей,— и тогда, братик, тебе придется расплачиваться одному. Ты явно родился чуть позже меня и во всем слегка отстаешь, я получил небольшую фору, это несомненно, у меня чуть больше опыта, чуть больше... жестокости, если угодно, то есть всего того, что помогает выжить. Твое счастье, что ты вырос в маленькой стране, здесь бы ты со своими мечтами быстро оказался в Темзе (кстати, это на редкость грязная река, которую по временам заливает призрачный свет). Меня самого удивляет, как я выдержал такую жизнь, с Вернером Флаком, со всем этим притворством — прости, что я время от времени прикладываюсь к бутылке,— часто, очень часто мне хотелось встать и крикнуть: «Да ведь это не я! Я не тот, за кого вы меня принимаете! Я не слабовольный мечтатель, я не довольствуюсь тем, что мне положено. Думаю, Робби никогда не забудет ту неделю в Париже, восемь лет назад, а если ты забыл ее, так я тебе напомню: допрос в полицейском участке, девушка с царапинами на груди, вонь, грязь, унижение—ты познал псе это, погрузился в это с головой, лишь бы забыть, что па ничтожная конторская крыса с дипломом экономиста. Помнишь, как ты закончил самую известную картину Робби, одну из немногих, которые ему удалось продать; как ты вдруг, будто осененный свыше, встал перед мольбертом и произнес пламенную речь, что значит жить по-настоящему, то есть не быть халтурщиком ни в чем; как Робби, пьяный, слонялся по мастерской и уже не понимал, что происходит; как ты, постепенно трезвея и остывая, вышел на улицу и подцепил девчонку; как она закричала, эта шлюха... Я сижу здесь и перебираю все в памяти. Я думаю, ты наслаждаешься близостью Анн, ее мягким, сдержанным, но податливым телом, которое мы оба так любим, не правда ли? Если даже она поправится, се хрупкость и болезненность останутся при ней, а это может довести до безумия и более стойкого человека, чем я; и все-таки я часто тоскую по нашим с ней тихим семейным вечерам с телевизором, приемником и любимыми пластинками —слушаете ли вы их? Может, мне лучше не возвращаться? Ты был бы на седьмом небе от счастья, поэтому я не могу доставить тебе эту радость. У меня есть кое-какие дела в старом добром Гельсингфорсе. Здесь, в Лондоне, я отыскал Герд, она старше Робби и в свое время будет главной наследницей папаши Вернера, самого папашу она видеть не желает, но от его денежек не откажется. Герд хоть и поистаскалась за свои два замужества, но все-таки выглядит неплохо и по-прежнему очень чувственна — помнишь наши загородные похождения? Тебя только-только посвятили во все тайны, и ты, помнится, тогда сплоховал. Она шлет тебе самый горячий привет (ха! ха!), вспоминала, какой я был робкий, хотя порой впадал в бешенство и тогда становился совсем другим, и этот другой ей очень даже нравился; мы с нею отлично ладим и более того—сегодня решили привести в трепет Сохо (на ее деньги). Ты помнил о ней, когда отправлял меня в Лондон? Она уверяет, что бедняга Робби — существо бесполое, нам это, в общем-то, было известно уже давно. Стоит мне повернуться, и я вижу в зеркале свое отражение, и тогда я понимаю, что все идет своим чередом, ясно? Когда я, перегнувшись через шаткий стол, чудом отворяю окно, мне наискосок видна IIIафтсбери-Авеню. Пожалуй, я еще ненадолго задержусь здесь. Учти: переспать с Анн ты можешь даже в больнице, только не забудь запереть дверь и соблюдай известную осторожность. Кстати, нужно ли соблюдать Остророжность, когда дело касается денег? Или любви? Здесь люди совокупляются в любом парке, и один из них— твой брат до гроба Эвальд».
14
Эвальд сидел и думал о Герд Флак, воображение живо рисовало ему ее в самых непристойных позах. Он любил ее до безумия, а она играла им, играла увлеченно, благодаря ей он стал взрослым. Ее презрение к условностям, ее вечное недовольство и роковая потребность устраивать скандалы — с отцом, с матерью, с Робби и даже с ним, Эвальдом,— в конце концов утомили всех. Единственное, к чему она сохранила любовь до самого отъезда из Гельсингфорса,— это пиво, которое она сосала, как ребенок материнскую грудь. У Герд явно были художественные способности, одно время она делала украшения, но большинство ее работ так и остались незаконченными, все это было данью духовности, жертвой интеллектуализму, потребностью «изжить» себя. Эвальду очень нравилось это выражение, и в то же время оно вызывало в нем протест. Изжить? Изжить свое нутро, сердце, себя самого? Что она имела в виду? Когда он последний раз видел Герд, от нее осталась только пустая оболочка, размалеванная, смеющаяся, вообще-то, выглядела она здорово и была похожа на индианку, ее темные волосы развевались, будто ей в лицо все время дул ветер. Всю жизнь она шла против ветра, у нее было мало друзей и много врагов, а сколько браков разбилось по ее вине! Когда она исчезла, многие вздохнули с облегчением; Эвальд, который был частицей ее ранней юности, но к которому она навсегда сохранила нежность, тосковал по ней, пока не забыл; у Флаков о ней никогда не говорили.
Эвальд сидел в конторе с письмом Эвальда в руке и смотрел в окно. Был пасмурный, слегка мглистый день, в старом знакомом доме напротив светились окна контор, там тоже, наверно, кто-то сидел и смотрел на Эвальда, на окно его кабинета; всюду они, эти муравьи. Какая разница, копошатся ли они в своих конторах, ползают ли по унылым коридорам или пляшут в какой-нибудь дискотеке, зарытой в землю на пять метров. Он задумался, и письмо неожиданно выхватили у него из руки, смешливая Лилли помахала конвертом у него перед носом.
— Пишешь самому себе? Да еще из Лондона? Вот чудеса!.. Эвальд вскочил, бросился на нее, они опрокинули кресло для посетителей и упали на диван; мягкая, как перина, Лилли пыхтела и вырывалась.
— Что это с тобой? Я же пошутила.
Эвальд дернул письмо к себе, и бумага разорвалась. Половина письма осталась в руке у Лилли; она с трудом села, не сводя с Эвальда глаз, он побледнел.
— Нельзя читать чужие письма!.. Это...
— А оно и не чужое,— сказала Лилли, поправляя вырез платья.— Можно подумать, ты сам мне никогда не писал! Докладные записки, написанные твоей рукой, я помню наизусть. Но сейчас ты, по-моему, впутался в какую-то нехорошую историю. Что с тобой происходит?
— Ничего,— ответил Эвальд.—Тебя это не касается!
На лбу у него выступили капельки пота, его вдруг
осенило: Герд и Лилли были закадычные подруги! Что, если Герд ей написала?.. Ему было страшно додумать эту мысль до конца, он сел за письменный стол, Лилли наблюдала за ним, он попытался ответить ей невозмутимым взглядом. Что ей известно? Да ничего! Лилли встала, подошла и, наклонившись над столом, бросила на него обрывки письма, которые держала в руке.
— Я тебя люблю. И боюсь, что ты на краю гибели. В последнее время ты сам на себя не похож. Самому-то тебе эго ясно?
— А то нет!—с трудом проговорил Эвальд, его тощая шея стала еще длиннее, губы растянулись в страшной, безумной улыбке; мир медленно повернулся вокруг своей оси, и этой осью—Эвальд знал — был он сам. Дождем разноцветных осколков рассыпались будни, он бежал по стеклянным лабиринтам «комнат смеха», то там, то здесь натыкаясь на свое искаженное отражение: он то съеживался, то уродливо вытягивался. Из зеркал на него все время смотрели два лица, два одинаковых лица; весь мир был заполнен двойниками, Эвальд бросился к огромному зеркалу в вестибюле, он добежал до себя и рухнул на пол. Кто-то поднял его и отнес в кабинет, все столпились вокруг, Лилли положила ему на голову мокрый носовой платок, заместитель Шефа извлек из сейфа бутылку виски, вся контора пеклась об Эвальде, возвращала его к жизни: тюрьма спасала осужденного на смерть от самоубийства, чтобы раньше или позже отправить его на плаху. Эвальд открыл глаза и сказал:
— Я не он!
Люди вокруг закивали, послышались возгласы, мягкие, успокаивающие слова. Что это, обычный день в конторе Вернера Флака или зал ожидания в царстве небесном? Ведь Эвальд знал, что тут почти все ненавидят свою работу так же, как он, и только ветераны грезят о патриархальных временах, когда конторой правил «старик». Эвальд сел на диване. Кто-то успел укутать его шерстяным одеялом. Откуда оно взялось? Эвальд посмотрел на одеяло: серое с красными полосками.
— Это из старых военных запасов,— объяснила ему Мильда Шёльдвик.— У нас есть еще противогазы и карманные фонарики.
— Противогазы понадобятся позже.— Эвальд старался говорить громко и четко, все засмеялись.—Я очень сожалею о случившемся, в последнее время нервы у меня не совсем... не совсем в порядке...—Эвальд оборвал себя, эти слова в его устах звучали нелепой пародией: не совсем в порядке, не совсем в порядке! Он против своей воли повторял их и смеялся над ними — не совсем в порядке, не совсем в порядке! Все случившееся с ним — просто шутка, и самое забавное, что он умудрился жить, играя эту двойную роль!
— Друзья! — воскликнул он и встал, одеяло еще висело у него на плечах.— Друзья! Давайте будем самими собой. Долой двойников! Смерть всем нашим теням! Смерть человеку, который называет себя Эвальдом!
— Все в порядке. Врач дал тебе что-то успокоительное, ты освобожден от работы по болезни. Анн я навестил, можешь не волноваться. Черт знает что за
жизнь ты вел. Папаша сначала решил, что ты пьян в стельку. Хочешь кофе?
Эвальд кивнул, откинулся на подушку и поглядел в потолок. Смотреть там было решительно не на что — белый пустой потолок. Наверно, и борода у него стала такой же белой после всех страданий, выпавших на его
долю. Он чувствовал себя глубоким старцем. Эвальд
нашел в тумбочке зеркальце Анн и долго изучал свое отражение: знакомое птичье лицо, голубые водянистые глаза, встрепанная светло-рыжая шкиперская бородка— все было его, но вдруг, к ужасу Эвальда, на лице появилась презрительная ухмылка, которая принадлежала не ему. Он отшвырнул зеркало, оно ударилось об стену, но не разбилось. Все кругом прочное, прежнее, кроме него самого. Он чувствовал, что ему придется жить с этим лицом, придется бороться или погибнуть, надо положить на голову лед, набить им голову, чтобы рассуждать спокойно и здраво, чтобы выработать план действий. Он решил выздороветь немедленно, сел, и у него все поплыло перед глазами, наконец он различил обои, мебель, фотографию Анн, балконную дверь и весеннее небо со светлым пятном в том месте, где село солнце. Эвальд с неприязнью смотрел на свои мятые брюки и тонкие запястья. Он встал, поддал ногой зеркальце, и оно отлетело под кровать Анн. Пускай там и лежит, решил Эвальд. Вошел Робби с чашкой кофе и толстым бутербродом с сыром (типично для Робби!).
— Думаешь, я способен проглотить хоть кусок после того, что случилось? — сказал Эвальд.— Дурак! Мой добрый бездарный дурак! — И прибавил: — Послезавтра я уезжаю в Лондон. Глупо валяться здесь и изображать из себя больного.
Казалось, он медленно наливается неведомой силой, сочившейся в него сквозь треснувшие стены, сквозь решетку, сквозь отчаяние: он был свободен. Я живу, у меня опять есть лицо, думал он. Лицо, которое открыто. Лицо, которое улыбается. И он испытал неизъяснимое мрачное наслаждение.