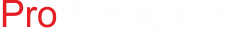I
Грустно было в зимние, вечера в пустынных купеческих хоромах. В доме царствовала вечная, угрюмая тишина. Вся семья была в разброде. Константин и Валерьян с фронта писали редко. Дмитрий не выезжал из Волчьего Логова. Настасья Васильевна почти не выходила из своей комнаты. Варвара была неотлучно при ней и только по вечерам являлась к Наташе, всегда лежавшей в постели: больную часто мучали сердечные припадки.
Никого не бывало, кроме доктора Зорина, да и тот приезжал, только когда его вызывали.
Затворническая жизнь Наташи, лишенная всяких внешних впечатлений, освещалась только визитами доктора, но теперь ее редко оставляли наедине с ним: все знали о болезненной, безнадежной любви Наташи, Сила Гордеич тоже догадывался, но не показывал вида, и никто из семьи не осмеливался заговаривать с ним об этом. Следовало бы совсем отказать от дому Зорину, но доктор был ему самому нужен: здоровье с каждым днем ухудшалось; да и Наташа без леченья совсем, пожалуй, свалится. По его мнению, со стороны Наташи ила просто блажь, воображение, но не считал удобным заводить с ней этот интимный разговор: волновать ее опасно, случится припадок — и тогда волей-неволей придется за Зориным посылать: лишний расход!
Сила Гордеич дремал в глубоком кресле кабинета, предаваясь унылым мыслям. Вошел Кронид с письмом и руке, молча передал его старику и, улыбнувшись скверной улыбкой, сказал:
— От Валерьяна Иваныча.
Письмо было адресовано Наташе, но такой уж был давнишний порядок в доме Черновых, что вся корреспонденция предварительно проходила через контроль Силы Гордеича.
Он надел очки и разорвал конверт. Письмо было написано мелким почерком на нескольких листах.
Он улыбнулся.
— Эка, сколько! Я и не разберу... У тебя глаза-то лучше, Кронид, почитай-ка, а я послушаю.
Кронид взял письмо, сел на стул, придвинулся по-ближе к Силе и, осмотрев листки с начала и с конца, начал читать:
— «Извещаю тебя, милая Наташа, что я жив и совершенно здоров. С месяц как прикомандировался к санитарному поезду. Так сделал не один я, но многие военные корреспонденты, в шутку называющие себя «воль-ными конькобежцами»: начальство не допускает их по-настоящему видеть войну.
«Наш поезд отправляют близко к полям битвы, где находятся полевые лазареты, откуда мы получаем раненых, можно сказать, свеженькими — человек восемьсот каждый раз. Доставляем их во Львов, и живем во Львове в особом общежитии. Находимся почти все время в поездках, отдыхаем редко. В составе поезда — человек тридцать санитаров и несколько сестер милосердия. Сестрами заведует кавказская княгиня. Санитарный состав добровольцев — московские студенты, несколько хористов украинской труппы, профессиональные санитары, два корреспондента московских газет и я. Компания пестрая, но интересная для меня.
«Самая неприятная сторона санитарной служба заключается не в громадном физическом утомлении и не в тяжелых картинах человеческих страданий, но главным образом — в той грязи, в которой живешь во время поездок, в полном отсутствии элементарных удобств. Кормят нас солдатскими щами и кашей из общего котла, помещенного в особом вагоне-кухне. Едим из жестяных чашек деревянными ложками, хлеб — черный, часто сырой или заплесневелый.
«Непривычный, изнеженный интеллигент, попавший в санитары, сначала этой пищи не приемлет, а принявший — заболевает. Но мы уже давно привыкли к щам и каше, к грязным ложкам и плошкам, сами ходим з вагон-кухню каждый за своей порцией и едим, приткнувшись где попало. Чай пьем тоже по-дорожному, из жестяных чайников и кружек. Спим на голых скамьях, не раздеваясь, не умываясь; приходилось спать и просто на грязном полу в нетопленном, холодном вагоне. От тесноты, дурного воздуха, окружающей грязи и вынужденного неряшества как-то чувствуешь себя вышибленным из культурной жизни. Грубеешь, опрощаешься, забываешь самого себя и живешь исключительно коллективной жизнью. Собственное «я» прежде, в Петербурге или Москве казавшееся таким сложным, большим, важным, становится теперь ненужным, пустым и легким, поднимается над головой и — маленькое — улетает куда-то. Остается - дело, в котором и растворяешься на это время без остатка.
«Привыкнуть можно ко всему. Когда мы едем за ранеными в пустом поезде, каждый раз в ожидании чего- то нового и вместе с тем гнетущего, тяжелого, всеми нами овладевает повышенное, почти веселое настроение: кто нибудь играет на гитаре, украинские хористы поют свои родные песни. Слышатся смех, шутки, рассказы, а поезд все МЧИТСЯ И МЧИТСЯ ВДаЛЬ.
«Зато, когда нагрузим вагоны ранеными и возвращаемся обратно, начинается страда. Хорошо еще, если попадают группы легкораненых или так называемых «самострелов» (это — которые сами себе отстреливают или отрубаю! пальцы с целью, чтобы больше не посылали в бой) Толпами иногда приходят они с поля битвы, кое-как забинтованные; с ними хлопот мало — здоровые люди. Но тяжелораненых приходится таскать на носилках, а в ПУТИ ухаживать за ними. У некоторых не хватает руки или ноги, многие в бреду. Покладем их в теплушки на нары в два яруса и дежурим по очереди по два, по три часа около них ночью при свете керосиновой коптилки; даешь воды напиться; все они часто пить просят. Иногда попадается такой состав, что весь нагон бредит и орет: кому представляется атака и штыковой бой, кому — родная деревня, жена и дети.
«Но не буду портить тебе настроение такими карти-нами. Сначала все это нас потрясало, ужасало, угнетало, но теперь мы сделались бесчувственными, нагружаем и разгружаем раненых с таким равнодушием, как будто это дрова, а не живые люди, истекающие кровью...
«Оказывается, для всякой впечатлительности бывает предел: нервы притупляются и с известного момента не воспринимают впечатлений.
«В обстановке войны странно изменяется человеческая психология. Эту перемену каждый чувствует сам, наблюдая самого себя и других. То, что казалось бы недопустимым и даже преступным там, в тылу, за рубежом войны, — здесь кажется дозволенным и вполне естественным. Прежде всего обуревает совершенно бесцельная жажда разрушения. Чувствуешь, что все можно и что те писаные законы, которыми управляется жизнь «по ту сторону войны», — на войне никуда не годятся, нелепы и необязательны: кругом законно убивают, поджигают, крадут, грабят, насилуют — и находят в этом затаенное удовольствие.
«Недавно наши санитары-студенты—все такая славная, хорошая молодежь — забавлялись в общежитии тем, что расстреливали висевшие на стенах масляные картины и портреты; наше общежитие помещается в бывшей австрийской охранке — огромном учреждении, откуда австрийцы, уходя, почти ничего не успели взять. Комнаты обставлены роскошной мебелью, картинами, гардинами, но мы, конечно, тотчас же все загрязнили, загадили, а картины расстреливали не известно зачем: без озорства, без злобы, а так, из какого-то злобного инстинкта разрушения. На диване сидел один студен тик, а товарищи, целясь в картину, чуть было не всадили ему пулю в голову. Искали в доме ценностей, чтобы поживиться, но нашли только полицейские костюмы и разный скарб. Зарились на несгораемый шкаф и никак и не могли его отпереть, а в одно раннее утро застали самое княгиню, взломавшую шкаф. Нашла ли она там что- нибудь, не известно и неважно, но меня поразило, что военной добычи искали не только простые санитары, с целью мародерства прибывшие на фронт, но и «милые, развитые» студенты и даже сама княгиня.
«А то принесли раз в вагон раненого солдата — в крови, в грязи, в испражнениях. Что с ним делать? Вымыть негде. И жалко, и отвратительно. Говорю солдату-санитару: «Оботри его!» Санитар, этакий подозрительный тип с лицом уголовного, отвечает: «А чего с ним возиться? Дать ему вторую пулю!» Просто, спокойно сказал...»
Кронид читал монотонно, часто останавливаясь на неразборчивых местах. Сила Гордеич слушал с закрытыми глазами, казалось, дремал.
— Все, что ли? — спросил он, очнувшись.
— Како, черт, все? И половины не прочитали!
— Ну, посмотри там в конце, нет ли чего?
Кронид перевернул несколько листков и продолжал
«Мне не хочется тебе описывать то, что я видел: еще, пожалуй, спать не будешь по ночам. Война только издали хороша, а вблизи — грязное дело... Грандиозное кровопролитие, где отдельный человек кажется мошкой. Дезертиров и самострелов в тылу расстреливают целыми ротами... Случалось бывать и в окопах... сидят голодные, холодные, изъеденные вшами... Толку от нашей санитарной работы почти никакого: только отвезем полный поезд раненых, а покуда везем — их там новых еще больше наделают, и не видится конца... Кладем их прямо на пол. На вокзале пройти негде: сплошь тела...
«Зато — победы... Австрийцы отступают из Галиции, с сдают город за городом... По этому случаю во Львове в ресторанах пир горой... В Москве и Петрограде, говорят, ликование, балы. Дамы посылают солдатам подарки.. Но и ли бы видели они, что делается в окопах, в лазаретах...
«Домой пока не собираюсь, да и где у меня дом?..»
— Вот те на! — с неудовольствием проворчал Сила Гордеич. Довольно, Кронид! После сам просмотрю, все равно такое письмо Наташе передавать нельзя!
— Конечно!
— И какого черта он там в санитары затесался! Третий уж месяц, а тут жена больная, ребенок. Да и люди спрашивают, где, дескать, муж-то. Не дело! Обе мои дочери оказались вроде как соломенные вдовы. Эх!
Сила Гордеич встал с кресла и, шаркая туфлями, поплелся в комнату Наташи.
Кронид посмотрел ему вслед с двусмысленной улыбкой, потом вздохнул, свернул письмо и, сунув его в ящик стола, стал ходить из угла в угол, кусая бороду, загнутую вперед полумесяцем.
Наташа сидела в глубоком кресле, закинув голову е закрытыми глазами и, казалось, спала. Лицо ее было, очень бледно и спокойно.
На кушетке, вниз животом, опираясь на локти, «сфинксом» лежала Варвара и пристально смотрела на что-то бормотавшую сестру.
Варвара и Марья подняли головы: на пороге раскрытой двери стоял Сила Гордеич.
Варвара села, приводя в порядок волосы. Марья Ивановна склонилась к Наташе:
— Наталья Силовна, проснитесь!
Наташа открыла мутные глаза.
Сила Гордеич быстрыми шагами подошел к дочери.
— Что с тобой?.. — Голос его звучал хрипло, глаза, впились в бледное лицо Наташи.
— Я, кажется, заснула, папа?
— Ничего не понимаю! — развел руками Сила Гордеич. — Ты что, бредила, что ли?
— Я ничего не помню, — удивленно сказала Наташа. — Дайте мне капель.
Марья Ивановна достала с полки пузырек.
— Пусто!
— Ну, так сходите в аптеку!.. После сна всегда у меня голова болит.
— Какой это сон! — раздраженно крикнул Сила Гордеич. — Спишь, а сама с Варварой разговариваешь. Я все слышал. Что за чушь!
— Да ведь она ничего не помнит, папа, — возразила Варвара. — Что вы к ней пристаете?
Сила, кряхтя, прошелся по комнате, заложив руки за спину и шлепая туфлями.
— Я — в аптеку, — сказала Марья Ивановна и вышла, твердо стуча каблуками.
— Ты что-то про Валерьяна бормотала, — садясь в кресло, смягченно сказал старик. — Скучаешь, что ли?..
Наташа улыбнулась.
- Конечно, скучаю, папа. Уехал — и не пишет ничего.
Сила крякнул, отвел глаза в сторону.
— Коли скучаешь, напиши ему сама, чтобы приехал хоть к Рождеству побывать. А то бы и совсем. Будет уж. Чай, по доброй воле поехал... Спишь и видишь его, бредишь ведь, а нет — чтобы написать: приезжай, мол. Бросил семью — и горя мало! Не нравится мне это... Я и сам вот болен...
Наташино состояние встревожило его: какие все болезни-то неслыханные, а от него скрывали, и доктор ничего не говорил. Тихий ужас поселился в полумертвом доме Черновых. А эта Варвара только забавляется болезнью сестры. Поговорить придется с доктором и тогда уж Варваре дать острастку... Вытворяет штуки над больной. Валерьяна выписать надо. Развал неудержимый идет в семье, и не хочется больше глядеть на все это Силе Гордеичу.
Сила встал и, кряхтя, вздыхая, поплелся из комнаты, ни разу не взглянув на старшую дочь. Когда дверь затворилась, Варвара долго смотрела ему вслед прищу-ренным взглядом. Потом снова улеглась на кушетку в позе сфинкса.
— Варя, помоги мне лечь в постель! — жалобно сказала Наташа детским голоском. — Трещит голова...
Варвара раздела худенькое тельце сестры, потрогав маленькое жемчужное ожерелье, закрывавшее шрам но ее тоненькой шейке, — давнишний подарок Валерьяна это было единственное украшение, с которым Наташа не расставалась никогда.
- Ну, вот и я пригодилась тебе, милая сестрица, вместо сиделки...
- Спасибо, Варя! Я знаю — ты ведь любишь меня.
- Люблю, конечно... А кто тебя не любит? У отца — ты любимица, муж — какое ожерелье-то подарил!.. Был когда-то художник, деньгами сорил, а теперь — санитар! Ха-ха!
— Варя, - тяжело дыша, тихо прошептала больная, — у меня, кажется, припадок начинается...
— Ну что ж припадок. Пройдет! — мурлыкала Варвара. — Доктор придет — все как рукой и снимет. Чай не в первой. Выздоровеешь — с Валерьяном разведешься, за Зорина выйдешь... Муженек-то твой, как был деревенщиной, пьяницей, богемой, туда же и возвратится, или по-прежнему бедняком-мазилкой будет в Москве. О нем жалеть нечего. Не пара он тебе, и всегда был не пара. Так, сдуру ты за него вышла. Эту ошибку тебе исправить надо... Да и он не очень-то будет плакать о тебе. Там, на фронте, чай, сколько их, сестер милосердных — утешат! Да что сестры!.. Бывший-то доктор, Василий Иваныч, писал Константину, как они с какой-то девичкой на лодке ездили в Крыму. Ха-ха! Неужто у него с певичкой ничего не было? Было, наверное... Вог увидишь — роман заведет.
— Со зла говоришь, — металась в постели Наташа.
— Ничего не со зла, — из любви к тебе говорю... Любить-то он тебя любит, ну, а денежки твои — тоже любил. Потому и любит, что ты любимая дочь у отца, наследство получишь... По-моему, коли на то пошло, так уж лучше Зорина взять. Этот хоть тоже к деньгам прилипает, как пластырь, но зато красавец и умница. Дедушке ни на грош не поверит: сначала деньги выжмет, потом уж тебя возьмет.
— Варя, ты мучаешь меня!
Варвара, усмехнувшись, продолжала:
— Всем известно, как он здешних дам лечит... Ты, конечно, не в счет, ты ведь святая... Он их собой лечит — за деньги, понимаешь?
— Не понимаю, Варя... Голова горит...
— Ну, как не понять? Что ты, ребенок, что ли? Все знают, что у него секретная комната в гостинице есть. Все туда к нему и ходят потихоньку, с черного хода... Говорят, братья-то давно оба рогаты...
— Не верю. Ты это все нарочно... нарочно говоришь, чтобы меня обидеть.
Наташа заплакала.
Варвара подошла к Наташе, села подле на кровать.
— Ну, не плачь, успокойся. Я пошутила, а ты всерьез... Дурнушечка, пучеглазка, золушка!.. Как тебя еще назвать? Принцесса, страдающая расстройством желудка. Ха-ха!
— Сердце... сердце.,, — шептала, задыхаясь, Наташа.
Варвара прижалась ухом к груди больной: сердце билось бешено, неровно, хромыми ударами. Улыбнулась.
— Ничего особенного. Лупит вовсю твое влюбленное сердце... Я ведь все шучу, не обижайся, пучеглазка!.. От болезни ты неземной красавицей стала...
Вскрикнула Наташа. Голова ее бессильно упала, глаза закатились под лоб.
Варвара близко наклонилась к сестре, и пальцы ее холодных рук медленно поползли по обнаженной исхудалой груди Наташи и вдруг вцепились в тоненькую, детскую шейку с заметным шрамом, оставленным страшной болезнью.
— Наследство получишь, любимая дочь! — шептала Варвара.
Наташа очнулась.
Тогда тонкие пальцы ослабели и стали гладить жем-чужное ожерелье.
— Что ты делаешь?— едва слышно двигались губы Наташи. — Ты шутишь, Варя?..
— Да, шучу, — шепотом отвечала Варвара. Руки ее тряслись.
— Мне плохо, Варя... Жутко... Боюсь!.. У тебя страшное лицо...
Голос Наташи замер.
— Ты бредишь, бредишь! Да, бредишь. У меня лицо совсем не страшное... Тебя душит ожерелье: оно узко тебе, давит шею. Слышишь? Вот так, вот так давит, я сейчас тебе разорву его... Фу, какая у тебя шея цыплячья!.. Тоненькая, дряблая... Сейчас... сейчас... я сниму его, развяжу... разорву... Тебе и легче будет, милая сестрица, милая моя сестрица.
Варвара стиснула ожерелье на тоненькой шейке хрипевшей Наташи. Нитка оборвалась, и жемчуг рассыпался.
В комнату вбежала в пальто и шапке, запыхавшись, Марья Ивановна. Лицо ее было бледно, рот раскрыт, она задыхалась, держа в руке аптечный пузырек.
— Всю дорогу беду чуяла! — бормотала она, бросаясь к Наташе. — Бегом бежала!
Варвара встала, выпрямилась и провела руками по лицу.
— Ей дурно... Я пойду, позвоню доктору, — сказала она деревянным голосом и, шатаясь, вышла.
— Марья Ивановна долго смотрела вслед ушедшей. — Зверь! — вдруг закричала она истерично и, всхлипнув, наклонилась к Наташе.
II
Как всегда, санитарный поезд вышел из Львова поздно ночью. Санитары спали в вагоне третьего класса на голых скамьях, при тусклом свете стеариновых свечей.
Валерьян проснулся от хлопанья дверей, громких» веселых голосов.
Было раннее осеннее утро. Поезд стоял на маленькой степной станции. Два студента-санитара: один — непомерно длинный, а другой — низенький, смотрели из окна вагона и чем-то любовались.
— Замечательная картина! Жаль — аппарата нет: снять бы!
—- Да, это редко бывает. Эй, художник, проснитесь! Тема для вас! Посмотрите: солдат богу молится.
Валерьян выглянул в окно.
На пригорке около станции виднелась высокая крытая кибитка, а спиной к ней, лицом к восходящему солнцу стоял на коленях солдат — в серой шинели, стянутой ременным поясом.
Он стоял неподвижно и прямо, лишь изредка крестился и потом опять долго оставался без движения.
Над холодным осенним полем всходило затуманенное, грустное солнце и освещало всю его фигуру.
— Ну, что, годится для тенденциозной картины? —» улыбаясь, спросил высокий студент.
Валерьян отрицательно покачал головой, но вынул карманный альбом и стал набрасывать рисунок.
Быстро чертя карандашом, Валерьян говорил:
— Этот русский воин, которого сейчас отправят в бой, быть может, в последний раз видит восход солнца, прощается с ним, молит, чтобы взошло оно над Россией. Спасать ее призваны солдаты, а не депутаты Думы и не ораторы литературных вечеров в Петербурге.
Санитары с любопытством смотрели через плечо художника на его работу, но Валерьян захлопнул альбом и вышел из вагона,
Все кругом носило признаки передовых позиций: поле, взрытое окопами, оживлялось группами солдат, строивших барак для раненых; казаки на берегу ручья грелись у костра, рядом были привязаны к дереву оседланные кони.
К станции обозом подъезжали военные фуры, запряженные крупными, могучими конями, управляемые сол-датами и нагруженные ружьями, как дровами. Подъехав к станции, люди сбрасывали ружья охапками на землю и складывали в кучу. Тут были ружья с австрийскими ножами и русскими штыками, ружья с раздробленными ложами, переломленные пополам, с погнутыми штыками и дулом. Свозили их сюда с еще не остывшего поля сражения.
Станция была невдалеке от небольшой реки со взорванным железнодорожным мостом, а на горизонте, на синеющей лесистой горе чуть-чуть виднелось в утреннем тумане фантастическое очертание колоколен, церквей и башен красивого, старого города. Мост через реку быстро восстанавливали: весь железный переплет моста, исковерканный при взрыве, торчал из неглубокой, но быстрой реки. У входа на мост стоял товарный поезд с рабочими и солдатами; кипела плотничья работа.
На перроне ударили в станционный колокол. Молив-шийся солдат встал, надел папаху и побежал к поезду, стоявшему на втором пути. Поезд, полный солдат, скрипя колесами и стукая буферами, двинулся к мосту.
Валерьян, пройдясь около станции, вернулся обратно. Около вагонов стояли его товарищи — два студента и молоденькая сестра милосердия.
— Что это за город виднеется? — спросил, подходя, Валерьян.
— Ярослав, — в один голос ответили студенты.
— Издали он очень красив, Аленушка? — сказал де-вушке маленький студент.
— Только издали, — смеясь, возразила Аленушка.— Говорят, совершенно разоренный город: на улицах ни души, магазины закрыты. Вот Тарново — другое дело: нам только что встречные рассказывали — ужасно дешево можно купить белье, кружева и шелковые материи, по рублю за метр!
— Это оттого, что торговцы спешат выбираться оттуда, — заметил маленький санитар.
— Думают, что мы патриоты, а в сущности из любо-пытства в санитары поступили, — задумчиво сказал его товарищ.
— Войну смотреть поехали.
— Ах! — сказала Аленушка, — хотела бы я видеть, как разрываются шрапнели: страшно и любопытно! А солдаты какие! Такие милые!
— Поехали из любопытства, а все похудели.
— Я в гусары хочу поступить, — сказал маленький. — В санитарах много ли увидишь?
— В вагоны! — протяжно закричал голос с паровоза
Поезд двинулся, но скоро опять остановился перед входом на временный деревянный мост. Каждый вагон переводили на другую сторону отдельно люди, оста вившие для этого плотничью работу. Под колесами что- то протяжно скрипело, стонало, вздрагивало. Паровоз, прицепленный сзади поезда, не решился въехать на мост. На другом берегу состав прицепили к новому паровозу. Перебравшись через мост, подъехали к городу.
В пустых комнатах небольшого, неуютного здания вокзала — никакой мебели, пол затоптан тысячами грязных солдатских сапог. Повсюду встречались только солдаты.
Валерьян поднялся в верхний этаж по витой чугунной лестнице. Там оказался буфет — большая пустынная комната, посреди ее длинный стол, в углу на стойке самовар, бутерброды, пирожки.
Было холодно, грязно, неуютно; чувствовалось, что все это — «временно». За столом пили чай и закусывали офицеры и какие-то случайные люди казенного вида.
Валерьян сел за общий стол. Против него сидел по-жилой исхудалый офицер, с бледным, усталым, болезненным лицом, с небольшой седеюшей бородкой и свешенными вниз усами. Солдатская гимнастерка казалась черной от грязи, шинель потрепана. Он вяло доедал котлету. Валерьян, заказывая обед, спросил его:
— Хорошо ли вам подали?
— Конечно, хорошо, — усталым голосом ответил офицер. — Да что вы меня спрашиваете? Я две недели горячей пищи не видел: тут что ни дай, все покажется хорошо. Две недели на одних сухарях!
— Вы откуда едете?
Вздохнул.
— С позиции. В окопах сидели. А потом за Дунаем отходить пришлось. Я со своей ротой последним шел, понтонные мосты сжигал. Нам с берега уходить надо, а тут люди падают от усталости. Говоришь ему: вставай, брат, а то смерть будет! Кругом шрапнели рвутся, он и сам видит, да ведь что ж поделаешь, когда не может? А тут еще аэроплан этот прилетел.
Офицер замолчал и прикрыл глаза ладонью бледной, исхудалой руки.
— Извините! — продолжал он, через минуту овладев собой. — Нервы совершенно расхлябались, трудно мне говорить. Кругом столько горя, столько горя! Трудная война. А в газетах посмотришь — как все у нас хорошо, легко и приятно! Как в оперетке.
— Ну и что ж — аэроплан?
— Что аэроплан? Прилетел, вьется, кружит над нами. Заметались все... Тут недолго — и паника начнется... Лошади бесятся... Давка... Что против аэроплана сделаешь? Ну, и бросил бомбу... Убило четверых людей да пять лошадей... Способы войны-то какие!
Офицер опять провел ладонью по глазам, помолчал, вздохнул с глубокой печалью.
— На каждом шагу трагедия, да такая, что и нарочно не выдумаешь. В штыковом бою два чеха, два родных брата, встретились: один — наш, другой — австрийский; замахнулись друг на друга штыками, вскрикнули и бросились один другому на шею. И посейчас наш-то всем своего пленного брата показывает, все кричит: «мой брат!» Совсем помешался... А то — вон видите на том конце стола казачий сотник сидит, старик? У него же в сотне сын его служил, вместе они были. Ну, послали сына с десятком казаков на разведку. И разведка-то эта совсем не нужна была, — все это знали. Отправился. Его там первого и уложили. А тут немцы наступили, труп-то и остался у немцев. Так отец выпросил разрешение отбить труп сына, взял свою сотню и отбил, похоронил. Вот он сидит, всем об этом рассказывает, да теперь уже и говорить не может: начнет говорить — и заплачет.
Помолчали.
— Приам! — сказал Валерьян, с любопытством по-смотрев на казачьего сотника с широкой седой бородой во всю грудь. — Вы читали Гомера? осаду Трои? Только Приам выпрашивал труп сына, а этот взял с бою.
Офицер, казалось, не понял. Вздохнул, опять закрыл глаза ладонью и повторил печально:
— Сколько горя! сколько горя!
—- Куда же вы едете?
— В Россию,., Отправляют на отдых. Нервы пошатнулись... Оправлюсь — опять на войну поеду.
— Да вас, может быть, совсем освободят?
— Да нет! Только бы нервы привести в порядок. Такое время пришло... Немцы-то приготовились... у них техника, везде дороги... артиллерия какая! А у нас... — Старик махнул рукой.
— Да, — подтвердил Валерьян, — война застала Россию неготовой.
— Непопулярная война... Никто не знает, за что де-ремся. Но что же делать? Приходится воевать. Вы, я вижу, с санитарным поездом? Тоже и ваше дело нелегкое... В Тарново едете?
— Да, за ранеными.
— Там еще бой... неразбериха идет... Ну, мне пора в поезд. Позвольте уж в таком случае отрекомендоваться!
Старый офицер встал, назвал себя и пожал руку Ва-лерьяна. Глубокая грусть звучала в его голосе. Прихрамывая, в потертой шинели, шаркая ногами, он стал спускаться с лестницы.
«Такие не побеждают», — подумал Валерьян, смотря ему вслед. Остальные, вместе с казачьим сотником, тоже встали и направились к выходу.
Валерьян быстро покончил с обедом и пошел побро-дить по городу.
На площади перед вокзалом стояла грязь непролазная. Когда-то была здесь мостовая, но ее давно вдавили на четверть аршина в землю: войска проходили. Навстречу, по широкой, прямой, грязной улице шло безоружное бледно-синее австрийское войско.
Австрийцы шли беспорядочной толпой; вели пленных человек пять русских солдат с ружьями. Мелькали разнообразные лица, пожилые и совсем юные, но все исхудалые, измученные, в изорванной амуниции, стоптанных башмаках, некоторые с одеялом на плече.
— Сколько человек? — спросил Валерьян встречного конвоира.
— Восемьсот пятьдесят! — на ходу, не останавливаясь, отвечал солдат.
— Откуда ведете?
— Из Тарнова!
Прошли, и опять обнажилась безлюдная, пустая улица. Кругом ни души, ни звука, ни пешехода, ни извозчика.
Большие дома, шикарные отели стояли безжизненные: окна изнутри были закрыты ставнями или опущенными шторами, двери заколочены, магазины заперты. Стало тихо и мертво кругом. Валерьян сделал несколько поворотов, миновал главную улицу и наконец попал на окраину. Здесь оказалось еще грязнее и пустыннее. Изредка кое-где мелькали странные темные фигуры в рваных длиннополых костюмах, да и те, завидя чужого человека, тотчас же испуганно исчезали: это были местные жители.
«Зачем они тут остались? — думал Валерьян, шагая по грязной, кривой и узкой улице. — Что делают, чем питаются эти одичалые от горя и голода люди? Есть ли у них какие-нибудь надежды на что-либо? Вряд ли. Им просто не на что, некуда и незачем бежать. Ни от кого они не ждут себе добра, и нигде не будет им лучше. Богатые люди — те все уехали».
В воздухе с небольшими промежутками сухо и жестко перекатывались отдаленные пушечные выстрелы, напоминавшие уходящую грозу в степи.
Вернувшись на вокзал, Валерьян нашел свой вагон, на ступеньках которого сидел маленький студент-санитар и ел из жестяной чашки кашу. На соседнем пути ожидал своего отправления теплушечный поезд. У раскрыли теплушки стоял человек необыкновенно высокого роста, в полушубке и папахе, и весело болтал с юношей.
— Вчерась австрийцы в Тарново, в город, стреляли из тяжелых орудий. Громыхали так, аж во всех домах стекла звенели. Всю ночь никто глаз не сомкнул, елки зеленые!
Несмотря на сбритую бороду, Валерьян узнал его, да и трудно было не запомнить великана.
Маленький студентик по-ребячьи аппетитно уплетал кашу и радостно улыбался.
— А вы куда едете?
— Да туда же опять возвращаюсь. Приезжал казенные вещи принять.
— В самый город стреляли?
— В самый что ни на есть. Больше, впрочем, целили в железнодорожный путь и на вокзал. Да ни разу не попали: плохо стреляют австрияшки.
— Это значит, что мы под обстрел едем, — ликовал студент, забывая о каше. — Великолепно!
— Да, если и сегодня стрелять будут.
— Прекрасно! Я бы очень этого желал, но, конечно, при том условии, чтобы в меня не попало.
— А уж это — как придется.
Вдали, чуть слышно, как вздох чудовища, прокатился густой выстрел.
— Эх, елки зеленые! — ухмыляясь, кивнул головой великан.
— Это вы, Святогор? — спросил художник.
— А вы почем меня знаете?
— Знаю, видел в Москве... Ну, что, сопровождаете солдатские вещи?
Святогор весело засмеялся.
— Да я уж давно этим делом занимаюсь: отвезешь в окопы — и назад, за новой партией. Вроде маркитанта или каптенармуса стал... Вот и теперь ждут меня в окопах солдатишки.
— А сейчас откуда?
— Да с позиций же, из окопов. Зябнут солдатишки- то, чтоб им!
— Ну, что, как там в окопах? Хорошо?..
— Ничего, весело живем. Хо-хо! Удивительный народ наши солдаты, без смеха на них смотреть невозможно. Например, шлепнулась как-то шрапнель недалеко от меня, подняла целый воз земли на воздух, а вместе с землей барабанщика и кашевара. Барабанщик перевернулся в воздухе и опять встал на ноги, отряхнулся, глядит — а кашевару-то ползада оторвало. Хо-хо! Протер глаза, поглядел вот эдак, сказал: «Жалко парня!» — и пошел по своему делу. Ну, не черти ли? Спокойно так сказал, Ах, елки зеленые!
— Страшно, чай, когда шрапнель? — спросил сту-дентик.
— Ну, как сказать! У нас под Перемышлем теперь ко всей этой пальбе так привыкли, что только разве когда чемодан пролетит, так смотрят. Телятами их зовут. Летит эдакий теленок из четырнадцатидюймовой тетки — хо-хо-хо! — видно его всем, занятно. А на шрапнель давно никто внимания не обращает. Выучились по звуку различать, которая разорвется и которая — нет. Отлично разбираются, и редко когда под выстрел попадают. Ежели в поле — всегда успевают отбежать... А вот вам не анекдот, а истинный случай: сидит солдат на корточках, оправляется около рва. Вдруг над ним шагах в четырех позади — трах! Так он, мерзавец, даже не привстал, только оглянулся — вот так — и опять сидит... Анекдот!
Великан был чуть-чуть навеселе, поминутно прерывал рассказ густым смехом, похожим на лошадиное ржание.
— Неужели все-таки не страшно? — удивился Валерьян.
Рассказчик внезапно стал серьезен, задумался немного.
— В подобных случаях — никому!.. Ну, а во время штыкового боя — один раз ходил и я добровольцем — так тут как есть ничего не помнишь... как в тумане... Водки дают перед боем, она в голову ударяет. Страх же является после, когда вспоминаешь и вспомнить не можешь, да еще вот когда в атаку идешь мимо убитых и раненых. Тут, знаете, привыкаешь не смотреть на них. Нарочно не смотришь, потому что привыкнуть к этому все равно нельзя, только и можно, что не смотреть. Ну, ничего, — идешь.
Вам приходилось убивать людей в бою?
Святогор замялся.
В бою — нет... Велик я очень, мишень большая. Я раненых таскал на себе... Один раз перед боем, вроде шутки, в единоборстве участвовал, без оружия, просто сказать — по-цирковому боролись один на один с немецким силачом... в обнимку... во время двухчасового перемирия... между окопами.„
— Ну, и кто же сдался?
Святогор смутился.
— Не хочется рассказывать... Здоровый попался не-мец, пониже меня, но в плечах — как бык... Очень злобно боролся... ну, унесли его на носилках: хребет у него, значит, повредился.
— Какое зверство! — содрогнулся студентик.
— Да я и не люблю вспоминать... Ну, сами немцы затеяли, кричат из окопов по-русски: «Рус! вот у нас силач есть, выставляйте своего». Эх, елки зеленые! я и вышел... Само собой, на войне вежливости мало, нежничать не приходится. Посылают иногда набирать подводы в обоз. Едешь верхом по дороге. Где их взять, подводы эти? Встречается мужик в телеге — сто-о-ой! Заворачивай! Он — то и се, кланяется, молит, денег не берет, только отпусти его. Боится. Э, елки зеленые, за- во-ра-чивай!.. Хо-хо-хо! Ведь война, а не что-нибудь.
— Теперь опять в окопы? — спросил Валерьян.
— В окопы... Из Тарнова ворочусь на Перемышль, а там на лошадях с кладью ехать верст двадцать только... По плану придется искать пункт, да горе мое — плохо я разбираю чертежи эти, поискать надо кого пограмотней.
— Хотите, я поеду? — предложил Валерьян.
— А что же... коли отпустят вас...
— Я добровольный санитар.
— А верхом ездить умеете?
— Умею.
— Ну, тогда в Тарнове встретимся и поедем.
Паровоз внезапно и сильно дернул все вагоны, так
что студент едва удержался на ступеньках и полез в вагон. Валерьян вскочил на ходу и помахал шапкой Святогору. В вечеру подъехали к большому вокзалу со множеством путей и стоящих на них санитарных и товарных поездов. За вокзалом — город. В воздухе под вечереющим небом, не умолкая, перекатывались пушечные выстрелы, но не так близко, как рассказывал Святогор: вероятно, австрийцы отступали. Кроме пушечных выстрелов, где-то слышалось характерное жужжание. Находившиеся на перроне солдаты и санитары смотрели в небо. Над вокзалом летел аэроплан. Он был, как коршун, коричневого цвета, с остро срезанными концами крыльев, летел невысоко и быстро — над головами толпы, удаляясь за город, где на горизонте виднелись позиции.
- Австрийский! — говорили кругом. — По крыльям видно, что не наш: таубе!
— Вот — бросит бомбу.
— А что ж, и бросит.
— Нет, он на позицию летит, к своим возвращается. Нам-то теперь уж нечего бояться — пролетел.
Самолет быстро промчался над вокзалом и, удаляясь, летел над полем. Вдруг в поле, далеко от города, когда аэроплан казался издали птичкой, взлетел под ним от земли кверху большой столб дыма.
— Бросил-таки бомбу в окопы, проклятый!
На пушечные выстрелы, мерно катившиеся издалека, никто не обращал внимания.
Валерьян пошел в город, бесцельно поворачивая из одной улицы в другую. Начинало смеркаться.
Тарново оказался захолустным старинным городом в средневековом стиле. Попадались дома древней архитектуры, с почерневшими, поросшими мхом черепичными кровлями, с рисунками на стенах и орнаментами шестнадцатого века. Некоторые из них он зарисовал.
На тротуарах толпились люди.
Уже совсем стало темно, когда Валерьян вышел на маленькую, глухую площадь, окруженную средневековыми домами, посреди которой торчало странное четы-рехугольное здание с круглой старой башней стиля рыцарских времен. У приземистых полукруглых ворот стоял полицейский в австрийской форме и на вопрос художника ответил, что это — ратуша.
Валерьян попросил провести его на верх башни.
Страж достал ключи огромного размера и повел художника по темной винтовой лестнице на самый верх башни, где висело два небольших, почерневших от времени колокола. Валерьян долго смотрел оттуда на Тарново - второстепенный польско-еврейский городок, века живший маленькой жизнью захолустья, отныне исторический юрод ожесточенных битв мировой войны.
Художник-санитар едва отыскал свой поезд: его отвели на другое место после маневров. Кучка людей с фонарем несла кого-то на носилках.
— Кого песете? — спросил Валерьян.
— Аленушку, - ответил маленький санитар.
— Что с ней?
— Смерть! — добавил высокий. — Под шрапнель попала.
Издалека катились глухие громовые раскаты тяжелой артиллерии. И каждый раз после пушечного вздоха высоко в небе разрывались и молниями струились по черному небу летящие золотые звезды, вспыхивали, рассыпались и гасли одна за другой. Похоже было на иллюминацию.
— Хо-хо-хо! елки зеленые! Да ведь мы не туда попали, Валерьян Иваныч! Вот так клюква!.. Стой!., заворачивай!.. Ну и погодка!
Святогор остановил своего огромного, худого коня и, сдвинув покрытую снегом папаху, посмотрел кругом из-под рукавицы.
Шел крупный, густой снег. Дикое, мертвое поле было одето серебряной пеленой, как саваном.
Усталый конь опустил голову, нюхая снег. Гигант на великане-коне казался привидением.
— Ни зги не видно, — сказал Валерьян, кутаясь в бурку и поднимаясь на стременах. — По плану тут скоро должен быть железнодорожный путь.
— Вот те и по плану!.. С дороги сбились!
Три подводы, нагруженные теплыми солдатскими вещами, следовавшие за ними, остановились. Четверо всадников в башлыках, с винтовками за спиной, неясно маячили позади. Снег валил крупными, пушистыми звездами.
— Слезай, Валерьян Иваныч, пойдем пешком, дорогу поищем, а они постоят покудова... Ехать опасно. Пес ее знает, где мы: еще в плен попадешь!.. Кажись, подъем виднеется. Не насыпь ли?
Слезли с коней, привязали к передней телеге. Валерьян сбросил бурку.
— Стой, ребята! Остановка. На разведку пойдем.
— Заплутаетесь... Винтовку возьмите!.. — слышались глухие голоса. — Что же, стоять, что ли?
— Полчасика подождите. Поглядим вон за тем бугром.
Голоса отвечали недовольно. Кто-то крепко выругался. Фигуры Святогора и художника, казавшегося ребенком рядом с великаном, скоро исчезли за снежней пеленой. Пройдя несколько минут, Валерьян оглянулся: подводы и всадники словно растворились в снежной стихии.
— Далеко не пойдем, — сказал Валерьян: — заблудиться можно.
Пройдя с полверсты, поднялись на бугор.
— Ах, елки зеленые, да ведь это насыпь и есть! Она! — бормотал Святогор.
Взойдя на железнодорожный путь, остановились.
— Ну, как же теперича выходит по плану? Где мы?
— Лишнего дали. Назад надо вдоль пути, там искать хутор брошенный. Это и будет пункт.
Что-то бухнуло и тотчас же завыло в воздухе.
— Шрапнель!.. Гляди в оба! — встревоженно прошептал Святогор.
Рядом с насыпью с металлическим визгом что-то разорвалось, целый столб земли взлетел кверху. Святогор присел и, разинув рот, растянулся, кувыркнувшись в снег. Вслед за ним прыгнул с насыпи Валерьян. Во рту у него сразу пересохло, в груди похолодело, дыхание остановилось. Глотая воздух, он уткнулся в снег.
— Лежи, лежи! — шептал Святогор, поднимая голову из снега: лицо великана побелело. — Сейчас вторая будет!
Опять бабахнул отдаленный гром, и через несколько мгновений над их головами с противным, злобным визгом разорвалась вторая шрапнель.
— Ну, теперь в середку возьмет — и крышка нам. Бежим!
Разом вскочили и побежали. Святогор махал саженными прыжками, взрывая снег сапожищами. Валерьян старался догнать его и вдруг упал... Взвизгнуло в воздухе, во pry опять пересохло. Он ткнулся лицом в снег и стал глотать его.
- Ползи... ползи! — шипел приглушенный шепот Святогора На брюхе ползи!
Валерьян чувствовал слабость в руках и ногах. На момент он потерял сознание, но усилием воли очнулся, пополз, взрывая снег обмерзлыми руками и коленями.
Снова грохнул далекий густой звук. Четвертая шрапнель взвизгнула но другую сторону насыпи.
— Бежим! заорал Святогор.
Сколько времени они бежали по неглубокому рыхлому снегу, Валерьян не помнил. Выстрелы прекратились. Обоза на прежнем месте не оказалось, но их встретил солдат из охраны, побежавший навстречу, как только завидел их. Он кричал, показывая рукой в лощину: сквозь завесу падавшего снега чернели возы с людьми около них.
— Отошли под прикрытие, — сказал солдат. — Ну» как? Никто не ранен?
Разведчики не отвечали.
— Стой! Дай дух перевести. Чуть живы остались. — Святогор снял папаху, вытер пот рукавом, вздохнул во всю глубину своей необъятной груди. — Ну, теперь ай- дате!
Побледневший Валерьян молчал, сплевывая тягучую слюну. Ему было стыдно сознавать только что пережитый припадок животного страха под выстрелами. Так вот она — война: никаких врагов, одни шрапнели. Вспоминал, что, отправляясь на войну, желал смерти, но, едва встретившись с ней, убедился, что совсем не хочет умирать: падал, ползал, бежал, лишь бы только спасти жизнь.
— Глупо! — хмуро бормотал он, шагая рядом с сол-датом и Святогором.
— Трясина! — спокойно сказал солдат великану. — Залез на бугор, каланча этакая... Тебя, небось, за десять верст видно.
— А ты бы сам понюхал шрапнели, — огрызнулся Святогор. — Смеяться неча — смерть видали! Как начали палить, елки зеленые! — струхнули, конечно. Зато дорогу отыскали... Страшно было, Валерьян Иваныч? Война ведь, а не что-нибудь...
— Устал я, — спотыкаясь, бормотал Валерьян.
— Едем до пункта! Недалече будто.
Догнав обоз, Святогор взобрался на своего высокого коня, напоминая Дон-Кихота на Россинанте. Лошадь шла тяжело, как с возом.
Валерьян неумело ступил ногой в обледеневшее стремя, конь попятился, и он упал. Осердясь, из последних сил вскочил в седло и ударил коня плетью.
Через час езды на пригорке завиднелся хутор: глинобитная халупа с высокой кровлей, густо занесенной снегом, и какие-то приземистые постройки рядом с ней.
Вечерело. Вьюга затихала. Валерьян ехал впереди, за ним высился громадный всадник, казавшийся фантастически преувеличенной тенью, конные солдаты и тяжело нагруженные возы.
Подъехали. Никто не встретил прибывших. Всадники спешились. Солдаты растворили полусгнившие ворота, ввели экипажи и лошадей во двор. На дворе слышались их грубые голоса, изрыгавшие русскую ругань. В холодной, нетопленной хате стоял покрытый пылью некрашенный стол, несколько табуретов, скамья и деревянная кровать с охапкой соломы на ней. На запыленном полу остались грязные, засохшие следы солдатских сапог.
— Этакий свинарник! — сказал Святогор, пролезая в низенькую дверь, для чего ему пришлось вдвое согнуться.
Выпрямившись, почти коснулся шапкой низкого потолка. Вошел, снял шапку и грузно опустился на скамью.
Валерьян лег на кровать и закрыл глаза.
— Спать... спать!.. — бормотал он.
— Постой, Валерьян Иваныч, не сварганят ли ребята поужинать чего? Рядом, надо полагать, кухня... Кашу сварят...
— Спать!.. — бормотал Валерьян.
С минуту он еще слышал голос и шаги Святогора. Потом все затихло. Казалось, что хата плыла и покачивалась, как корабль на волнах. Приятное изнеможение разлилось по всему телу. Перед закрытыми глазами Валерьяна понеслись бескрайные снежные поля, улицы разрушенных городов, вагоны, полные окровавленных ел. Потом явилось бледное лицо Наташи с закрытыми лгазами. Оно, близко подплыв к Валерьяну, стало удашься, все уменьшаясь, и наконец, превратившись в ветлую точку, исчезло. Валерьян провалился в тьму и вдруг заснул тяжким сном, без сновидений.
Проснулся от ощущения острого холода, открыл глаза и долю не мог вспомнить, где он, не мог понять, что с ним происходит. Голову ломило, во всем теле была слабость. Над головой в черной тьме горели яркие звезды. Различил маленькие квадраты разбитых окон, полуразрушенные стены, груду земли, соломы и обломков на полу. Остаток разломанного потолка висел над ним. Пахло пылью и землей. Валерьян поднялся, сел и чихнул. За стеной слышались грубые голоса. Вдруг вспомнил, что он лег спать в халупе с соломенной кровлей, Где же кровля? В неплотно затворенную дверь мелькнул слабый свет. Голоса зазвучали ближе... За дверью слышалась возня, топот тяжелых ног.
— Валерьян Иваныч! — различил он глухой голос Святогора.
Валерьян откликнулся слабым, простуженным голосом и опять чихнул.
Дверь затряслась от сильных ударов, упала. С фонарем в руках появился Святогор.
— Иваныч, жив ли?
— Жив. Что случилось?
Валерьян задыхался, сердце колотилось в груди. В глазах — словно песок. Полное бессилие во всем теле и невыносимая боль в голове.
Святогор, нагнувшись, направил на него блуждающий луч фонаря.
— Слава те, господи! Жив, ей-бо! Вот чудо!.. Ты заснул, а мы все в кухне легли.,,
Валерьян долго, с усилием вспоминал и спросил тихо:
— Где... крыша?.,
— Крыша? Xo-xo! Неужто не слыхал?.. Чемодан тут был, теленок этот самый. Пролетел, ну и задел маненько за крышу. Ну и разорвался за двором... Вылезай, брат, чего тут? Война ведь, а не что-нибудь!
Валерьян встал с постели, но вдруг закачался и снова упал на солому. В глазах потемнело, колючий озноб пробежал по спине, одолевала противная слабость, словно не было костей в членах.
— Спать хочу.., слать! Холодно!.. Кого несут? Але-нушку? Наташу несут!
Валерьян забормотал несвязно и бессмысленно.
— Э-э, — тихо и печально протянул Святогор.
Поставил фонарь, молча взял бесчувственного товарища в охапку и понес из халупы, согнувшись под косяком низенькой двери, тяжело и осторожно ступая через обломки и мусор. Голова Валерьяна моталась безжизненно.
Очнулся он от страшной жажды: смертельно хотелось пить. С трудом открыв глаза, увидел себя лежащим на нарах теплушечного вагона. Кругом рядами, в два яруса, лежали раненые, прикрытые казенными серыми одеялами. Пахло йодоформом, гноем и тем тяжелым запахом, к которому Валерьян привык, сопровождая раненых. Теперь он сам лежал вместе с ними на жестком соломенном матраце. Вагон покачивало, мерно и дробно стучали колеса. На стене мигала маленькая жестяная лампа, но сквозь щель неплотно задвинутой двери пробивался серый свет зимнего утра»
— Пить! — чуть слышно сказал Валерьян.
И вслед за ним, словно подражая ему, послышались слабые, страдальческие голоса:
— Пить! пить!
— Сейчас, — благодушно ответил знакомый голос. От двери поднялась темная фигура Святогора в мохнатой папахе.
— Всем по порядку, ребята! Я на хлеб, на соль не таков, а на воду разориться готов!
Он нагнулся над ведром, зачерпнул кружку и протянул Валерьяну. Больной с жадностью пил воду большими глотками.
— Полегче, что ли Валерьян Иваныч? Всю ночь в бреду был.
— Голова болит... жар у меня..,
— Контузило маненько, либо просто лихорадку схватил, застудился. Может, и тиф... Вот доедем до Львова, положим тебя в лазарет, там доктора разберут... Человек ты еще молодой, поправишься. Тут вот и похуже тебя есть раненые.
— Пить! — слышались со всех сторон жалобные го-лоса.
— Сейчас, ребята, всем хватит.
Святогор принял опорожненную кружку и стал поить остальных. Кругом лежали люди с забинтованными головами, руками, ногами; некоторые спали или были без чувств. Тяжело было дышать от тошного запаха.
Валерьян, напившись, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Голову ломило от непонятной боли, сердце стучало тяжело. По жилам струился жар, во рту пересохло, он сам чувствовал свое горячее дыхание, в ушах стоял непрерывный гонкий звон, тянуло ко сну.
Добряк - этот страшный великан, сломавший хребет немцу в «шуточной» борьбе. Нянчится как с ребенком, добровольно дежурит в вагоне.., Но что за болезнь? Контузия или гиф? Одна не лучше другого. Лишь бы добраться до Львова, а там — в лазарет... Кончилась поездка на войну,» Только бы не тиф!.. Он ничего не напишет Наташе, пока не выздоровеет... И ничего никогда не расскажет ей, как жалко закончились его военные подвиги..,
Поезд остановился у большой, оживленной станции. Слышалась беготня, голоса людей, свистки и лязг паровозов.
Дверь в вагон широко раздвинулась: в квадрате двери виднелось снежное поле и свинцовые облака над ним. Кто-то в кожаной куртке, заглянув, спросил:
- Свободные койки есть? Раненых принимайте! Кто тут дежурный?
- Я дежурный, — ответил Святогор. — Одна койка!
К вагону приставили лесенку. Свободное место оказа-лось рядом с Валерьяном. Два санитара втащили на но-силкам раненого, Это был молодой, красивый человек с черной подстриженной бородкой, с забинтованной голо-вой и шеей. Глаза его были закрыты. Крепко спал ранены.
Санитары, насколько могли, осторожно переложили новичка с носилок на койку. Спящий не проснулся, не открыл глаз, но высвободил из-под одеяла руку в белой рубашке и пытался сорвать с головы повязку.
В вагон поднялись офицер в папахе и сестра милосердия в черном костюме, в черной наколке, с красным крестом на груди. Она встала на колени и, наклонясь к раненому, взяла его за руку, щупая пульс.
- Это мой товарищ, кавказец, кавалерист, — сказал офицер. — Без сознания. Удивительной храбрости человек! Ранен пулей навылет в горло, Этой же пулей убит его денщик. Ехали верхом, и разом срезало с седел обоих одной пулей...
— Пульс слабый, — сказала сестра, подняв на офицера черные большие глаза. Лицо ее было очень красиво и грустно.
— Примите особые меры, сестрица! Ваш соотечественник и храбрый солдат... Я был свидетелем его храбрости.
— Можно впрыснуть морфий, — сказала сестра. - Больше ничего нет у нас... Очень слаб...
Она вынула шприц, обнажила смуглую руку раненого и сделала укол. Кавказец так и не открыл глаз, не пришел в сознание и все пытался в тяжелом сне, глубоко и прерывисто дыша, сорвать повязку с головы. Через минуту морфий подействовал: больной лежал спокойнее, дыхание стало медленнее, рука не поднималась к повязке. Офицер и сестра вышли из вагона. Мимо несли на носилках других раненых в другие вагоны.
— И зачем она ему морфий впрыснула? — сказал кто-то из раненых, лежавший в верхнем ярусе. — Надо бы камфары, а она — морфий! Сами не знают, что делают.
— А что? — возразил другой.
— Морфий — это последнее дело, — чтобы умереть скорее.
— Кому суждено, все равно помрет... Мне вот ногу по самый пах отрезали — и жив!..
— А у меня руки нет... В полевом лазарете некогда с нами возиться: раз — и готово!
— Her хуже, братцы, ежели кому челюсть оторвет! ни пить, ни есть не может, один язык болтается...
— Есть такой: в углу лежит.
— Куда все годимся? Лучше — смерть.
— Сколько народу каждый день убивают, калечат? А для чего — не известно.
— За Расею! А энтот кавказец — тоже за Расею? Что ему, чай, Расея-то?..
— За Расею! — послышался насмешливый голос сверху. — А когда снарядов нет, это — как? А кормят чем? А генерал Рененкампф — немец, и супротив немцев ему русскую армию доверили! Они послали ее к черту в болото, ратью гати замостил.
— Был слух — какого-то генерала за измену казнили. Всех бы их...
— Измена и есть. А войну прекратить! Да как не быть измене, когда царица — немка? Наши немцев поколотят — она плачет.
— Распутин, слышь, с царицей живет. А тут умирай за них, клади живот за этакую сволочь.
— Война? Зачем? — недоуменно повторял кто-то, — Мало, чо ли, у царя русской земли?
— У него-то много: удельная — вся его, а вот у мужиков нету.
— Воткнуть бы в землю штыки — и забастовать.
— Уж и так самострелов гонят видимо-невидимо: отстрелит сам себе ладонь — и ползет в лазарет.,.
— Ребята! — возвысил голос Святогор. — Прошу прекратить такие разговоры.
— А тебе что? Доносить будешь? Что с нас взять? Нам и так смерть приходит, видали мы ее. Нас смертью не застращаешь.
— Доносить мне чего же, я и сам — мужик, но только что — лучше прекратить. Зря болгать нечего. Вы на войне дрались, а я ведь затем только поехал на фронт, чтобы воинам облегчение сделать. Я, братцы, мужик безземельный, в цирке борцом служил, я умных людей всяких видал. Вы меня послушайте: не шумите, а ждите. Доподлинно знаю: скоро будет конец войне. Писатель один знакомый мне говорил.
— А ты видел, нешто, писателей?
— Эй, елки зеленые! да я у Льва Толстого был, с отцом Кронштадтским беседовал, у проповедника Илиодора в Царицыне жил: все правды искал. Я тертый калач, много чего видал.
—- Видать, что тертый калач. А Распутина видел?
— Очень даже хорошо знаком: запивоха, пьяница. Про войну очень матерщинно выражался. Про войну сказывают — прекратить надо.
— А не врешь ли ты, дядя?
— Что мне врать? Что слышал, то и говорю. Будет замирение всех народов, и образуется одно общее государство по всей земле, без царей и без помещиков.
Поезд сильно дернул и медленно пошел, постепенно увеличивая скорость.
Святогор задвинул дверь.
— Поглядеть, жив ли новый-то? Что-то больно тихо лежит.
Новый пассажир лежал неподвижно, с заострившимся, восковым лицом. Святогор подошел, приложил к груди ухо, вдруг снял папаху, сложил крестом руки кавказца и сказал:
— Кончился!
— Мертвого положили! — разом загалдели раненые. — Не хотим мертвого! Уберите его!..
— Рядом с мертвым лежать, в одном вагоне ехать?.. Бунт устроим!
Вагон галдел.
— Ребята! — старался перекричать всех Свягогор: — куды я его дену? Потерпите. На первой же станции заявку сделаю, тогда и снимут. А теперь куды же?
— Не хотим! Не желаем, чтобы с нами — мертвый.
Кто-то заплакал.
Святогор долго толковал с ранеными. Валерьян дотронулся до скрещенных на груди рук мертвеца: они были холодные. Чернобровое бледное лицо, обрамленное молодой бородкой, казалось еще полным жизни. Красавец-юноша. Вероятно, есть невеста, жива мать. Ждут его возвращения. А он вот лежит здесь бездыханный, безмолвный, словно задумался о чем-то. На глухой стан-ции зароют подле железнодорожной насыпи, и навсегда исчезнет глупый, несмышленый юнец. Стоит ли эта бессмысленная, грязная война всех бесчисленных молодых жизней, которые она ежедневно поглощает десятками сотнями тысяч? Валерьян не видал в ней ничего героического, красивого. Тупое, дьявольское истребление людей чудовищными машинами, посылающими невидимую смерть из-за десятков верст. И вот — грязные вагоны, в которых в мирное время возят скот, набитые обломками изувеченных человеческих тел, еще живых, страшно обозленных, потом — лазареты, братские могилы, много могил. Война безобразна, ужасна, преступна и бессмысленна. Может быть, и он, Валерьян, художник, любящий жизнь и людей, так остро чувствовавший радостные краски мира, погибнет, как червь, издохнув в каком-нибудь лазарете. Ведь он здесь — только раненый санитар, один из бесчисленных санитаров, — прислуга войны. Валерьян прежде книжно отрицал войну, теперь она вызывала в нем сознательный ужас, омерзение и ненависть.
Рядом с ним лежит холодный труп, который скора начнет разлагаться, и кто знает, не окажутся ли они все трупами к тому времени, когда остановится поезд?
Было душно от трупного запаха гниющих ран, от йодоформа, испражнений и зловоний десятков полумертвых людей и, заключенных в тесной коробке товарного вагона. Мертвый лежал, трясясь как бы от смеха, почти соприкасаясь с Валерьяном, когда вагон качало на стыках рельсом. Слабый свет сумрачного серого дня проникал только в маленькое, конюшенное окошечко под самой кровлей вагона. От вони и боли в висках и затылке кру-жилась голова, тошнило. Валерьян закрыл глаза. Его мысли скоро перешли в безобразный, кошмарный бред.
III
Наташа проснулась.
Хотела вытянуть руку — не слушается рука, пальцы затекли, не сгибаются; хотела шевельнуть затекшей ногой — не повинуется нога.
Вошла Марья Ивановна с полотенцем и тазиком: Наташа всегда умывалась при ее помощи, сидя в постели. С трудом поднялась, села.
— Знаете, Марья Ивановна, я отлежала руку и ногу. Потрите мне их хорошенько!
Марья Ивановна взяла безжизненную руку Наташи: рука была холодна и тяжела, как мертвая... Камеристка выронила ее, побледнела, разинула рот, чтобы сказать что-то, — и не могла. Задрожала вся. Наташа взглянула на это искаженное лицо и поняла.
— Позвоните доктору, Марья Ивановна, — спокойно сказала она.
Камеристка вышла, твердо стуча каблуками, а Наташа легла и тихо поглаживала правой рукой левую.
Пришла Варвара с притворной улыбкой. Наташа вздрогнула, спрятала больную руку под одеяло. Смутно вспомнила Наташа страшную сцену наедине с сестрой и содрогнулась, не зная, была ли эта сцена на самом деле или приснилась ей.
— С добрым утром, милая сестрица!.. Слышу, Марья Ивановна к доктору звонит. Опять припадок, что ли? — Варвара насмешливо прищурилась и засмеялась: — У Зинаиды тоже недавно припадок был.
— Надо Валерьяну телеграмму послать, — помолчав, сказала Наташа.
— Соскучилась?
— Всяко бывает... Что я тут? В тягость всем. Хочу в своей квартире жить.
— Правильно! Тогда и доктору удобнее бывать... Скоро старухи будем, а все родительское всевидящее око над нами пребывает...
Легкой, изящной походкой, элегантный, как всегда, вошел Зорин. От его привлекательной улыбки как будто сразу стало светлее в комнате. Все три женщины невольно но ответили ему радостной улыбкой. Наташа улыбалась своей особенной, единственной улыбкой, появлявшейся только для Зорина.
— Прежде всего — не пугайтесь! — начал он. — Серьезного ничего не может быть. Позвольте-ка ручку!
Он взял Наташину руку и вдруг нахмурился, но тотчас же улыбнулся, Наташа наблюдающе следила за ним.
— Так я и знал... Временная анемия. Это пройдет, только нужно делать ежедневный массаж. Я вам пришлю массажистку... Впрочем, нужно исследовать.
Лицо его приняло то вдохновенное выражение, которое так любила Наташа.
— Прошу! — театрально сказал он, делая жест, приглашающий остальных к выходу.
Оставшись вдвоем, Зорин и Наташа несколько секунд молчали. Оба не могли скрыть волнения.
— Скажите правду, — прошептала Наташа.
— Я вам сказал почти всю правду, — тихо ответил врач. — Но прежде всего — признайтесь: вы испытали неприятность, потрясение, ну, испуг, что ли?
Наташа отвела взгляд в сторону.
— Да, — сказала она шепотом, На глазах ее навер-нулись слезы.
— Что случилось?
— Этого даже вам не скажу.
— Хорошо. Вот вам правда: у вас легкий паралич, но...
Две слезы покатились по щекам больной.
— Клянусь вам, что я вылечу вас: в этой форме паралич излечим. Конечно, не сразу, пройдет много времени...
Наташа тихо вытерла слезы и долго не могла говорить. Потом сказала с неожиданным спокойствием:
— Николай Павлович.., я знаю, что умираю, медленной смертью..
Доктор сделал протестующее движение.
— Не лгите... перед таким страданием... Это оно загубило жизнь большого художника. Но моя смерть воскресит его... Ведь правда — он очень талантлив?
— Да, но во всяком случае... Что вы хотите сказать?
— Я хотела служить ему.., любила в нем талант,,, и — человека.., Ведь он хороший, добрый, — правда?
— Правда.
— Но как мужчину — никогда не любила!.. Нет в нем чего-то, что нравится нам, женщинам.
Доктор пожал плечами.
— Я этого не знала тогда... когда сделала выбор между и ним и другим. Ошиблась на всю жизнь... Только для того, другого, хотела бы жить!.. Вы знаете его?..
— Знаю, — вспыхнув, тихо ответил врач, близко наклоняясь к лицу Наташи и продолжая еще тише: — Он тоже ошибся и тоже несчастлив.
Глаза их встретились. Долго молчали оба — доктор и пациентка. Наконец он сказал:
— Прошлого не воротишь. По ошибке прошли мы... они — мимо друг друга и слишком поздно встретились опять...
— Слишком поздно, — повторила Наташа. — Я любила и люблю его, всю жизнь — его одного. Буду любить до самой смерти... Она уже стоит надо мной. Я умираю, милый... Поцелуйте меня в первый и последний раз!
Доктор Зорин наклонился и поцеловал больную долгим, нежным поцелуем. Наташа обвила его шею детски- тонкой, голой, почти прозрачной рукой.
— Ну, теперь идите!
Наташа спрятала лицо в подушку.
Зорин вышел.
В гостиной его ожидала вся семья: весть о новой бо-лезни Наташи заставила даже Настасью Васильевну явиться на семейный совет. В центре всей группы сидел Сила Гордеич. Отдельно от всех, у гардины окна стояла Варвара. Кронид, опустив голову, вил веревочку. Лицо старухи было скорбно. Сила Гордеич, изможденный, больной, задумчиво жевал губами.
— Скажите, доктор, что у нее?
— Удар, — жестоко ответил Зорин, садясь на Пододвинутый стул. — Паралич левой стороны в легкой форме. Жизни непосредственно не угрожает. Возможно, что больная даже поправится, не совсем, но отчасти: будет в состоянии двигаться по комнате. Полное восстановление вряд ли возможно.
Сила Гордеич покачал головой.
Все смотрели на доктора в ожидании.
— Что за причина?
Зорин замялся.
— Причины бывают разные, но в данном случае на почве болезни сердца катастрофа могла произойти от ничтожных причин: внезапное волнение, испуг, переутомление...
— Не получила ли письмеца от муженька? — с жесткой насмешкой спросила старуха, — Прислал недавно — прямо, как плач на реках вавилонских, и ждет, поди, что такое письмо мы ей отдадим? Не дрогнула рука написать!
— Никаких писем она не получала, - тихо сказал Кронид.
— Я ее спрашивал, — медленно говорил Зорин. По-видимому, был внезапный испуг, но при каких обстоятельствах — она объяснить отказалась,
— Не знает Ли кто? — спросил Сила Гордеич, обводя всю семейную группу хмурым взглядом поверх очков.
Все молчали.
Старик вопросительно переводил взгляд от одного к другому и наконец мельком взглянул на Варвару: она стояла, отвернувшись к окну, потом, не поднимая глаз, медленно вышла.
IV
В Киеве был разгар зимнего сезона. В театрах шли бенефисы, гастроли, благотворительные вечера. Рестораны сияли. В уличной, театральной и ресторанной толпе преобладали военные. Чувствовался тыл армии. Гостиницы были переполнены.
В поздний зимний вечер швейцар «Континенталя», отдыхая после дневной суеты, читал вечерние телеграммы, провалившись в кресле у дверей вестибюля. По случаю взятия Перемышля в городе разливанное море. Военные ходят гоголем, у всех папахи набекрень. А приезжих все прибывает. Всем «штатским» велено отказывать в номере, беречь свободные комнаты для военных.
Затрещал звонок.
Швейцар спорил внутреннюю дверь подъезда и, подойдя к запертой наружной двери, прислонил усатое лицо к зеркальному стеклу. Смутно виднелась фигура человека с чемоданом в руке.
— Нет номеров!
— С фронта! - повелительно крикнул голос снаружи.
Дверь отворилась, и в теплый вестибюль вошла, звеня шпорами, высокая фигура в занесенной снегом бурке, в башлыке и сивой папахе с кокардой.
Фигура сунула чемодан швейцару, сбросила башлык» обнаружив бледное, худое лицо с маленькой бородкой. На этом лице был отпечаток войны, как у всех, кто побывал в ее огненном пекле.
— Найдется номер?
Так точно. Как прикажете записать?
— Валерьян Семов, военный корреспондент.
Швейцар повел его наверх и, отворив угловую комнату, зажег электричество.
Валерьян, сбросив бурку и оставшись в кожаной куртке, сел за письменный стол, развернул лежавшую на нем газету. Мельком взглянул на объявления первой страницы. В опере шла «Мадам Ветерфлей» с участием Виолы Рубан...
Посмотрел на часы: можно еще застать второй или третий акт. Наскоро умылся, взглянул на себя в зеркало. Глянуло суровое, обветренное лицо, словно опаленное пожаром. Усмехнулся. Накинув бурку и спустившись вниз, вышел из гостиницы.
Оперный театр сиял близко, через улицу; над кассой висело объявление об аншлаге. Сквозь круглые закрытые двери доносились волны оркестра и золотистый голос Виолы.
Валерьян прошел за кулисы. Меж боковых декораций можно было видеть певицу в японском «кимоно». Шла сцена расставания: лейтенант покидал обманутую японочку. Красивый голос певицы звучал естественно, задушевно, и грустно..,
«А ведь у нее талант!» — думал Валерьян, смотря в упор на Виолу из-за кулис, но она не видела его, переживая любимую роль.
Тенор пустил финальную ноту, уплывая «в море сцена наполнилась металлом сильного голоса. Валерьян ожидал, что театр грянет аплодисментами, но их не следовало.
— И всегда он так! — прозвучал знакомый бас спиной Валерьяна. — Опять весь звук остался на сцене.
— Зато Рубан хороша... Первый дебют, — а как передает!
Валерьян обернулся: позади него стоял Василий Иваныч в парадном, фрачном костюме.
— Валерьян Иваныч! Откуда?
— Из Львова.
— Узнать нельзя. Исхудали вы.
- Волен был.
Занавес опустили. Публика громкими аплодисментами вызывала Рубан. Она помчалась на сцену бегом, как девочка, сияющая и прекрасная.
— Пойдем к ней! — подхватив Валерьяна под руку, сказал Василий Иваныч. — Вы попали на первый дебют Виолы. Поет, как никогда прежде не пела. Талантливая девчонка!.. Рада будет вас видеть... Она знает о вашем приезде?
— Я писал ей.
— А вот и Виола.
Со сцены с букетом в руке вышла певица, на миг ос-тановилась: радостно вскрикнув и подбежав к Валерьяну, положила ему руки на плечи. Глаза ее сияли.
— Валерьян Иваныч, наконец-то! Вот счастье!..
— Поздравляю с успехом, — сказал Валерьян, целуя ей руку.
— Я счастлива, пьяна, но не от успеха... Приехал! Боже мой, и какой бледный!.. Здоров ли?
— Теперь здоров.
— Ну, идемте в мой уголок! И вы, Аяров, тоже.
— Аяров — это мой псевдоним по сцене, — пояснил певец.
В уборной Виола опять взяла Валерьяна за плечи, долго смотрела в глаза.
— Я вас никогда не видел такой, Виола, — смеясьзаметил Аяров. — Вы столько тратите нервов сегодня, а ведь после спектакля предстоит концерт!..
— Ничего, я могу петь хоть до утра. Валерьян Иваныч, едемте с нами на благотворительный концерт!
Валерьян поклонился.
Виола, сидя перед зеркалом, поправляла грим.
— На сцену! — послышался голос за дверью,
— Последним акт, — сказала Виола, вставая, - Друзья, идите в публику, а потом подождите меня.
Аяров провел Валерьяна в директорскую ложу и сам остался с ним.
«Мадам Бетерфлей» была трогательна. Валерьян не сводил глаз с певицы: печальная история о наивной японочке, воображавшей себя женой иностранца, равнодушно бросившего ее ради другой, настоящей жены, вызывала невольное чувство сострадания. Но Валерьян думал о живой Виоле, о том волнении, с которым она встретила - его, вспоминал первое знакомство с ней полгода назад. Виола нравилась ему с первой встречи. Голос певицы рыдал, звенел призывом и слезами, но художнику чудился в резонансе этого голоса призрачный, властный шепот: «Ты мой!.. Ты мой!.. Даже после смерти моей.., Всюду буду с тобой!» Казалось, что за соблазнительной певицей следует невидимая тень другой женщины с печальным, укоризненным взглядом.
Валерьян вышел из ложи. Долго ходил по коридору. Спектакль кончился. Аяров пошел за кулисы, вернулся вместе с Виолой, уже одетой в бархатную шубку. Вышли втроем. Подкатил парный извозчик с коренником под голубой сеткой. Виола села рядом с Валерьяном. Аяров поместился на переднем сиденье.
— Пошел в клуб! — звучно сказал певец.
Сани понеслись по морозному снегу, синеватому от встречных фонарей.
Небольшой зал клуба был переполнен. Аяров пел трагический романс о всаднике с мертвым черепом, о смерти, властно попирающей поле битвы. Мрачный ро-манс, исполненный блестящим голосом, оставил сильное впечатление. Но чем ярче пел певец, тем тяжелее было Валерьяну слушать, хотелось забыть о войне. Особенно раздражало, что «об этом» поют перед нарядной, благо-получной толпой.
Было душно. Валерьян вышел в буфет, выпил рюмку коньяку. Думал о Виоле и Наташе, сравнивал их. Одна — больная, разлюбила его, отпустила на все четыре стороны, дала свободу. Другая, полная жизни, огня, молодости,— призывает к радостям новой любви. Что же мешает ему пойти навстречу ее призыву? совесть? верность законной жене, открыто и честно любящей другого? Мещанство или только жалость? Он почти реально видел призрак, враждебно смотревший на него во время пения Виолы. Может быть, сказывается контузия. Валерьян отошел от буфета и в дверях столкнулся с Константином.
— Валерьян Иваныч! Сейчас только узнал, что вы здесь, — смеялся Константин. — Нука, завернем, дернем по единой!
- Он подхватил родственника под руку и повернул обратно.
- Надолго в Киев?
- Нет, проездом. Еду на отдых домой,
— Пора! Я тоже собираюсь по делам, а потом обратно.
— Какие же дела у вас, Костя?
— Земский союз организовал на Волге фабрику. Солдатское сукно и одеяла в лазареты поставляем.
Константин махнул рукой.
— Пес с ним! Две рюмки водки или коньяку?
— Все равно.
— Заходите завтра вечером ко мне. Вот адрес. Большая квартира, вроде общежития. Все наши волжане, и Василий Иваныч там. Однако идемте Рубан слушать. Она тоже бывает у нас. Вы знакомы с ней?
— Как же, еще в Крыму встречались.
— Значит, придете? Поговорим тогда о домашних делах, а сейчас некогда... Ну, до завтра. Пишет Наташа?
— Потому и еду, что пишет: зовет домой.
Когда Валерьян вернулся, на сцене пела Рубан. Пела она одну за другой солнечные итальянские песни. Появление Валерьяна в ложе сейчас же заметила, и голос ее с той минуты зазвучал призывно: пламенный темперамент невольно зажигал, волновал и покорял слушателей. Валерьяну казалось, что Виола поет для него. Ее долго вызывали, заставляли бисировать.
Когда она ушла со сцены, Валерьян отправился в комнату артистов. Длинный стол был уставлен цветами и фруктами. Виола с пылающим лицом стояла с бокалом шампанского в руке. Аяров говорил шутливую речь. Константин тоже стоял с бокалом.
— За молодой талант, за ваше будущее! — закончил Аяров, чокаясь с Виолой.
— Вот еще с кем я хочу чокнуться! — звонко крикнула Виола, поднимая бокал, а другой поднося Валерьяну. — Пью за тех, кто, безоружный, добровольно переживал муки и ужасы войны. Кто не убивал других, но сам смотрел смерти в глаза. Пью за добрых и храбрых, за тех, кто любит людей.
Она выпила и уронила бокал на ковер.
— Я пьяна, — сказала она, вдруг угаснув и бессильно опускаясь в кресло. — И весело, и грустно мне.
— У вас драматическое настроение, — дружески шепнул ей Аяров,
Виола засмеялась.
— Должно быть, все еще роль переживаю. Художник, сядьте ближе ко мне, я так ждала вас! Слушайте, на сцене поют. Какая грустная песня!
Со сцены доносились звуки балалайки. Небольшой, приятный тенор пел русскую песню:
Как один купец рассказывал рассказ!
Один молодец девицу погубил,
— Это из цикла нижегородских песен, — пояснил Аяров.
На него зашикали.
Виола слушала, опустив голову.
Он с ее руки колечко получил,
Сам уехал, обещался замуж взять.
Сел в коляску, кони быстро понеслись
Виола крепко схватила горячей рукой руку Валерьяна.
— Домой! — резко сказала она. — Устала, скучно. Плакать хочется. — И, наклонившись близко к лицу художника, прошептала: — Проводите меня!
Валерьян подал ей шубу. Руки Виолы дрожали. На сцене замирало пение.
У подъезда Виола еще раз посмотрела Валерьяну в глаза. Она быстро вскочила в сани. Валерьян, садясь рядом, тихо спросил:
— Куда?
Вместо ответа Виола безмолвно склонилась к нему,
— В «Континенталь»! — неожиданно для себя крикнул извозчику Валерьян.
Виола вошла в номер гостиницы, как в свою комнату. Доверчиво, радостно улыбаясь, сбросила ему на руки шубу. Чувствовала себя победительницей, поправляя перед зеркалом прическу и любуясь своей красивой фи-гурой.
Валерьян смутно помнил, как к ногам Виолы легким облаком упало платье цвета зари, как он схватил и поднял на руки упругое, прекрасное тело маленькой женщины...
Наконец он открыл глаза: над его лицом склонилось пылавшее смуглым румянцем лицо Виолы, и серьезно, грустно смотрели большие потемневшие глаза с длинными, изогнутыми ресницами. Лицо ее казалось неподвижным, но из глаз волной вдруг хлынули слезы.
— Милый!., любимый!.. — тихо сказала Виола, — Люблю тебя... Пойду с тобой на все...
Замолчала, только теперь вспомнив о жене Валерьяна.
— Ведь она порвала с тобой, другого любит?
Валерьян вздохнул.
— Пока не выздоровеет, не брошу ее, — хмуро ответил он.
— И не бросай. Будь ей другом, а меня люби! Может быть, и я ее полюблю: она — живые мощи, а ты — живой человек, ты не можешь замуровать себя вместе с нею в могильном склепе. Это бывает только в опере «Аида», а жизнь — не опера. Тебе нужна свобода; ты художник, ты не имеешь права губить свой талант.
— Я люблю ее... и тебя! — тихо добавил Валерьян.
— Ну и что же тут особенного? Некоторое время будет у тебя две жены. Не ты первый, не ты последний. Она — твой крест, а я от тебя ничего не требую. Я только хочу спасти от гибели твой талант. Готова отдать все для тебя. Сколько лет ты любил больную, которая и любить-то тебя не может! Наверное, и того, другого, не по-живому любит. Должен же ты когда- нибудь вырваться из склепа! Я поступлю в московский театр, будешь приезжать ко мне. А лучше, если бы только заботился о ней, но не жил там, в провинции: там - погибель твоя. Ты сильный. Ты все вынесешь. Если же окажешься безвольным и слабым, я разлюблю тебя!
— Сильные выносят все, — возразил Валерьян, — но и они иногда надают. Слабые же никогда не несут креста. Вот и ты готова на жертвы для меня, а ведь тебе нужен сильный человек, который помог бы тебе подняться на гору. Я помню, ты так говорила,
— Мне — ты нужен... ты!.. Я не слабая. — Виола замолчала, потом усмехнулась. — Странно, о чем мы говорим! Ведь ты уже спас ее от смерти. Она почти вы-здоровела и даже другого полюбила. Чего же лучше? Миссия твоя кончена. Жена скоро выздоровеет, найдет свое счастье, и все будет хорошо. А мы с тобой, мой милый, любимый, начнем новую жизнь.
Валерьян обнял Виолу и повторил, по-шрежнему хмурясь:
— Начнем новую жизнь! Да, наверно, ты была бы хорошим товарищем мне.
— Чего же хмуришься? Ну, улыбнись! Мне нравится, когда ты смеешься.
— Я не способен строить свое счастье на несчастье других.
— А хотя бы и так, — тряхнув головой, резко сказала Виола. — Сказано — падающего толкни! Иногда это честнее, чем падать вместе с ним.
Валерьян хотел возразить, но Виола прильнула к его губам.
Сквозь опущенные гардины давно уже пробивался зимний утренний свет, доносился шум трамвая, в коридоре гостиницы слышались шаги проснувшейся прислуги.
— Посмотри! — сказала Виола, приподнимаясь и смотря на дверь. — Телеграмма лежит на полу.
Она вскочила и подняла просунутую под дверь бумажку.
V
Вечером под Новый год в доме Черновых ждали приезда Валерьяна. По этому случаю Наташа, не встававшая с постели, приоделась.
Много было хлопот Марье Ивановне, чтобы нарядить больную по ее вкусу. У Наташи явилась фантазия одеться художественно, чтобы произвести приятное впечатление на мужа. Она сидела, спустив ноги с постели, в платье цвета осенних блеклых листьев. В особенности много было забот и размышлений с прической: густые каштановые волосы Наташи Марья Ивановна долго завивала, ползая перед ней на коленях, достала где-то длинные оранжевые листья и ловко вплела их в волосы.
Вошел Кронид, ухмыляясь в бороду:
— Сейчас Валерьян Иваныч звонил!
Наташа вспыхнула.
— Оказывается остановился в гостинице, и спра-шивает: не можешь ли ты к нему приехать? Я, конечно, ответил, что не может, мол, и просил прибыть сюда, за-верил, что если он не хочет встречаться с Настасьей Васильевной, то это можно устроить... Все еще черные кошки между ними бегают, что ли?
Наташа покачала головой.
— Ах, Кронид, Кронид! Не в кошках дело. Ведь надо же нам о своих делах поговорить. И вообще я только ждала его, чтобы переехать на отдельную квартиру. А пока поживем в гостинице.
— Это скандал будет, — возразил Кронид. — Из собственного дома да в гостиницу!.. Силе Гордеичу обида. Что люди-то скажут! И без того Костя с Митей не разговаривают, жен их ты терпеть не можешь, Настасья Васильевна с Варварой Валерьяна ненавидят, Варвара напротив отца пуще прежнего злобствует... Прямо, как науки в банке.
— Вот поэтому-то я и хочу из дома выехать, Кронид. Ты забываешь, что я больна, что все это на нервы действует... Как тут жить? Для того и мужа выписала. Отдельно хочу жить, своей семьей... Ведь у меня еще Ленька есть, и ему нехорошо: издергают его, как нас всех издергали... Где он?
— У окошка сидит, отца ждет,.. Действительно, дергается весь от нетерпения.
Шаркающей походкой, в туфлях, но, как всегда, опрятно одетый, вошел Сила Гордеич, окончательно одряхлевший и высохший.
— Уйми ты своего разбойника! — недовольно ворчал он, обращаясь к Наташе. — Всю ночь мучился, не мог уснуть, а тут, наконец-то, нечаянно, сидя на стуле, задремал. Так нет — прибежал Ленька, кричит: «Папа приехал!..» Кто его просил будить-то меня, спрашивается?.. Полон дом народу, всякий делает, что хочет, а до меня — словно и дела нет никому.,, Эх! как было задремал-то хорошо!
— Никто не посылал его к вам, — отозвался Кронид. — Сидят все по комнатам.
— Вот то-то и есть, что по комнатам... Не дом — гостиница. Где же Валерьян? Или зря шум подняли?
За дверью послышались шаги и звук шпор. Вошел Валерьян в солдатской гимнастерке и высоких сапогах.
Войдя, он остановился против Наташи, радостно всплеснув руками. Лицо ее вспыхнуло густым румянцем, огромные синие глаза без блеска, оттененные черными ресницами, оживились. Осыпанная оранжевыми блеклыми листьями, в этот момент она как бы помолодела и похорошела, напомнив самое себя до замужества.
— Красавица! — смеясь, вскричал Валерьян и, опустившись на одно колено к низкой кровати, поцеловал руку жене.
— Ну, чем не рыцарь? — добродушно пошутил Кронид.
Прибежал Ленька в серой курточке, с наголо остриженной круглой головой.
— Я первый увидел, как ты на извозчике подъехал! — возбужденно кричал он, хлопая в ладоши.
— Ленька, помолчи! — строго сказал ему дед.
Валерьян поднял сына на руки, посадил к себе на
колени.
— Я же не маленький, папа!.. — Вырвался и сел рядом.
— Ну, конечно, вырос ты здорово, в гимназию пора.
Наташа улыбалась.
— Ох, как напугала ты меня, голубушка, телеграммой этой! Что случилось? Где у тебя паралич?
— Так, пустяки, — беспечно отвечала Наташа. — Ручка да ножка пошалили немножко, после — об этом. Теперь, Валечка, я вас больше на войну не пущу.
— Да уж довольно бы, кажется, — вмешался Сила Гордеич. — Пора бы — давай бог ноги: не до художества гам теперь.
— В газетах туманно пишут, — заметил Кронид, Слухи идут плохие. Расскажите-ка!
— До моего отъезда, — начал Валерьян, — наши гнали австрийцев, победы праздновали, а теперь пришли немцы и, как метлой, вымели нас из Галиции...
— Что же за причина?
Валерьян усмехнулся.
— Чудовищная артиллерия и — ядовитые газы. Читали, чай. Пустят вперед дымовую завесу, а потом ураганный огонь все сметает, железной гусеницей ползут... У нас не только снарядов — ружей не хватает. Задние ряды с голыми руками идут, брошенные ружья у мертвых подбирают... В тылу путаница: то снаряды не туда зашлют, то не того номера, или вместо снарядов черт знает что окажется... Началось это как раз после моего отъезда... Про измену слухи идут, — будто бы в нашем тылу немцы же все это устраивают...
Сила Гордеич, тяжело вздохнув, пожевал губами.
— Плохо будет, ежели союзники не выдержат.
— Союзники! — усмехнулся Валерьян.— Им тоже туго. Говорят, в Париже слышна немецкая канонада: тевтоны идут, земля дрожит под ними...
— Слов пет, великое испытание предстоит народу нашему, — задумчиво изрек Сила Гордеич. — Однако хорошо вы сделали, что вовремя уехали.» Чай, и без ваших корреспонденций обойдутся...
— Собственно, я уехал в месячный отпуск... Писал в газетах, ну, и рисунков много накопил...
— Хорошо заработали? — посмотрел Сила поверх очков.
— Не очень: рисунки мало использовал. Больше корреспонденции... Две недели в Киеве сидел, отписы-вался... Тысчонку вывез все-таки...
— Не густо! — покачал головой Сила. — Ладно, хоть цел остался!..
— Отпуск ваш я изорву, Валечка. Вы похудели, побледнели...
- Война-то, видно, не свой брат! — гыгыкнул Кронид.
- А на вашу тысячу квартиру снимем, — продолжала Наташа.
Сила Гордеич недовольно крякнул.
- Какую тебе еще квартиру? Плохо у отца-то?.. Чай, покудова и здесь поживете?
— У нас своя семья, папа.
— У каждого своя семья. Всем бы лучше одной семьей жить. Пойдемте-ка чай пить, а потом ужинать.
Валерьян вежливо, но холодно отказался. Сила Гордеич знал, что зять не в ладах с тещей и свояченицей, и не стал упрашивать.
— Папа, я поеду с ним нам надо поговорить, давно не видались, — заявила Наташа.
—- В гостиницу? — Сила пожал плечами. — Не по душе мне все это... Ну, да и то сказать, не разлучать же мужа с женой!
— А я-то один здесь останусь? — захныкал Ленька.
— Все поедем, — обняла Наташа сына: — и ты, и Марья Ивановна.
— В самом деле, дядя, пускай пока в гостинице поживут, — просительно сказал Кронид. — Какая уж тут встреча Нового года, когда настроение у всех — гы-гы!
Сила засопел и поднялся со стула.
— Просить можно, а неволить грех... Кронид, вели Василию лошадь заложить! Не того бы хотелось, — повернулся он к Валерьяну, — неприятно мне это. Ну, ничего поделать не могу. Живите уж, как знаете!
Он пожал руку зятю и, явно огорченный, удалился.
Кронид пошел в кухню отдать приказ Василию.
Наташа склонила голову к плечу Валерьяна, чтобы скрыть внезапные слезы.
— Плохо было без меня? — тихо спросил Валерьян, вдруг охваченный щемящей жалостью к ней.
— Плохо, — прошептала Наташа. Не покидайте меня... Вы мой единственный друг и товарищ...
Сила Гордеич, заложив руки за спину, прошелся по двум богато обставленным комнатам. В углу стояла приготовленная елка. Снова думал о своих детях и внуках, кряхтел и вздыхал. Литые зеркала от пола до потолка в безмолвии отражали громоздкую, тяжелую мебель и чахлую, согбенную фигуру старого миллионера,
— Уехали! — сказал вошедший Кронид, вынул веревочку, сел в кресло и начал расплетать ее.
— Не глядели бы мои глаза, — прорычал Силл Гордеич, со вздохом опускаясь на диван. — Скучища-то какая!.. Прожил век — сам не знаю зачем. Не только семейного уюта — спокоя не знал никогда, одни неприятности. Надоело мне все это хуже горькой редьки. Ну, скажи, пожалуйста, зачем они еще в гостиницу потащились? Срам один и оплеуха отцу! Дмитрия раз в год вижу, Константин — на фронте, а на Варвару и глядеть-то противно. Помру, чай, скоро — вот и будет всему конец...
— Ну, полно вам, дядя! Позвонить надо Мельниковым: не приедут ли? В картишки сыграем...
— Что ж, позвони. Да закуску вели собрать!.. Выпить бы...
— Ведь вам запрещено?
— Э! — Сила махнул рукой. — Все одно, надоело все. Забыться хочу. Семья моя развалилась. Россия гибнет. Беды ждать надо... Ну, иди-ка, позвони!..
Кронид встал, но в это время в передней затрещал звонок
— Кого еще бог дает? — удивился Сила Гордеич. — Не ряженые ли? Без карточки не принимать!
В передней, куда поспешно вышел Кронид, послы-шалось несколько мужских и один женский голос — как будто знакомые, чей-то басовитый, раскатистый смех.
Вошли — Крюков в полной офицерской форме, в эполетах и при сабле, с лихо закрученными усами, — совсем узнать нельзя стало купца-бородача, всегда хо-дившего в поддевке; за ним Константин и Мельников с Еленой. Давно не видал Сила племянницу; бледная, высокая, стала еще худее прежнего, в лице этакая тонкость появилась, а на висках преждевременная седина. У Мельникова отросли тараканьи усы и руки постоянно трясутся, еще с пятого года... Ребенок глухонемой у них, — тоже горе...
— Не ждали, Сила Гордеич? — шумел Крюков, обнимая старика. — Это мы нарочно — новогодний сюрприз вам.
Костя, усмехаясь, пожал руку отца без особых неж-ностей, как всегда.
— Как снег на голову! — дивился Сила, улыбаясь гостеприимной улыбкой. - Откуда?
— - Мы-то с Костей – с фронта, — не давал никому говорить Крюков, отстегивая саблю и зачем-то поставив ее в угол. — В вагоне встретились, да и залились сначала на ихнюю земскую фабрику: пригодится после... Рассчитали так, чтобы к вам на встречу Нового года попасть. Завернули к Мельниковым — и шасть сюда всей, значит, компанией. Рады ли, нет ли, а уж угощайте гостей...
— Рад! Как — не рад? Сидим тут с Кронидом, как два сыча. Глаз никогда не кажешь, — обратился он к Мельникову,
— Да все дела, — хихикая, говорил Федор: — по-ставками занимаемся. Дело хлопотное, ну, зато не без прибыли. Вот денежки вам привез!
— Какие?
— А должок-то, десять тысяч? К Новому году, говорят, обязательно надо долги платить. Хи-хи!
— За это спасибо! Долг платежом красен,.. Хороша заработал?
— Не жалуемся. Даже многие ненадежные люди взаймы просят.
— А ты знаешь пословицу: у тебя плачут да просят, а ты реви да не давай!.. Ну, пойдемте чаевничать.
К чаю вышли Настасья Васильевна и Варвара с детьми — девушкой на возрасте, похожей на мать, и студентом, приехавшим на святки из Москвы. Сын Варвары был чрезвычайно смугл, скуласт, горбонос и черноглаз.
— Совсем ты, Коля, татарчонком выглядишь! — сказал ему Крюков. — Ив кого это он у вас такой, Варвара Силовна, — в отца, что ли?
— А то в кого же еще? — рассмеялась Варвара. — Впрочем, это атавизм какой-то: в казанскую родню. Как будто из орды Чингисхана сбежал!..
— Как здоровье Наташи? — спросила Елена Варвару. — Все лежит?
— Какое — лежит! Муж приехал, так она к нему в гостиницу переехала.
— Что ж это — в гостиницу? — с осуждением сказала Елена.
— Им там лучше будет, — обидчиво заметила Настасья Васильевна.
— Удобнее, — подхватила Варвара: — есть где доктора принимать...
— Мы с Валерьяном вместе до Москвы ехали, рассказывал Константин.
Сила Гордеич насторожился. Намеки Варвары на доктора не нравились ему.
— Ну, что ты теперь про войну скажешь?— спросил он Крюкова. — Небось, опять революция мерещится?
— Шутки плохи, — воодушевился Крюков. — Я, ко-нечно, стою за войну до победного конца. Но все может быть, Сила Гордеич: момент критический!..
За столом стоял общий гомон.
— Ребятишки, пойдемте елку зажигать! Небось, танцевать хотите? Или хором петь? Так и быть, поиграю вам, — сказала Варвара.
— Все ступайте, — сказала Настасья Васильевна: — ужин буду накрывать, — И вышла распоряжаться по хозяйству.
Все перекочевали в гостиную. Зажгли елку. Варвара села за рояль. Начались танцы. Сила с Крюковым толковали о политике. Крюков опять развел рацею часа на полтора. После танцев запели хором.
Настоящего веселья никогда не бывало в доме Чер-новых. И на этот раз, как всегда, все внутренно скучали, кроме разве Мельникова, который искренне радовался, что расквитался с долгом Силе Гордеичу. За ужином мужчины по заведенному обычаю налегли на водку, и когда, наконец, пробило двенадцать и подали шампанское, Сила Гордеич неожиданно оказался вдребезги пьяным, — чего с ним давно не бывало. Сила Гордеич смутно помнил, как он целовался с Мельниковым, плакал и жаловался, что его любимая дочь «сбежала» в гостиницу, что Россия гибнет, а доктора Зорина он ненавидит. Говорил о завещании, вынул из бумажника ключ от несгораемого шкафа и все время держал его в зажатом кулаке. Он не мог больше пить, но благодарный Мельников насильно вливал ему дрожащей рукой в горло коньяк, обливая рубашку. Сила едва помнил, как его под руки, словно архиерея, отвели в спальню, уложили в постель, а пьяный Мельников лил ему, лежачему, в рот жгучую, липкую жидкость. Он икал, плевался и коснеющим языком бормотал бранные слова. Потом все стихло, и он заснул мертвым сном, но и во сне сжимал в руке маленький стальной ключик...
Вдруг он очнулся, поднял руку и наткнулся ею на холодные, тонкие пальцы, которые быстро выскользнули из его руки.
Сила Гордеич тяжело открыл веки: кругом была тьма, но из-за спущенных гардин узким лучом пробивался рассвет. Силе Гордеичу почудилось, что перед ним стоит темная женская фигура. Он не сразу вспомнил, где что с ним происходит. Вдруг блеснула мысль, что дверь осталась незапертой вчера. «Крысиная смерть!»— мелькнуло в его мозгу. Руки и ноги онемели. Огненная полна хлынула к затылку, лицо налилось кровью, из глаз брызнули искры. Сила Гордеич хотел вскочить — и не мог пошевелиться, хотел крикнуть — язык не повиновался. Женщина протянула руку, в молчании наклонилась к его лицу, и старик в ужасе узнал Варвару. Из груди его вырвались едва слышные, хриплые звуки:
— В-ва...ва...ва...
С глухим храпом он запрокинул голову, сухенький кулачок его скатился с груди, рука свесилась с кровати, выронила ключ и осталась неподвижной.
На другой день к вечеру в гостиницу приехали Зорин я Константин. Они вызвали Валерьяна в коридор и там сообщили, что Сила Гордеич тяжело заболел: вряд ли выживет, лежит без языка, отнялись рука и нога. Сказать об этом Наташе не решались, но Валерьяна просили поехать к больному проститься.
Когда приехали в дом Черновых, все было кончено: Сила Гордеич помер.
Весь следующий день доктор Зорин подготовлял Наташу к этому событию, истощив все свое красноречие; приезжал к ней три раза в течение дня с известиями об ухудшении здоровья Силы Гордеича, в то время как он давно уже лежал в гробу. Наконец она сама догадалась, что ее обманывают, что отца уже нет на свете, и заплакала.
VI
Первое, что увидел Валерьян на Невском, — это толпу зевак, стоявшую на мостовой и задравшую головы кверху: на крыше шестиэтажного дома стоял, как монумент, рослый рабочий с молотом в руке и бил им прикрепленного над фронтоном двуглавого орла с распростертыми черными крыльями, с золочеными головами и лапами. Наконец, двумя последними ударами рабочий оторвал гигантскую птицу от кровли, поднял обеими руками над головой и швырнул с высоты на мостовую. Перекувыркнувшись несколько раз в воздухе, орел тяжело грянулся о каменные плиты и, при восторженном реве толпы, разбился на несколько частей: одно крыло переломилось, другое все еще торчало кверху, золоченые деревянные головы лежали в грязи.
— Ур-ра-а! — кричала толпа, махая руками и шапками.
Некоторые пинали нестрашную больше птицу, топтали ее каблуками.
Валерьян шел посмотреть, что делается около Государственной думы, хотел взять извозчика, но извозчиков не было, трамваи не ходили, и от этого над прежним лихорадочно-шумным, многолюдным Петроградом повисла необычайная, несвойственная ему, почти торжественная тишина.
Улицы кишели народом, но ввиду отсутствия экипажного и трамвайного движения люди шли больше по мостовой, чем по тротуарам. Это не были прежние деловые, по горло занятые, хмурые и нервно напряженные петроградцы, всегда бежавшие куда-то, как на пожар,— по всем улицам столицы в странной тишине медленно, врассыпную, маленькими кучками, как муравьи, молча двигались люди в глубокой задумчивости, с опущенными головами, словно не знали, что им теперь делать, когда привычная для них жизнь опрокинулась и остановилась.
Все учреждения и магазины были закрыты, никто не работал, не делал своего обычного дела; все остановилось, задумалось: как быть, что делать?
Иногда из-за угла вылетал грузовой автомобиль, изукрашенный красными флагами, наполненный солда-тами или рабочими; они были охвачены воинственным весельем, потрясали оружием, иногда стреляли в воздух, как бы угрожая кому-то.
Валерьян вместе с толпой дошел до Таврического дворца.
Здесь творилось что-то невообразимое: все примы-кавшие ко дворцу улицы и переулки были запружены такими густыми толпами людей, стремившихся, по-види-мому, попасть во дворец, что происходила настоящая давка, Кого только не было в этой пестрой, неисчислимой толпе: солдаты, матросы, рабочие, интеллигенты, барыни, купцы, мужики, сновали автомобили, велосипедисты, всадники, — и все это в каком-то обалдении теснилось, толкалось, бурлило, вскрикивало.
Молодой офицерик крутился верхом на кавалерийской лошади в самой гуще толпы, поставленный, по-видимому, «наводить порядок», кричал давно уже охрипшим голосом, уговаривал, умолял, просил и наконец стал грубо ругаться.
— Господа граждане, да нельзя же так! Не лезьте! Сказано — нельзя! Слышите или нет? Дальше нельзя. Все равно не пропустят всех. Да вы что? Оглохли? Ведь ходынка будет! Это черт знает что такое!
Но толпа как будто не слышала этих беспомощных криков: густой лавиной, с покрасневшими от натуги ли-цами, с глухим, невнятным гулом, медленно и как бы помимо своей воли, движимая задними, все прибывавшими волнами, двигалась она к Таврическому дворцу,
Но там шпалерами стояли солдаты, никого не пропу-ская в образовавшийся между ними коридор.
Волна катившейся сплошной массой толпы принесла Валерьяна как раз к этому коридору и прижала за спинами цепи солдат. Он не мог никуда выбраться из толпы, даже если бы захотел уйти обратно.
В это время в проход к подъезду Государственной думы въехал шикарный автомобиль. Дверцы его раскрылись, и из автомобиля вылезло четыре человека; один из них был заметный, выдающейся наружности: высокий, худой, белокурый усач в черном пальто и круглой шляпе. Он стоял прямо против Валерьяна, и когда повернулся к нему лицом, художник невольно вскрикнул:
— Евсей!
Зоолог, увидав старого друга, почти задавленного з толпе, махнул солдатам рукой, на рукаве которой была красная повязка, и сказал им что-то. Тогда они рассту-пились, вытащили Валерьяна из толпы и пропустили к автомобилю.
— Какими судьбами? — спросил Евсей, расцеловав-шись с Валерьяном.
— Случайно попал в водоворот.
— Пойдем, я тебя проведу.
— А ты что за власть?
— Разве не видишь? — указал он на повязку и автомобиль одновременно. — Комиссар Николаевской же-лезной дороги. Хорошо, что ты мне попался!
Они свободно прошли между шпалерами охраны к главному подъезду дворца.
«Кулуары» Государственной думы напоминали теперь одно большое, всероссийское волостное правление: толпились рабочие, были и мужики в дубленых полушубках, валенках и лаптях, по типу напоминавшие «ходоков» царского времени. Слышались толки о разных «местных нуждах», с которыми, по-видимому, теперь потянулись со всей России к Государственной думе.
Деловито пробежали люди с портфелями и папками бумаг. За дверями, охраняемыми часовыми с винтовками в руках, происходило заседание Думы.
В коридорах толкотня, шум, говор, табачный дым и следы грязных сапог и лаптей. В Государственную думу «самочинно» пришел народ собственной персоной.
—- Ну, — сказал Евсей, — вот мы и встретились!
— Давно ли ты из-за границы?
— Совсем недавно. После расскажу. Сейчас мне надо на заседание, ты подожди меня: я скоро! Потом вместе поедем обедать.
Через полчаса он в коридоре отыскал Валерьяна, сидевшего на подоконнике и в качестве лишнего человека наблюдавшего общую суету.
— Едем! Ты, небось, в ресторане думал обедать? Шалишь, брат: все рестораны закрыты. Будешь обедать у меня, да кстати потолкуем... Жизнь, брат, началась треугольная!
Они пробрались к автомобилю и поехали.
— Ты один или семью завел? — спросил Валерьян.
— Мать и сестра со мной. Да еще двух приезжих друзей приютил! Коли хочешь, и тебе место найдется. Ты здесь как?
— Тоже недавно приехал из провинции по своим делам, в номерах живу.
— Перебирайся ко мне: квартира казенная, большая.
— Спасибо, но я ведь скоро назад поеду.
— Что так? Теперь здесь надо быть.
— А ты помнишь мои-то семейные дела, больную жену?
— Помню... Все еще больна?
— Разбита параличом. А отец помер недавно.
Евсей вздохнул:
— Все-таки выбирайся оттуда. Тут, брат, будут дела!
В квартире комиссара Николаевской дороги на Лиговке в ожидании хозяина на диване сидели два просто одетых человека и о чем-то спорили. В одном из них Валерьян узнал давосского редактора Абрамова, другой походил на рабочего: пожилой человек в синей блузе, в дымчатых очках и, по-видимому, слепой, — он ощупал кругом себя бегающими пальцами и говорил, как бы пуская слова мимо собеседника.
— Опять дискуссия! — засмеялся Евсей. — А вот я еще третьего привел.
— Ба! — вскричал Абрамов, — вот что называется — гора с горой!
— А это — старый каторжник, дядя Ваня, — пред-ставил Евсей слепого. — Художник Семов! Не слыхали про такого?
Слепой протянул худую руку мимо руки Валерьяна. Рукопожатие вышло неловким.
— Слыхать-то слыхал, — с бесстрастным, непод-вижным лицом ответил дядя Ваня, — да для меня это звук пустой: зрения лишен... Но думаю, что художникам временно придется отложить кисть в сторону. Надо контрреволюции ждать.
Евсей улыбнулся и с портфелем под мышкой вышел.
— Какая теперь контрреволюция? — вскинулся Аб-рамов, качая золотой своей бородой. — Ты пессимист, дядя Ваня. Конечно! Все идет великолепно. Россия удивит мир своей благородной, величавой революцией. Теперь только одно и можно сказать: «Ныне отпущаеши».
— Постой, оптимист!.. — ровным голосом, невозмутимо остановил Абрамова дядя Ваня.
Разговаривая, он не поворачивал лица к собеседнику, как это делают зрячие, а только привычно нащупывал быстрыми пальцами ближайшие к нему предметы.
— Постой! Неужели ты не сознаешь, что ты пьян? Пьян от революции, которая только еще вчера началась. Ты пьян от нее и поэтому так говоришь. Ничего не видишь перед собой, а я— вижу!
Слепой ощупывал перед собой воздух, быстрыми, чуткими пальцами как бы касаясь невидимых, неслышных струн, сидел с поднятой головой и, казалось, смотрел куда-то вдаль незрячими глазами, словно слушал что-то, неслышное другим.
— Будет контрреволюция! — спокойно продолжал он, медленно отчеканивая каждое слово. — В какую форму она выльется — не знаю, но что она будет, в этом нет сомнения. Черед теперь за ней, и видится она мне очень страшной и — кровавой. Нельзя ей не быть, и поэтому она — будет.
Он опять коснулся пальцами невидимых струн и, не поворачивая головы, закончил с оттенком шутки в ровном голосе:
— А ты — пьян. Да, пьян от преждевременной радости, и потому так говоришь.
— Дядя Ваня, ты упрям, как не знаю кто! Откуда будет контрреволюция, когда армия перешла на сторону народа? Пикнуть не дадут! Да ты знаешь ли, почему без крови весь переворот произошел? Ведь рабочие всею массой вышли на Невский, против них был выслан последний, самый надежный полк, — остальные все присоединились к восставшему народу. Предводитель этого полка, молодой офицер, должен был скомандовать солдатам «пли», но не сделал этого и присяге не изменил, а вышел вперед и застрелился! Это была единственная пролившаяся жертвенная кровь. Полк перешел через его труп к резолюции. Кто же теперь не сочувствует ей? Ведь самодержавие ненавистно всем классам, все хотят республики. За революцию стоят даже ее классовые Враги, даже те, кому она не выгодна и, кроме погибели, ничего не принесет.
— Так, значит, и офицеры сочувствуют революции?
спросил Валерьян.
Слепой иронически улыбнулся:
— Сочувствие их сомнительное и пролетариату не внушает доверия. Совершенно справедливо опасаемся мы их. Офицеры теперь прячутся по чердакам, переодеваются в штатское платье. Их разыскивают, арестовывают и оружие отбирают. Ты еще скажи, что и бывшие министры тоже стоят за революцию?.. Нет, товарищ Абрамов, все это еще только цветики, а ягодки будут впереди... Что же это была бы за революция, если после свержения самодержавия оставить по-прежнему старый строй?.. Нет, революция только начинается, а ты думаешь, что она уже кончилась... Она еще не раскачалась. А все эти дворянчики, буржуйчики, помещики, жандармы, полицейские — куда денутся?
Слепой поиграл пальцами и, помолчав, повторил:
— Будет контрреволюция!..
— Все еще спорите, — улыбаясь, сказал вернувшийся Евсей. — А чего бы спорить? Конечно, будет.
— Не верю, — сказал Абрамов, хватаясь за голову. — Не понимаю!
— Протрезвись! — усмехнулся слепой. — Ведь рево-люция не столицами ограничится, она и в деревне, по степям, по лесам и горам запылает. А ежели имущий класс по карману ударить, — как не быть встречной волне? Без сопротивления старый строй не уступит.
— Да, к этому идет, — сказал Евсей, придвигая стулья к столу. — Вот вам первый и очень важный признак: Государственная дума и Совет солдатских депутатов! Вы думаете — они поладят? Ничего подобного, уже начинается! Дума — барская, черносотенная, буржуйская — чего тут ждать? А уж этот Керенский! Положение его весьма треугольное... Был я сейчас в Думе — кавардак! Кто в лес, кто по дрова.
В комнату быстрыми шагами вошла седая старуха. Валерьян поднялся ей навстречу. Она взволнованно всплеснула руками.
— Валерьян Иваныч, голубчик! Вот уж не ждала с вами встретиться!
— В жизни много значит случай, Сусанна Семеновна.
— Ну, здравствуйте! Как времена-то меняются! Опять революцию переживать будем. Где вы живете теперь? Наташенька жива ли?
— Жива.
— А здоровье как?
Валерьян рассказал о здоровье Наташи, о параличе, о смерти отца.
Старуха охала и вздыхала.
— Ну, теперь по крайней мере наследство получит. Состоятельный ведь был отец-то?
— И на этот счет, кажется, дела ее неважны, — завещание старик оставил оригинальнейшее: почти весь капитал завещал в пользу государства!
Все подняли головы.
— Ай, батюшки, обезумел он, что ли, перед смертью?
— Я так и ждал, что отмочит ваш старик какую- нибудь оригинальную штуку, — со смехом сказал Евсей.
— С общественной точки зрения поступок похвальный, — развел руками Абрамов. — Ну, а детям оставил что-нибудь?
— Хитро поступил добрый старичок, — грустно улыбаясь, продолжал Валерьян: — детям завещал по сто тысяч каждому...
— Ого!
— Но с тем, чтобы деньги были положены в банк на четверть столетия!..
Все засмеялись.
— И лишь на воспитание детей завещал выдать по двадцать тысяч. Но дело в том, что наличных денег почти не оказалось: их еще надо взыскивать по закладным с дворян, заложивших ему свои имения.
— Пропащее дело! — махнул рукой Евсей. До суда ли теперь? Так ничего и не получили?
— Нет, двенадцать тысяч пока выдали, мы и купили домишко деревянненький. А денег нет никаких, кроме процентов... Вот и поехал я продать некоторые картины мои, а тут, покуда ехал, революция началась. Кто купит?!
— М-да! — промычал Евсей, — куда ни кинь — все клин. Буржуям теперь не до картин, правительство — временное...
— Значит, фактически весь капитал у должников, у дворян остался. Объегорили покойника: деньги получили, а земля при них.
— Ну, с землей-то еще не известно, что произойдет. Революция ведь! У помещиков отберут, мужикам разделят... Земельный вопрос затяжной будет, на десятки лет. Можно сказать, пропали тятенькины капиталы.
Евсей покрутил ус и вдруг сказал:
— А ведь я, пожалуй, просватаю твои картины, если хочешь... Где они у тебя?
— Часть — здесь, часть — в Москве, остальные к Крыму...
— Ты бы собрал их в одно место, а потом я тебе напишу...
Вошла высокая, красивая девушка с дымящейся миской в руках.
— А вот и Маша, моя сестра.
— Уж извините: прислуга по случаю революции рассчиталась, сами готовим, — заметила Сусанна.
— Мы знакомы, — возразила Маша, поставив миску на стол и радостно смотря на Валерьяна.
Валерьян пожал руку девушки.
— Как же, помню вашу услугу и не забуду никогда!
— Что вы, полноте! Мы с Машей так рады были тогда познакомиться с вами. Товарищи, прошу кушать и не бранить хозяек.
— Ба! — вскричал Евсей, обращаясь к Валерьяну,— чуть не забыл: письмо тебе есть. Почему-то на Государственную думу послано, я и захватил.
Он полез в боковой карман и передал измятое письмо.
— Не надо бы за обедом передавать, — упрекнула его Сусанна Семеновна. — Может, неприятное что в письме... Сколько раз я тебя учила, Евсеша! Лучше бы после...
Валерьян разорвал письмо, пробежал глазами и нахмурился.
— Действительно, неприятность, — пробормотал Валерьян: — в Киеве арестован брат моей жены.
— Это заика-то? — спросил Евсей.
— Нет, младший, Константин.
— Да, там еще старая власть в силе. Значит — жандармы?
По-видимому. Придется экстренно ехать, выручать.
— Да кто пишет-то? Верный ли человек?
— Человек известный, друг его, оперный артист.
Евсей задумался.
— Трудно теперь ездить: поезда идут битком, заедешь на юг, назад, пожалуй, не скоро выберешься. Ну, я-то достану тебе билет и даже мандат состряпаю с ко-мандировкой. Когда думаешь ехать?
— Завтра. Сегодня картину запакую и в Москву пошлю.
— Ладно! Приходи завтра к вечернему поезду, я буду на вокзале и все устрою. Мой совет— оборачивайся скорее и выбирайся из провинции... Дело с картинами постараюсь наладить... Запиши мой адрес!
После обеда Абрамов и дядя Ваня снова заспорили о революции. Валерьян попрощался и вышел. На Лиговке горел большой, многоэтажный дом, работала пожарная команда: Слышались выстрелы. На крышу дома лезли солдаты и пожарные: дымом выкуривали с чердака офицеров и полицейских.
VII
В Волчьем Логове в кухне за столом сидело человек восемь: кучер Василий, две горничных — Катя и Васена, четверо работников и в центре стола — наездник и охотник Игнатий. Толстая кухарка возилась около печи. Лысый Игнатий, пожилой мужик, с клинообразной рыжей бородой, с умным и хитрым лицом, изрезанным сетью тонких морщин, говорил нараспев, словно сказку рассказывал:
— Надоел он в царском дворце всем министрам и генералам, потому — изгилялся надо всеми, руку свою совал целовать, с трахту-барахту без музыки плясать заставлял — и плясали, бывалоче, генералы: значит, силу большую забрал у царя с царицей. Царица его за святого почитала, а он, значит, с ей жил, а царь, известно, пьяненький, смирный и не больно умен, попросту сказать — с придурью...
— Это царь-от с придурью? — недоверчиво спросила кухарка.
— А тебе что гребтится? — язвительно ответил Игнатий. — Всякие цари бывали, а энтот — дурак ли, нет ли, чтобы при своей живности простого мужика допустить вместо себя царством управлять? Коли с японцем воевали, живот-от, бывало, на Дальнем за его клади, подушны плати, а назад-от с его чего получишь? Гришка энтот был мужик совсем нестоющий, а так — испрохвала. Бают, бродяжка был беспашпортный, пьяница и шельма, по монастырям шатался, но, конечно, слово знал: без слова не напустил бы на них туману. Ну, прямо, не к ночи сказать, с нечистой силой знался.
Кухарка перекрестилась и плюнула наотмашь,
— Заговоренный был: ни топор, ни ножик, ни отрава и никакая пуля его не брали. Вот он и зазнался: пьянствовал и весь царский дворец облевал. А царица — она из немок, сроду русского мужика не видала, думает — так и надо: русский святой, дескать, блаженный. Все равно как и наши бабы — дураков али юродивых святыми считают... Только Гришка не дурак был, а колдун и плутяга. С бабой ли, с барыней, али с царицей — все едино: все бабы одинаковы, — с другой только визгу больше, а сласть одна.
— А ты будет! — прервала Васена. — Ты дело говори, не про баб!
— И про баб к делу говорю. Ну вот, значит, господам это больно не ладно показалось, — отшил он всех их от царя и царицы. Заманили его в доброе место да в вино яду подсыпали. Он выпил и — хоть бы хны! Только смеется. Из пистолета стрельнули — не берет пуля. Связали, рот заткнули да с моста в пролупь... Тут его нечистая сила под руки подхватила и не дала утонуть. А ночью дело-то было: как раз в акурат петухи пропели — черти-то и бросили его, пьяного. Однако чебурахнулся он с моста, а потом отудобел и говорит: «Без мене, говорит, не стоять Расее». Икнул и помер. С эстого все и пошло. Могилу народ обгадил, царь с горя запил, а тут армия взбунтовалась: мошенство везде! Теперича царя сместили, и значит, учреждается республика, а царь будет из большаков выбран...
— Каке-гаке большаки? — спросила кухарка.
Игнатий посмотрел на нее с головы до ног и с ног
до головы.
- Большаки — значит постарше которые, за народ стоят, больше прочих смыслят. Первым долгом у поме-щиков землю отберут и промежду мужиков разделят. И посейчас солдаты войну бросают и по деревням вертаются: землю делить!
— Без начальства не дозволют, — заметил Василий.
— Да какое теперь начальство, елова голова, коли царя нет, а министры в остроге? — искоса взглянув на него, возразил Игнатий. — В начальники выбраны солдацки депутаты...
— А Дума?
— Ну, и Дума тоже, только она со всячинкой: там господа да купцы сидят. Их не больно слушают. Покелева приказ разошлют, в деревнях самосуд идет. Ездил я по нашей округе — беды, что делается! Помещиков, значит, выселяют миром, а какая есть в дому имения — разделяют по совести: как, значит, помещики нынче строго воспрещенные и не жильцы на свете, то крестьяне есть им законны наследники. Одно негоже: бандиты появились.
— Какё-такё бандиты? — хором спросили слушатели.
— А пес их знает! Наедут в телегах и верхами, с винтовками, и ну грабить усадьбу. Ничего не дают мужикам. Им, сукиным детям, хорошо, а мужику где взять? Мужики на них, ежели сила берет, — с вилами. Случалось, скрутят им руки назад — ив город, к большакам отвезут. В городу большаки силу забрали. Ну, только что от бандитов вреда большая. А то куманисты есть.
— Вот тут и разбери их, — отозвался Василий, — которые большаки, которые куманисты. На лбу не написано!
— Царица небесная! — всплеснула толстыми руками кухарка, — что деется! Не всыпали бы нашим горячих пониже спины?
— Ну, нет, прошли времена! — сказал один из молча слушавших работников, молодой парень. — Мы им сами всыпим по перво число.
— Дык как же это, неужто и Черновых из фамильного дома выведут?
— Еще как!
— Вчерась, — продолжал Игнатий, — сельский сход был, и приговор всем обществом постановили: в помин души Силы Гордеича супруге его, Настасье Васильевне то есть, отвести в пожизненное жительство ихнюю избу, что рядом с домом пустая стоит, пять пудов муки на месяц и всего прочего, сколь ей потребуется до скончания жизни. Дом отвести под училищу, мельницу — в общество, лошадей, коров и всю живность поделить, а Дмитрия Силыча с супругой и Кронида Лексеича проводить в город честью. Вот каке дела-те!..
— Ну, — сказала Васена, — кабы Настасья Васильевна здесь была, она бы только подогом стукнула да сказала: «Выдьте все вон при моем виде!» — и вышли бы
Игнатий взглянул в окно кухни и радостно осклабился:
— Да вот он, староста, с крыльца идет. Значит, был уж, заявление сделал. Хочешь — не хочешь, а супротив народу не попрешь. Теперича — шабаш, кончилась наша служба, решился дом Черновых!
Бабы всхлипнули. Катя выскочила из-за стола и вы-бежала из кухни, раскрасневшись.
Кухарка грузно села на кровать и причитала в голос:
— Да и что же это деется? Куды мы все пойдем? Век свой жили в Логове.
Василий встал из-за стола, сказал строго:
— Чего ревете загодя? Что будя, то и будя... Я вот у Черновых служу двадцать пять лет — и выслужил двадцать пять реп!
— Замолчь, дуры! — прикрикнул на баб Игнатий.— Никакого понятия нет у вас. Тепереча лучше будя... Кончились помещики — значит наша взяла. Законны наследники — и баста! Все теперь наше.
В кухню вошел Кронид. Все замолчали.
— Что за шум, а драки нет? — сказал он сумрачно. — Василий, запрягай коляску: в город поедут. Ну и дела, ох, дела!..
Он проницательно обвел всех взглядом исподлобья и ушел.
Через полчаса на черное крыльцо вышли Дмитрий и Анна, одетые по-дорожному, у крыльца стояла коляска, запряженная парой серых лошадей, с Василием на козлах. Около кухонной двери безмолвно стояли Васеня с кухаркой и все работники. Игнатий озабоченно хлопотал около брички. Кухарка сморкалась и вытирала нос кончиком фартука.
Вышел Кронид и сказал:
— Ну, с богом!.. Завтра позвоню по телефону. Утро вечера мудренее. Да не волнуйтесь больно-то!.. Безусловно, обойдется все.
Дмитрий и Анна молча попрощались с ним и сели в коляску.
Игнатий снял шайку, поклонился отъезжающим:
— Не обессудьте на нас! — сказал он, разводя руками. — Завсегда были довольны вами. А теперича пришла свобода! Сами посудите: как, значит, мир, так и мы!
— Мир! Свобода! — передразнил его Кронид. — Не рано ли; самоуправничать начали? Будет закон — тогда другое дело, а без закону поступать — тоже и вас по головке не погладят.
— Трогай! — сказал Дмитрий.
Анна сидела молча.
Василий шевельнул вожжами, и коляска выехала в растворенные ворота.
У ворот стояла небольшая группа мужиков, баб и ребятишек. Все они молча глазели на отъезжающих, но шапок не снимали.
Когда коляска скрылась за мельницей, к дому подошли четверо мужиков солидного вида. Один из них с большой книгой под мышкой.
— Староста с понятыми идет! — заговорили в толпе.
— А то как же? Сначала все имущество в книгу запишут, а потом делить, сколько кому на каждый двор.
— Ладно ли будет? Как бы чего не вышло?
— Вот вздонжили! — огрызнулся Игнатий. — Как — не ладно, коли, значит, мы законны наследники?
Староста, белокурый, курчавый мужик, тот самый, который когда-то говорил речь на свадьбе Наташи, де-ловито прошел в растворенные ворота, сопровождаемый понятыми и хлынувшей за ними толпой.
На крыльце стоял Кронид.
— Ну что, опись, что ли, будете делать?
— Опись, Кронид Лексеич. Уж ты сделай милость, покажи нам все!
— Показать покажу, но только прошу, чтобы не начали тащить, что кому попало. Склока будет.
— Склоки не будет, Кронид Лексеич. Чай, мы не каке разбойники, прости господи, — обчествена комиссия! Нынче только все запишем — и боле ничего.
— Ну, начинайте.
— Да вот, скотину желаем поглядеть, конный завод.
— А в амбаре что?
— Это не амбар, а собачник, пустое дело!
— Отоприкась, це хлеб ли?
— Говорю, собак держим!
Едва Кронид отворил дверь амбара, как оттуда вы-скочил старый, седой, облезлый волк с цепью на шее.
Вся толпа шарахнулась от зверя. Волк на момент обал-дел от неожиданного и яркого дневного света, потом ощетинился, ляскнул клыками и, волоча цепь, в несколько прыжков очутился за воротами.
Толпа с криками и улюлюканьем побежала за ним.
— Это что ж такое? — спросил староста.
— Волк ручной, — гыгыкнул Кронид. — Цепь оборвал, проклятый!
— На что гада держите?
— А это еще Натальи Силовны забава была. Щенком взяли. В лес отпускали — назад пришел, пристрелить — вроде как жалко: к людям привык, ровно собака. Да и забыли про него.
— Пристрелить надо. Убежал вот, ищо задерет кого!
С реки слышались крики толпы.
— Пойду пристрелю, коли в поле не убежал, — услужливо сказал Игнатий. — Ружье-то есть у меня, пулей заряжу.
Кронид повел комиссию в конюшню. Игнатий рысцой побежал за ружьем.
— У-лю-лю-лю! — кричали парни и ребятишки на берегу.
Волк прыгнул в воду, поплыл. В него бросали камни.
Прибежал Игнатий с двустволкой, прицелился, два раза выстрелил, но не попал. Волк уже выбирался на другой берег, заросший густым тальником.
— Помирать отправился, — сказал стрелок, вскинув винтовку на плечо, и пошел обратно.
— А ты бы, дядя Игнатий, в лодку сел да переехал: он в тальнике! — кричали ему из толпы.
— Патронов нет, — махнул рукой Игнатий.
Еще издали, подходя к дому, Игнатий увидел длинный обоз пустых телег, стоявший перед усадьбой, и человек двадцать людей в серых шинелях и бараньих шапках, с винтовками за плечами. Они выносили из дому сундуки, корзины, узлы, ковры и грузили все это на подводы Дом оцепила стража с ружьями, взятыми на прицел.
Игнатий, побледнев, постоял минуту, подумал и бросил в траву двустволку.
Навстречу ему быстрыми шагами шел Кронид в косоворотке, выпущенной из-под жилетки, в мужицком старом картузе; за ним бежал Шелька, давно поседевший от старости, Кронид был бледен и тяжело дышал,
— Лодка где? — тихо спросил он Игнатия.
— У берега, — так же тихо ответил Игнатий. — Валяй скорее на ту сторону! Ежели увидят — у них расчет короткий... Иди потихоньку. Бежать-то хуже. Лодка — под яром.
Кронид кивнул головой и пошел к реке. Игнатий сутуло зашагал к подводам. Там был шум, говор, слышалась матерщина.
— Что же это будет? — галдели мужики. — Имение к нашему селу принадлежит, наших помещиков. А вы что за люди — нам не известно...
— Мы — солдаты! — рявкнул кривоногий человек в гимнастерке, с папахой на затылке и с револьвером у пояса. Лицо его со щетинистыми усами было обветренное, запыленное, с воспаленными глазами. — Мы кровь проливали! А вы что? Гужееды!
Игнатий протолкался к нему, снял картуз, заговорил умильно:
— Как мы есть законны наследники собственных наших помещиков, то канителиться нечего: предъявите ваш мандат!
— А это видал? — яростно визгнул человек в папахе, поднося револьвер к бороде Игнатия. — Вот наш мандат! — Он указал на вооруженных людей, стоявших у нагруженных возов и вскинувших на руку винтовки при его словах.
— Наследники! Всю деревню разнесем! На изготовку! — крикнул он людям в солдатских шинелях.
Звякнули ружейные затворы, ощетинились штыки.
Толпа брызнула в разные стороны. Из конюшен выводили кровных лошадей, привязывали позади телег.
Двое солдат вели под уздцы громадного гнедого коня, Испугавшись выстрелов, конь уперся в воротах и начал пятиться назад. Начальник отряда подошел, выстрелил ему в ухо. Лошадь грянулась оземь.
— Родненький! Семь тысяч плачен! — закричал Игнатий. — Цены нет коню! Народное достояние! Что делаете?
— Пошел, пошел! — крикнули на него. — Будешь галдеть — и тебе то же будет...
Кто-то ударил его в спину прикладом. Игнатий упал.
— Долой помещиков! — кричал предводитель неиз-вестных людей. — Камня на камне не оставим! Спалить проклятое гнездо, чтобы духу не осталось, чтоб не во-ротились!
Кронид подплыл в лодке к тальнику на другой стороне речки и, отводя густые ветви кустов, протолкнул лодку к берегу. Вдруг он вздрогнул и невольно отшатнулся: в кустах, наполовину в воде, висел на цепи волк. Кронид потолкал его веслом: зверь издох, удавившись запутанной цепью.
Кронид сидел в лодке, скрытый кустами, и смотрел на покинутый берег. Видно было высокую, четырехэтажную бревенчатую мельницу, плотины и мрачный дом Черновых, заслоненный высокими старыми акациями. На берегу толпились деревенские ребята, слышался печальный, тонкий вой собаки: выл Шелька, которого Кронид позабыл взять с собой. Да и куда его? Начал бы лаять, навел бы на след. Станут искать — и найдут Кронида. Вдруг Шелька завизжал: ребятишки поймали его, взяли на руки и несут к воде, слышно, как кричат:
— Буржуй! В воду его! Ишь, жирный какой!..
— Пущай плывет к хозяину!..
Раскачали за ошейник и с хохотом бросили в реку.
— Плыви, Шелька!..
— Всех бы их утопить!
Шелька бултыхнулся в воду, вынырнул и поплыл обратно к берегу, но в него стали кидать камнями...
«Утопили!» — вздохнул Кронид. Стало жалко старого пса, которого помнил щенком. Ну, а он-то, Кронид, куда свою жизнь ухлопал? Весь век свой берег чужое добро, а сам остался бедняком, сторожевым псом, вот как Шелька, если не хуже. «Старшим дворником» дразнили хозяйские дети — Дмитрий, Константин, Варвара... Вырос в этой семье, любил ее с детства, а за что, собственно, любил-то? Не иначе, как за Логово, где прошла молодость, одинокая, без любви, без своей семьи. Вот эти акации любил, речку, родные поля. А умер дядя — отказал дальний хутор и жалкие десять тысяч. Куда теперь идти? На хутор, что ли? Он вынул из кармана неизменную свою веревочку и даже здесь, скрываясь в кустах, начал глубокомысленно расплетать и заплетать ее: без этого занятия не умел думать Кронид.
Когда он поднял голову, над селом густым столбом поднимался к небу черный дым, мелькали красные крылья пламени — горел черновский дом. Закурился дымок и над мельницей.
Кронид закрыл лицо руками.
Огонь разгорался быстро. Мельница пылала, как гигантский факел. Обоз, нагруженный черновским добром, медленно двинулся по дороге под охраной вооруженных людей.
Около дома бегали мужики, но не тушили пожара, а тащили то, что осталось после налетчиков. Рухнули стропила, огонь выбивало из окон. Дом Черновых горел ярко и пышно: день был красный, безветренный, стояла сушь.
Кронид вылез на берег и пошел в поле прямиком, без дороги, сам не зная, куда и зачем. Шел долго, не оглядываясь, с опущенной головой, крутил веревочку. Опомнился только вечером на большой дороге. Солнце заходило за край необъятной, безлюдной степи. Только тут он осмотрелся: впереди виднелось большое село. Позади, на горизонте, стояло зарево, отражаясь на вечерних облаках.
Шагах в пятидесяти впереди шел широкоплечий мужик в чапане, подпоясанном кушаком, в лаптях и с длинной палкой в руке. Мужик шагал споро, Кронид никак не мог догнать его, хотя и прибавил шагу. Наконец пешеход остановился, оглянулся и стал свертывать цыгарку, опираясь на палку. На выпуклую грудь падала темная окладистая борода, с проседью по бокам, старый картуз съехал на затылок.
— Здорово, кунак, — крикнул он подходившему спутнику, и только по голосу Кронид узнал его: это был Крюков.
VIII
Была ранняя весна. Волга разлилась во всю ширь, на деревьях только что распустились нежно-зеленые листья.
Старинный приволжский город, известный своей красотой, тишиной и захолустностью, стоит на вершине высокой горы, покрытой снизу доверху фруктовыми садами. Город, расцвеченный старыми церквами и монастырями, окутанный зелеными палисадниками, тих и живописен, почти весь деревянный, с множеством уютных бревенчатых домиков, украшенных антресолями, мезонинами и балкончиками из точеных балясин. В особенности красив самый фасад города, далеко видный с Волги: над гребнем горы, окнами к реке стоят одноэтажные домики с вышками и башенками, а перед ними, вдоль крутого обрыва, стелется зеленый лужок. Эта часть города исстари называется «Старым Венцом», в отличие от «Нового Венца», являющегося его продолжением. Лужок засажен чахлыми акациями, лишенными чьего-либо ухода, а над обрывом, что горделиво высится над Волгой, стоят деревянные скамьи на врытых в землю столбиках, с покривившейся ветхой беседкой, не известно кем и для чего выстроенной в давние времена.
Старый Венец служит любимым местом не столько для прогулки обывателей, сколько для созерцания дивной картины, открывающейся с высоты его видом на величаво плывущую Волгу и лесистое Заволжье, уходящее за необъятный горизонт. В особенности весной каждый вечер Венец усеян зрителями: сидят вплотную на длинных скамейках или на гребне горы, свесивши ноги с обрыва, и молча смотрят в безграничную даль. Разговоров почти никаких не слышно: все молча смотрят на Волгу, словно ждут чего-то из-за горизонта. Но проходили гды, десятки годов, а жители тихого города все еще молча смотрели и ждали.
Многие, проживши долгую, однообразную жизнь, так и умерли в молчаливом созерцании горизонта, ничего оттуда не дождавшись. Какие-то огромные чувства и невыразимые ожидания властно внушает этот торжественный и что-то обещающий, на сотни верст раздвинутый горизонт.
Кажется, что великие дела должны совершаться здесь, и только героические события — подстать окружающему величию.
Но уманенные горизонты жителей живописного города, венчающего вершину горы, были, в противоположность окружающей шири, до убожества узки, жизнь сера, скучна, однообразна, средневеково-замкнута: дворяне жили в своем кругу, купцы, чиновники — в своем. Рабочих в городе, по отсутствию фабрик и заводов, почти не было, кроме грузчиков. А чем и как жило преобладающее население города — мелкие ремесленники и, главным образом, мещанство — никого не интересовало. Несомненно было одно: все жили скучно до страдания, до одури.
Началась война с Германией. Город отнесся к ней так же созерцательно, как привык относиться ко всяким явлениям природы: вздыхали, толковали, провожали близких на войну, а потом сидели на Старом Венце, ждали конца ее и возвращения ушедших; но война тянулась, а ушедшие не возвращались. Так шли годы.
Вдруг в Петрограде случилось что-то непонятное, и пришлось созерцать странные события: отречение царя, появление Временного правительства и большевиков, не согласных с правительством. Потом взяли верх боль-шевики, война как-то сама собой прекратилась, а с фронта повалили по железным дорогам солдаты.
Нахлынули они оборванные, в шинелях внакидку, оплевывая землю шелухой семечек и без дела шатаясь по улицам беспорядочными толпами.
Весь старый порядок жизни как-то сам собою распался. Торговля почти исчезла, базары по временам подвергали облавам и разгоняли; продукты приходилось добывать контрабандой, по «вольным» ценам, и все предметы первой необходимости вдруг исчезли в городе, словно смерч прошел.
Женщины злобствовали на комиссара продовольствия, бывшего калачника, большого рыжего мужика. Большинство обывателей —- владельцы бревенчатых до-миков, все эти полусонные созерцатели жизни, жившие мелкой торговлишкой, мелкими ремеслами, всякими волжскими промыслами, — проклинали «большевицкий режим». Чувствовалась растерянность.
Радовались только солдаты и беднейшая часть населения.
Городские обыватели всю суть большевизма видели в наступившей дороговизне и всеобщей неурядице. Вспомнили своего обывательского бога, наполнили собою свои старые, вросшие в землю церкви и потихоньку, шепотом, с оглядкой, испуганно просили его — «об из-бавлении от большевизма».
Почти каждый день случались пожары от неизвестных причин; говорили о поджигателях. Разгорелся сильный пожар на базаре и в примыкавших к нему торговых рядах: горели склады товаров.
С реки за много верст виднелся черный дым горящего города. Жизнь на Волге замерла. Редкие пароходы и поезда подходили с большим опозданием, как придется, да никто и не ездил, кроме солдат и революционного начальства. Извозчики перестали выезжать к пристани и вокзалу.
В таком состоянии находился город, когда после дол-гого отсутствия приехал с пароходом Валерьян. С Волги ему казалось, что горит Старый Венец, где стоял его маленький бревенчатый домик. Оставив чемодан на хра-нение, он долго взбирался по деревянной лестнице в две сотни ступеней на вершину горы, застланную дымом. Задыхаясь и обливаясь потом, выбрался на Старый Венец, убедился, что пожар далеко от Волги. По улицам бежали люди, разъезжали конные патрули, слышались разрозненные выстрелы.
Все — как было, только нет прежней тишины и спокойствия. На целый год он застрял на юге, не будучи в состоянии выбраться оттуда: по железным дорогам валом валили беженцы. В Киеве не застал Константина: во время переворота он был освобожден из тюрьмы и успел уехать. Не застал ни Виолы, ни Аярова.
Путь был свободен только в Крым, и Валерьян очутился на своей крымской даче. В доме жила Паша, а Иван был призван на войну и никаких вестей о себе не присылал. Паша кое-как справлялась с хозяйством, участок отдала исполу татарину Сеит-Мемеду и радовалась, что хоть хлеб есть и корову можно доить.
Кое-как выбрался и проскочил из Крыма, натерпевшись всяких невзгод. Писал Наташе, но так и не получил ответа. Не знал, жива ли она, цела ли. С дороги послал телеграмму, и вот теперь горел нетерпением и тревогой за жену и сына. Пожар города, выстрелы, солд¬ты па улицах, бегущие прохожие внушали недобрые предчувствия.
Умерил шаг, чтобы отдышаться, и, подойдя к крыльцу с сорванной кнопкой звонка, остановился в нереши-тельности.
Дверь отворила Марья Ивановна с веселой улыбкой.
— С приездом. Пожалуйте! Ждем.
— Все ли благополучно?
— Все по-прежнему, — сказала Марья Ивановна, проводив его.
Валерьян быстрыми шагами прошел через веранду и
прихожую.
— Наташа! — крикнул он, задыхаясь. — Жива ли ты?
— Жива! — послышался слабый голос Наташи из маленькой боковой комнаты.
Валерьян ринулся к ней.
Наташа лежала в постели и, радостно улыбаясь, протянула к нему тоненькие смуглые руки. Личико ее исхудало, стало темным, и с этого потемневшего лица смотрели огромные глаза.
Со слезами на глазах он целовал ее руки, щеки, губы, говорил, волнуясь, бессвязно:
— Я писал тебе, телеграфировал... Получала?
— Получала и отвечала... Сегодня все ждут тебя: Кронид и Виола...
Наташа лукаво улыбнулась.
— Я уж, Валечка, на «ты» с тобой перейду: четыр-надцать лет живем!.. Да и помру, чай, скоро.
Валерьян сделал протестующий жест, пытаясь воз-ражать.
— А Виола твоя со мной подружилась... Она тут концерт свой устроила, да и застряла. Не может выбраться в Сибирь. Каждый день к нам ходит петь под рояль.., Хорошая она, и голос хороший. Только знаешь ли, что я тебе скажу, Валечка?.. — Наташа притянула к себе голову мужа и прошептала на ухо: — Не женись на ней!
— Да ведь я женат, кажется?
— Не плутуй! Мы с ней объяснились.
— Что же она тебе говорила?
— Все сказала: любит тебя и плачется, что ты ее мало любишь.
— Это правда. Тебя по-прежнему люблю!
— Разве я жена? Калека ведь. Видишь, рука-то из плеча совсем вышла, как плеть висит, а ногу волочу, будто кочергой загребаю. С палочкой хожу по комнате... Правда, помереть не хочется, но с таким здоровьем недолго проживешь!
— Полно, голубушка! Хоть хроменькая живи!.. И что ты все про смерть толковать начала?..
На глаза Валерьяна навернулись слезы.
- Да так, к слову. — Наташа вздохнула. — Завел ты даму сердца. Любишь — не любишь, а ведь она молода, здорова, недурна собой. Пристанет — так и женишься... Полжизни пропадал из-за меня, а потом из-за нее пропадать начнешь. Что толку? Насмарку вся твоя жизнь пойдет. Певица-то она хорошая, но не больно умна, одним словом — актриса. А ты вот что, Валечка: когда я умру...
— Да перестань! — с горечью прервал Валерьян. — Что ты все — умру да умру... Может, я раньше.
— Ну, не буду, я ведь все о деле хочу, а мысли путаются, голова у меня поглупела совсем... Виола — не пара тебе. Дай мне слово, что не женишься на ней!..
— Ну, даю слово!
— Поживешь года два один, когда меня не...тьфу, тьфу! а там уж — как придется... Только не женись на Виоле. И хорошая, и талантливая, но не будет тебе с ней счастья, — еще хуже, чем со мной! Такая уж, видно, судьба твоя незадачливая. Ей бы за Василия Иваныча выйти, а она, дура, и слышать не хочет: голосу его завидует, злится, что он получше ее артист.
— Профессиональное соревнование. Это бывает. А Василий Иваныч здесь разве?
— Гостит у отца: отец его — протодиакон здешний. Ты не ревнуй ее к Аярову: он как овдовел, так про женитьбу и думать забыл, искусством занят. И тебе бы вот так... Вам, артистам, семейная жизнь не подходит.— Наташа вдруг весело улыбнулась. — А знаешь, кто у нас влюбился?
— Кто?
— Кронид. По уши втюрился в Виолу. Безнадежно, идеально, как старая дева... Жалко! Смотреть на него противно. Седина в бороду, а бес в ребро. Скрывает, конечно, да ведь шила в мешке не утаишь... Хохочет над ним Виола, в грош его не ставит. Да он и сам понимает, что дело ею швах. Тебя она, действительно, любит, да тоже зря... Вот какие у нас дела, Валечка.
— Дела запутанные, — шутил Валерьян. — Ну, коли пошло на откровенность, у самой-то у тебя как?
— Это про доктора, что ли?
— Да.
Наташа улыбнулась знакомой улыбкой.
Валерьян засмеялся.
— Он — донжуан и брандахлыст, — весело сказала она. — Я любила его, Валечка, и ты не должен за это сердиться. Ко не замуж же мне, калеке, за такого «орла» выходить? Эта фантазия кончена. Вот только изменился он что-то ко мне: не дозвонишься, а нужен он!
Валерьян нахмурился.
— Знаешь что, давай условимся не говорить: ты — о докторе, а я — о Виоле.
— Хорошо, — вздохнула Наташа.
— Теперь о главном: как вы тут живете, что происходит в городе? Голодаете? Деньги есть?
— Деньги Кронид ежемесячно приносит, по двести рублей из какого-то опекунского совета. Не понимаю я этих дел, он тебе сам лучше расскажет... Живем не плохо: на еду хватает... А что происходит в городе, — где мне знать? Я из дому не выхожу. Зимой, действительно, жутко было: ночи не спали, все чудилось, что кто-то вокруг дома ходит. Ну, Кронид придет, бывало, ночевать, мы и успокоимся...
— А братья как?
— Костя часто приходит. Посчастливилось ему имение продать. Теперь они с Крюковым какие-то дела завели.
— А Дмитрий?
— Дмитрия из Волчьего Логова выгнали. У тещи
живет.
— А Костю не выселили из отцовского дома?
— Нет, не дошла еще очередь.
— Бывает Дмитрий у тебя?
— Что ты, что ты! Да я его жену видеть не могу: вся позеленею, как она, бывало, поздороваться подойдет... За Зориным бегает до неприличия. Ну, и запретила она Мите ко мне ходить... Жалкий он, несчастный. В ссоре мы.
— А мать? Варвара?
— Мамаша с Костей живет, у меня ни разу не была. Варвара на Сергиевские воды лечиться уехала, дети ее тоже при Косте... Хороший он человек, все к нему льнут. А Дмитрия никто не видит...
— Не говорил Костя, за что его в Киеве арестовали?
— Да все за Пирогова. Недолго сидел: большевики выпустили. Смеялся Костя, когда рассказывал. Напрасно ты ездил его выручать. Может быть, больше к Виоле тянуло?
— Ты позабыла наше условие?
— Ах да! Скоро ли все это кончится?
— А что именно?
— Да революция-то.
Валерьян усмехнулся.
— Она только начинается, Наташа. На что мы, художники, сгодимся ей — и сам не знаю. Между прочим, заезжал я в Петроград, продал две картины, и знаешь — кто помог? Помнишь Евсея в Виллафранке? Он теперь в Петрограде...
— Хотела бы я повидать его... Он — большевик? А ты?
Валерьян засмеялся.
— Я художник, Наташечка. Художником и умру. Большевики руководят революцией, — это их специальность, а не моя. Народ ждет от них счастья, верит в них, идет за ними, и поэтому они сильны. Если же потеряет веру, то и сила их исчезнет в тот же момент... Я-то верю, что вся сила в народе...
— А ты посмотри-ка, что за сила позади тебя стоит! — лукаво прервала его Наташа.
Валерьян обернулся: за спиной кресла стоял подросток в ученической курточке, из которой он уже вырос.
— Ленька! — радостно вскричал отец. — Ты под-лушивать?!
Сын засмеялся и бросился обнимать отца.
— Гимназию без тебя закрыли, папа, а я очень этому рад: ничего не понимал тогда. Теперь в новой школе учусь. Ты большевик?
— Пока еще нет, а ты?
Ярый большевик, — ответил Ленька, — убежденный. Мы впереди отцов идем: шкурники они, отцы-то.
— Ленька! — ужаснулась Наташа.
Через несколько дней пришла компания: Константин, Кронид, Аяров и Виола со своим аккомпаниатором, профессорского вида толстяком с густыми седыми волосами, горой стоявшими над большим, широким лбом. Все сидели за самоваром в тесной столовой маленького домика. На пианино лежали раскрытые ноты.
Наташа вышла к гостям, опираясь на длинную и тонкую альпийскую палочку, волоча парализованную ногу, левое плечо стало у нее ниже правого, а рука висела безжизненно.
— Знаете новость? — встретил ее Василий Иванович. — Виола завтра утром, наконец, уезжает.
— Правда! Получила пропуск, а главное — места в мягком вагоне на двоих, — подтвердила Виола.
Аккомпаниатор улыбнулся в седые усы.
— Собственно, поездка наша началась шуточно и неудачно. Я ведь преподаватель музыки в Киеве, занятой человек, но если проберемся на Восток — сделаем дела!
— Ну, коли большевики продержатся два месяца то и от нас здесь ничего не останется, -— задумчиво промолвил Константин.
— Слышно, с низу белые по Волге идут, города берут и старый строй восстанавливают. Под Самарой-стоят, — заметил Кронид.
— По-моему, что бы там ни случилось, а помещиков больше не будет, — сказал Валерьян.
В прихожей кто-то крепко хлопнул дверью, и в столовую ввалился Крюков в старой, выцветшей, заплатанной сибирке, с отпущенной во всю грудь бородой. Седина струилась двумя прядями от усов по бороде, как пролитое молоко: не походил он теперь ни на прежнего купца, ни на недавнего офицера.
— Мы так думаем, — заговорил он, пожимая всем руки: — по двести десятин все-таки можно будет иметь.
— Откуда тебя принесло? — усмехнулся Константин.
— Где был, там меня уж Митькой звали. Вот чайку бы! — Крюков крепко уселся к столу, наливая чай в блюдечко заскорузлыми, грязными руками. — В бегах был. У знакомых мужиков скрывался. Чай, ведь, знаете, сожгли и меня в Лаптевке. Буржуй! Но, промежду прочим, некоторые мужики привечают и нашего брата: там у них «углубление» революции пошло.
— Поедем и мы в Сибирь! — предложил Константин
— Ни за какие коврижки! Ты, Костя, как знаешь, я здесь останусь, при фабрике. Устоят большевики - к большевикам пойду, Али они не люди? Помяните мое слово — извернусь и опять при капитале буду! — Он опрокинул стакан вверх дном, положил сверху огрызок сахару. — Покорно благодарим. Прибедниться надо. Денежки покудова — в кубышку. Видите, сибирка-то какая? А руки мои работы не боятся, голова — на плечах.
— Гляди, как бы она с плеч не свалилась, — гыгыкнул Кронид.
— Моя не свалится. Ей-бо, ребята! Чего тут? Надо выкручиваться. Не все же в нетях оставаться?
— Так это ты нарочно нищим нарядился?
— А то как же!
— Посмотрел бы кто, как мы с ним в степи встретились, — рассказывал Кронид. — Шагает в чапане, в лаптях — бедняцкий мужичонка.
— Кабы не чапан, болтался бы на собственных во-ротах. Смеяться нечего: чапан у меня на припасе. Может, и вам кому спонадобится.
— Вот кряж! — одобрительно улыбнулся Аяров. — Такой, пожалуй что, не пропадет.
— Дворяне погибнут: им это на роду написано. А мы еще поборемся, — продолжал Крюков. — Ведь в чем дело? Борьба, видать, затянется, — гражданская началась. Силы приблизительно равные. Еще — кто кого, вилами на воде писано.
Крюков разгладил бороду, распахнул рваный кафтан, обнаружив старую ситцевую рубаху.
— Ушкуйник вы! — смеясь, сказала Виола.
— Покорнейше благодарим. Мы люди простые, едим пряники неписаные. Но, промежду прочим, пальца в рот не кладите!
— Виола-то Игнатьевна кокетничает с тобой, а ты и ухом не ведешь, борода! — хихикал Кронид завистливо,
-- Не с вами же кокетничать! — небрежно уронила Виола и обернулась к художнику: — Отчего вы приуныли, Валерьян Иванович?
— Оттого, что вы уезжаете.
Виола засмеялась.
— Кропя! там в погребе у нас бутылка шампанского есть, распорядись-ка! — решила Наташа,
— Вот это дело!
В комнате стоял общий говор.
Наташа, сидевшая рядом с мужем на диване, положила ему голову на плечо.
- Не болит ли? — спросил он, заглянув ей удивленно в лицо.
— Болит, конечно, как всегда, но это ничего. Я рада, что ты приехал. Собрались все, кого я люблю, одного человека не хватает. Ну, да с ним все кончено: ты победил!
Вошел Кронид с подносом, уставленным шампанским, и стал обносить всех. Последний стакан он высоко поднял в руке.
— Пью за отъезжающих! Благополучного пути! Птички перелетные, пусть ваша дорога приведет вас к счастью и славе! А мы — кончаем наш путь. Разрушен дом Черновых! Черновский капитал превратился в дым. Если бы Сила Гордеич встал из гроба и увидел наше положение, — упал бы и опять умер! Ленька, ты большевик?
— Большевик! — с сияющей улыбкой ответил Ленька.
— Вот. Внуки-то Силы Гордеича куда пошли! А нам, старикам, еще надо разобраться в наших путях. Кончились вишневые сады. Беги, кто может, к дальним берегам! Ваше здоровье, Виола Игнатьевна!
Виола поднялась с места и тихо приблизилась к пиа-нино. Музыкант сел. Она развернула ноты и показала в них что-то. Зазвучали грустные аккорды.
Острою секирой ранена береза, — вдруг запела артистка.
В лирическом романсе слышались трагические от-тенки.
Валерьян насторожился. Дрожь пробежала по его нервам. Почему-то вспомнилась Наташа-невеста, когда- то певшая единственный раз в своей жизни о сломанной березке. Долго, отчаянно боролась за жизнь, а теперь смертельно ранена в сердце: спета ее песня!
Лишь больное сердце не залечит раны,
Волной хлынул трепещущий голос. Наташа припала к груди Валерьяна: плечи ее тряслись.
— Эх, не надо бы такую песню петь! — с сожалением сказал Крюков.
Виола бросилась к рыдающей Наташе, обняла ее.
— Наташа, друг мой милый! прости меня! Ах, я проклятая. Забыла, нечаянно разбередила горе твое.
— Ничего, — успокаиваясь и вытирая слезы, прошептала Наташа. — Так это я... свою болезнь... «Березку» вспомнила... дом наш...
— Больше не буду петь! — решительно заявила Виола. — Василий Иваныч, ваш черед!
Аяров подошел к пианино, крякнул басом, нахмурился.
— Ничего веселого-то и я не захватил. Вот есть новейший романс на военную тему, больше и нот нет. «Полководца» петь не буду, спою «Забытого».
Он ревниво и завистливо взглянул на Виолу: певица, вызвавшая рыдания, возбудила зависть баса. Видно было, что он волнуется, собираясь затмить успех Виолы.
Запел сдержанным, бархатным басом романс о забы-том на поле сражения, смертельно раненном воине.
В деревне, в бедной хате ждут его возвращения жена и сынишка.
Не плачь, сынок! Приедет скоро тятя, На радостях я пирожок горячий испеку.
Трогательно, искренне прозвучали простые слова.
Постарался Василий Иваныч: не хотел дать спуску Виоле.
Теперь Валерьян выскочил из-за стола и быстро ушел в соседнюю комнату. Была ли причиной жизненная тема романса, быть может, напомнившая ему пережитые кар-тины войны, или оказалось все это близким его пережи-ваниям, когда он и сам лежал, оглушенный «чемоданом», в халупе в то время, когда его, быть может, ждали жена и сын, — но слезы неудержимо хлынули из глаз его. Затворившись в темной комнате, он дал им волю.
Перестарались певцы, состязаясь друг с другом. Долго пел еще Василий Иваныч. Когда Валерьян успокоился и вышел, гости толпились в прихожей, собираясь уходить.
Валерьян уговаривал гостей не уходить.
—- Первый час! — возражали они. — Засиделись!
Наташа шепнула ему на ухо:
— Попроси у Василия Ивановича его фотографию!
— Обязательно завтра утром принесу, — отозвался Аяров.
Марья Ивановна торопила Наташу поскорее лечь в постель.
— Переутомилась! — тихо сказала она Валерьяну.— Никогда так долго не сидела!
Ночь была тихая, теплая. Валерьян пошел проводить гостей.
Шли попарно по пустынным тротуарам Старого Венца. Валерьян шел с Виолой, позади всех плелся Кронид.
С пожарища тянуло гарью.
— Не ходите далеко! — говорила Виола. — Еще патруль встретите, а у вас нет пропуска. Расстанемся!— она высвободила руку из-под его руки.
— Зачем ты...вы...уезжаете?
Виола вздохнула.
— Вы не любите меня, Валерьян. Я в этом убедилась... А кроме того, когда увидала Наташу, сердце мое содрогнулось. Жаль ее. Ведь она совершенно беспомощна, а вы — единственная ее опора! Ну, представьте себе, если бы вы даже полюбили меня и бросили жену: истерзали бы себя, меня и ее!
— Прежде вы говорили иначе.
— Прежде она любила другого... а теперь он, кажется, покинул ее. Она жалости вашей просит, разве не видите? Я не представляла себе всего. Да и вы ее любите. Не будет вам счастья, если б вы вздумали бросить Наташу в таком положении, только из мести, из самолюбия. Это было бы чудовищно! Непохоже на вас. Я любила вас, но не встретила серьезного чувства. Ведь есть же и у меня гордость! Да и до счастья ли теперь? Расстанемся. Вспоминайте иногда вашу маленькую Виолу... которая...
— Виола! — Голос Валерьяна дрожал.
— Прощайте! — прошептала она. — Не целуйте! Не надо!
Она вырвалась и побежала.
Валерьян вздохнул и с опущенной головой побрел обратно. Потом повернул на гребень Венца, посидел на скамейке, глядя на хмурую, скучную, ночную Волгу без огней, без движения, без жизни.
Сердце ломило от тоски. Он пошел опять бродить л незаметно для себя очутился у гостиницы. У дверей стояли Виола и Аяров. Валерьян остановился в тени.
— Итак, значит, никогда? — печально спросил Аяров.
— Никогда! — твердо ответила Виола. — Мы — соперники на сцене!
— Но я вас...
Ветер заглушил шепот Аярова.
— Никогда! — повторила она и скрылась за дверью.
Валерьян оделся и вышел в столовую.
Солнце ярко било сквозь опушенные гардины. Марья Ивановна, приткнувшись за столом, писала карандашом на клочке бумаги. Перед ней стояла прачка, только что принесшая корзину чистого белья; часть его лежала на столе.
— Наташа спит? — мимоходом спросил Валерьян.
— Какое — спит! Сердцебиение у нее! Переволновалась вчера от музыки вашей. Посидеть бы надо около нее, а мне вот некогда: белье переписываю. Ленька убежал куда-то.
Валерьян вошел в комнату Наташи: она лежала в постели с резиновым пузырем на груди. Лицо ее посерело, приняло землистый оттенок.
— Не волнуйся. Ведь это у меня обычная вещь: раз в месяц обязательно бывает. Приняла капли, полежу с полчаса — и пройдет.
— Все-таки я посижу.
— Разговаривать трудно мне. Не беспокойся, милый.
Наташа посмотрела на мужа своими огромными глазами в них была обычная грусть и давно не виданная Валерьяном ласка.
— Поцелуй меня и иди! Позови Леньку: он в саду,
Валерьян поцеловал жену и вышел на черное крыльцо, выходившее в маленький садик. Было тихое солнечное утро. Около беседки цвели белые цветы. Ленька поливал их.
— Мать зовет! — сказал Валерьян сыну. — Иди в дом.
— Сейчас! Вот только кончу.
Валерьян вернулся в кабинет и прилег на диван. Вдруг Наташа громко позвала его:
— Валерьян!
От этого необычного крика он вздрогнул и бросился в ее комнату. Тотчас же оттуда по всему дому разнесся- страшный крик, слышный даже на улице:
— А-а-а-а!
Это кричал Валерьян.
В комнату вбежали разом Марья Ивановна и Ленька
Художник держал Наташу, приподнявши ее с подушки за плечи. В остановившихся глазах Наташи стояло выражение ужаса. Губы напряженно дрожали, силясь что-то выговорить. Алый цвет ее губ вдруг перекрылся как бы хлынувшей под кожей черной кровью, нижняя челюсть отвисла, страшные глаза дрожали, голова упала набок.
— Обморок! обморок! — бормотала Марья Ивановна, бестолково помогая дрожащими руками приподнять бесчувственное тело.
— Нет, не обморок, — горестно прошептал Валерьян и приложил ухо к груди Наташи: сердце не билось.
Смутно мелькало перед Валерьяном побелевшее лицо Леньки с такими же, как у Наташи, синими глазами, в которых отражался ужас мертвых Наташиных глаз. Марья Ивановна зачем-то звонила доктору Зорину, по-том убежала, крикнув:
— За старухой!
Тело Наташи лежало в постели с разинутым ртом и неподвижными глазами.
Марья Ивановна привела дряхлую старушонку, соседку. Принесла таз с теплой водой.
— Уходите! — шепотом сказала она, раздевая покорное, безжизненное тело.
Уходя, Валерьян оглянулся: Наташу с повисшей на грудь головой положили на пол. Валерьян не чувствовал ни отчаянья, ни горя и вообще — ничего не чувствовал. Все было как в тумане. Приходил доктор Зорин, определил смерть от паралича сердца. Пришел Василий Иваныч с фотографической карточкой с надписью. Был гробовщик. Хлопотал и распоряжался откуда-то появившийся Кронид. Потом все ушли.
Наташа лежала в кабинете, на большом столе, посреди комнаты с завешенным зеркалом. Лицо — как у спящей; холодные, твердые, как у статуи, губы сложились в жалкую улыбку.
Вечером опять пришел Василий Иваныч, до утра сидел с ним в столовой, о чем-то говорил, но Валерьяну было скучно с ним. На рассвете, оставшись один, пошел к Наташе. В доме все спали. Валерьян открыл лицо умершей, поцеловал ледяные губы и долго стоял так. Усилием воли хотел заставить себя плакать, но слез не было: была тупая тяжесть, полная бесчувственность.
Утром положили умершую в гроб, посыпали сулемой и мелким льдом: в комнате чуть-чуть слышался странный, тяжелый запах. Цветы из сада, которые Наташа сама вырастила, срезали и положили ей в изголовье.
Опять хлопотал Кронид. Пришли попы и певчие, стали служить панихиду. Явились родственники: Настасья Васильевна, Дмитрий с женой, Мельниковы — все, кто при жизни относился к Наташе безразлично или враждебно. Дмитрий положил на гроб жестяной венок. Константина не было, Варвара лечилась на водах. Валерьян не сказал родным ни слова. Они ему — тоже.
Хотелось вытолкать всех этих людей, так долго причинявших Наташе страдания, тонко оскорблявших, не понимавших и не любивших ее. Хотел крикнуть, что они лицемеры, чтобы взяли обратно жестяной венок, что это они отравили молодую жизнь, довели до ранней могилы. Но ничего подобного он не сказал. Скандал у гроба почившей был бы оскорблением ее памяти. Сочли бы Валерьяна помешанным или пьяным.
С печальным, похоронным пением вынесли гроб, по- ставили на катафалк. Когда зарывали Наташу, никто не плакал: ее родные вообще никогда не плакали, никого не любили. Не мог плакать и Валерьян.
В том же безмолвии и бесчувственном отупении он вернулся домой.
Два дня молчал, ни с кем не разговаривая, почти не ел и не спал.
На третий день неожиданно почувствовал: больше думать об ушедшей не следует. Инстинкт самосохранения подсказывал, что нужно сделать выбор: или гнить душой и самому умереть от тоски, или продолжать жизнь, какая бы она ни была, Валерьян решил жить. Уехать в Москву.
В самый разгар волжского разлива прошел слух, что взяли чехи Самару и двигаются вверх по Заволжью.
В местной газете написали об этом и даже на заборах расклеили воззвание к рабочим и крестьянам города: выражалась уверенность, что они постоят за свою собственную рабоче-крестьянскую власть. Читали воззвание обыватели и молча ухмылялись: немного было рабочих и крестьян в обывательском городе, больше проживало мещан, совсем не настроенных стоять за рабочую власть.
Что это были за чехи и откуда они взялись—никто в точности не знал, но думали, что, может быть, хоть они, подобно древним варягам, наведут порядок в великой и обильной Русской земле, и опять будет прежнее мирное житие. Пусть отстаивают город рабочие и крестьяне. Мещанам-то что за дело? Их никто об этом не просит. Метались по городу мотоциклетки с лихими седоками, мчались нагруженные грузовики-автомобили, скакали верховые, потянулись куда-то военные обозы
На Старый Венец выкатили пушки, а самый Венец окопали рвом и защитили с Волги колючей проволокой. Ждали чехов из-за Волги, куда были направлены жерла орудий: со времен Стеньки Разина не было пушек на Старом Венце, не воевал самый тихий и безмятежный город на Волге.
Никогда еще с таким ожиданием не смотрели обыватели с Венца на далекое Заволжье, сплошь покрытое дремучими лесами.
Ничего не видно было за лесом, но пушки с треском палили через широко разлившуюся Волгу, обстреливали заволжский берег: ждали артиллерийского поединка, думали, что чехи будут через Волгу переправляться, город приступом брать. Объявили осадное положение: вечером, после восьми часов никто носа не смел на улицу высунуть, ни огонь зажигать. Сроду ничего подобного не случалось в приволжских городах. Запасались мукой, солью, картошкой и всякой провизией, какую еще можно было достать.
Но вот в тихое весенне утро, когда обыватели только еще просыпались, а некоторые спали, проведя в чутком сне тревожную ночь, там и сям под окнами на Старом Венце стали раздаваться голоса женщин:
— Чехи! Чехи пришли!
Екнуло сердце у всех. Повскакали с постелей, вскло-коченные, кто в чем, высунулись из окон, вылезли из калиток.
— Взяли город чехи! Заняли кадетский корпус! — неслись голоса.
Здание ревкома по-старому называли кадетским кор-пусом, так же как «дворец труда» — губернаторским домом.
И стали выползать пугливые обыватели из своих нор.
Беспорядочно сбежались на площади: там стояло огромное, занимавшее почти половину квартала, кирпичное здание, где до революции сотни лет воспитывалось поместное дворянство.
В толпе преобладали женщины — домашние хозяйки с корзинками, канцелярские служащие, мещане, подростки и уличные ребятишки, — та обывательская толпа, что всегда на Старом Венце собиралась.
У подъезда стояли вооруженные часовые в немецких черных касках. Десятка два конных солдат в маленьких шапочках пирожком выстроились против здания. Худой, высокий человек во френче, с белокурыми бакенбардами» по выправке — офицер, отдавал распоряжения подчиненным, стоявшим навытяжку, с рукой под козырьком. Слышался тихий, сдержанный говор толпы, все спраши-али друг друга, некоторые обстоятельно рассказывали, «как было дело».
Одна из кучек жадно слушала рассказ молоденького солдатика — мальчишки лет семнадцати, стоявшего на мостовой с ружьем у ноги. Прыщавое, худое лицо его с длинным носом было измазано грязью от пыли и пота. Он был в солдатской шинели и железной, лакированной каске.
Юноша странно, нервозно хихикал.
— Наш эскадрон переправился ниже города, в без-людном месте, а нынче на рассвете мы встретили их кордон и перекололи всех до единого, без выстрела, врукопашную.
— Перекололи всех, — продолжал он, торжествуя,— думаем: надо скорее в город! Да боимся, не остался ли кто в живых, не поднял бы тревогу по полевому телефону. Спешились посмотреть убитых. Гляжу — а один живой, только прикинулся мертвым. Я его — штыком, а он шевелится: злющие ведь они, красные-то! Его, бывало, к земле приколешь, а он еще саблей машет. Кололколол, — нет, никак не прикончу: то рукой, то ногой дрыгает. Что делать? Вынул тесак и стал ему голову рубить. Хи-хи-хи! — жутко хихикает прыщавый доброволец.
С удивлением созерцали обыватели его долгоносое, вымазанное грязным потом, нездоровое лицо, искривлен-ную улыбку.
— Ведут кого-то!
От подъезда корпуса, сквозь расступившуюся толпу ехали шагом двое конных, а между ними с необычайной решимостью шел бледный человек в белой, с красными крапинками рубахе без пояса, в кожаном картузе, босой, в широких черных шароварах. Подстриженная ярко-рыжая борода оттеняла это поразительно бледное, помучневшее лицо, такое бледное, что оно казалось белее ситцевой рубахи на этом рослом, дюжем человеке. Красные крапинки издали казались брызгами крови. Шел он быстро и решительно, размахивая в такт шагам руками, как бы торопясь куда-то по чрезвычайно важному делу. Двое всадников с короткими ружьями за спиной, в маленьких шапочках, оба молодые, красивые, с черными усиками, ехали быстрым шагом.
Толпа ухнула, широко расступилась перед бледным человеком, а затем, слившись в плотную массу сзади всадников, побежала за ними.
— Комиссар продовольствия! — слышалось в толпе. — Попался! А-га-а!
Толпа злорадно рычала.
— Нашли его в подвальном этаже, в пекарне. Хле-бопеком переоделся, а документы-то в кармане оказались.
Недалеко увели комиссара: всего только повернули за угол и остановились на дороге, против высокой кирпичной стены, окружавшей двор кадетского корпуса.
Всадники спешились. Толпа замерла в ожидании. Один из них снял из-за плеч свою короткую винтовку.
Комиссар твердыми, большими шагами подошел близко к стене и встал лицом к ней.
Хлестнул короткий, сухой, негромкий треск выстрела. Рыжая голова в кожаном картузе, видневшаяся за густой толпой, исчезла.
С глухим гулом обывательское стадо кинулось к стене, толкаясь, падая, давя друг друга и ползая по земле, к трупу комиссара.
Солдаты сели на лошадей и рысью поехали обратно.
— Что делаете? Звери вы, что ли? — закричал в толпе высокий, тонкий голос. — Человека убили, а вы...
Голос оборвался на полуслове. Толпа побежала за всадниками. Комиссар, раскорячив ноги, лежал у стены вниз лицом. С мостовой в испачканном белом пиджаке поднялся Кронид. По рыжеватой бороде текла кровь. Он вытер бороду, сплюнул кровью и побежал, прихрамывая. За углом вдруг остановился: у стены лежали четверо, судя по костюму — рабочие, в синих блузах, высоких сапогах. Головы их валялись отдельно от тела, раздробленные на куски; у одной из них совсем снесло черепную коробку. Мозги виднелись на траве, стена была обрызгана чем-то серым, с прилипшими к ней волосами. В траве лежал человеческий глаз вместе с лобной костью.
От площади вели под конвоем группы бедно одетых рабочих, заводили в ближайшие дворы, и оттуда сейчас же доносились сухие звуки выстрелов.
Кронид бежал бесцельно. Очутился на Старом Венце. На углу была женская тюрьма, одноэтажное старое здание. У ворот, на траве, лежали навзничь три трупа в защитных гимнастерках. Раскинув по траве странно-бледные, застывшие руки, они лежали в таких позах, словно собирались встать. Это были тюремные надзиратели; Кронид часто видал их прежде.
За решеткой низкого окна стояла молодая, красивая цыганка, с монистами на груди, в ярко-огненной шали, с серебряными перстнями на загорелых руках. Она кивнула головой Крониду.
— Что, молодец, дождались? За что убили-то? Поди-вись! Бедные люди. Шестнадцать карбованцев получали. За экое жалованы смерть приняли. О-хо-хо! Лишенько!
— За что сидишь? — сурово спросил Кронид.
— За-понапрасну. Пришли белые и начали бедных людей избивать да в темницу сажать. И меня ни за что взяли. Ой, худо будет!
Кронид, повернув обратно, быстро пошел по дощатому тротуару. Цыганка еще раз крикнула ему вслед:
— Худо будет!
Когда он пришел в черновский дом, по обыкновению с черного хода, его встретила Зинаида с заплаканным лицом.
— Беда-то какая! — зашептала она. — Приходили чехи с ордером; говорят, чтобы мы наверх перебирались: внизу полицейское управление будет, охранка. Сроку только сутки дали.
— Вот те и на! Дождались избавителей!
— Похлопотали бы вы, Кронид Алексеевич. Костя-то как на грех уехал.
— Что же я могу? Безусловно придется подчиниться. Перетерпим как-нибудь, а там видно будет.
— Сходили бы по начальству, отбоярились бы. У нас дети, старуха больная. Лучше бы к Блиновым: у них дом — дворец, а семья маленькая.
— Гы-гы! Что же это брат на брата сваливать будет повинность? Нет уж, покорно благодарю, мне и так по зубам попало, насилу ноги унес.
Кронид рассказал о том, что происходит в городе.
— Арестовывают все больше рабочих, а на нас — повинности и налоги. С имущего класса все дерут — что красные, что белые, — один шут.
— В театре какое-то собрание объявили: повестку принесли. Хоть туда сходите.
Вечером в театре состоялся многолюдный митинг. Зал был переполнен. Со сцены говорил речь воевода добровольческой армии — высокий, во френче, с холеными бакенбардами. Он обещал изгнать большевиков и восстановить прежний «справедливый» строй. Только нужны новые Минины и Пожарские, нужен подъем народного патриотизма, нужно собрать деньги. Пусть все жертвуют, кто что может, пусть делятся деньгами, ценными вещами. Сейчас же в публику пойдет комиссия для приема добровольных даяний. Лишь бы прогнать большевиков, а тогда видно будет, какой строй установить.
Кронид сидел в партере рядом с Дмитрием. Новый «Минин» говорил гладко, как по писаному: вероятно, не в первый раз, заучил речь наизусть.
По рядам пошла комиссия с блюдом для пожертвований на «белое дело». Пример показал воевода: положил свои золотые часы с цепочкой. Кронид ехидно улыбнулся: небось, везде их кладет. Когда комиссия подошла к ним, Кронид смутился, пошарил в карманах а ничего там не нашел.
Дмитрий показал черные стальные часы.
— К сожалению, не захватил золотые: не знал! — пожал плечами заика.
Публика жертвовала плохо, клали дешевые вещицы, серьги, брошки, рублевки, десятки...
Когда сборщики прошли, Кронид лукаво посмотрел на Дмитрия, но тот и ухом не повел. Не хотела купецкая мошна раскошелиться, хотела, чтобы белые спасли ее бесплатно или по крайней мере подешевле; норовили надуть белых.
Ночью, возвращаясь с митинга, Кронид и Дмитрий встретили на глухой улице тихо двигавшийся обоз телег, нагруженных застывшими, скорченными человеческими телами; окостенелые, вытянутые руки их с окровавленными, скрюченными пальцами торчали кверху, словно мертвые воздевали их к небу.
На другой день обыватели сидели на скамейках Старого Венца, угнетенные, вздыхающие и грустные, недосчитываясь многих соседей своих, смотрели в дале-кую синь горизонта с еще большей тоской, чем прежде. Казалось, что теперь они уже и сами не знают, какое будущее может принести им избавление. Теперь, при белых, стало еще страшнее.
Широко разлившаяся Волга как бы замерла и притихла: не было в ней прежней жизни — ни пароходов, ни барж, ни плотов.
В половине августа, в воскресенье, часов в шесть пополудни, когда Старый Венец был усеян гуляющей публикой, над городом внезапно появился аэроплан.
Прилетел он со степной стороны, пожужжал над горой и, спустившись так низко, что видно было сидящего в его кабинке человека, начал кружиться над Венцом, как коршун, высматривающий добычу.
Из толпы раздалось вверх несколько выстрелов, но аэроплан не испугался, продолжая описывать круги над следившей за ним толпой, словно издеваясь над ней: его интересовали пушки и окопы на Венце.
Потом взмыл над Волгой, покружился около пристани и, поднявшись высоко, улетел в степь.
Это был большевистский аэроплан. Говорили, что большевики подошли к городу и стоят за небольшой речкой в числе одиннадцати тысяч; город же охранялся всего только тремя тысячами гарнизона: солдаты, бежавшие с германского фронта, давно уже схлынули куда-то.
Положение было безнадежное, но обыватели верили, что должна откуда-то явиться помощь; говорили, что белые шлют подкрепление из Казани.
На скамейке сидел Кронид в белом кителе и парусиновых башмаках. Подошел и сел рядом незнакомый мужик с большой краюхой хлеба, торчавшей из кармана. Мужик жевал калач, безучастно созерцая Волгу.
— Нездешний? — спросил от нечего делать Кронид.
— Не! — медленно ответил тот. — Из подгородней деревни.
— Как же ты через красных-то прошел?
— Ничего, прошел.
— Как думаешь, чья возьмет?
— Обязательно наши возьмут город!
— Какие — наши? — с неудовольствием спросил Кронид.
— Наши, большаки.
— А ты бы держал язык за зубами. Какие они тебе — наши?
Мужик ничего не ответил и продолжал жевать, глядя мимо Кронида бесцветными, ничего не выражавшими
глазами.
Толпа на Венце все увеличивалась, собираясь отдельными кучками.
В центре одной из групп немец Карл Карлыч, начальник добровольного обывательского караула, назначал очередных в ночное дежурство. Тут же лежало на земле необходимое количество винтовок со штыками.
На предстоявшую ночь с Венца требовалось отправить пятерых караульных на окраину города — охранять пороховой склад.
Но почти все, предчувствуя опасность, под разными предлогами отказывались от своей очереди.
Карл Карлыч пожал плечами и усмехнулся. Это был небольшой человек с желтенькой бородкой клинышком, транно похожий на Кронида, десять лет назад приехавши на Волгу с широкими планами обогащения в России; он построил под городом большой кирпичный завод, теперь уже заброшенный, а в городе имел образцовый фруктовый сад с домом на склоне Старого Венца. Считали его богатым человеком; он уже сидел в большевистской тюрьме, но скоро был выпущен и даже получил какую-то должность. Но когда ушли красные, Карл Карлыч начал содействовать белым. Теперь в его доме квартировали белые офицеры.
— Хе-хе-хе! — рассмеялся Карл Карлыч. — Это виходит по русской пословице: мой дом на краю, а я ничего знать не хочу! Когда биля мой очерет, я ходиль, и вот он ходиль, и другой ходиль, а сегодня все — как мишка в норка!
Из толпы посыпались возражения.
— Конечно, кому охота? Наступление ожидается..
— Враки! — возражал немец. — Я биль в управление... там знают... Говориль — не будет на нинешний день...
— Верю всякому зверю, верю и ежу, а им — погожу...
— Тебе хорошо, Карл Карлыч: твоим козырям под масть. А мы опасаемся. Тебе и тюрьма — пустяк.
— Золотым молотком и тюремные двери отворить можно.
— Тугая-то мошна не говорит, а чудеса творит: крякни да денежкой брякни — из воды сух выйдешь. А с нами разговор короток.
— Каждому своя голова дорога.
— Надо же кому-нибудь на караул ходить?.. Ай-ай, срам какой! — качал бородой Карл Карлыч.
— Вот назола! — с досадой сказал, выходя вперед, Кронид. — Откуда — такая остуда? Ежели мы сами себя не защитим, кто же нас защитит? Ну что ж, пойду я не в очередь. Неужто больше нет никого?
Помялись, погалдели и заставили еще четверых отправиться в караул: нехотя согласились два писца, учитель и бородатый мещанин.
Неумело взяв солдатские винтовки на плечи, нестройной группой повернули в переулок. Солнце закатывалось. На тротуарах всюду было необычайное оживление: А люди с озабоченными лицами группами выходили из омов и спешили куда-то. Встретилась компания городских врачей, в числе их Зорин; увидал Кронида, рассеянно улыбнулся,
— Куда?
— В караул. А вы?
— На перевязочный. — Зорин махнул рукой, не останавливаясь.
По главной улице тянулся казенный обоз, проносились мотоциклетки. Вот так же было, когда большевики ходили. Теперь белых черед. Базар опустел. Медленно сгущались бесконечные степные сумерки.
Долго шли городом, пустырями, Солдатской слободкой, состоявшей из жалких хибарок, неправильно разбросанных. Совсем стемнело, когда подошли к караулке. Дальше была степь, а шагах в пятидесяти, на отшибе, неясно виднелся продолговатой тенью пороховой склад.
В караулке светился огонь. Около маленькой жестяной лампы сидел сторож, поджидавший караульных.
Маленькая комнатешка с голым столом, бревенчатыми стенами и деревянными скамьями показалась еще меньше, когда наполнилась неуклюжими фигурами людей, стучавших и звякавших ружьями. Лампа коптила, освещая их неверным светом.
— Здорово, дед! — тяжело поставив ружья в угол, говорили. пришедшие сторожу, старику с физиономией старого солдата.
— Здравствуйте! А я жду-пожду: что-то, мол, долго.
— Да нейдет никто нынче: боятся! Наступления ждут. Белые-то, значит, — за «хороших» людей, за богатых, а с красными зато вся беднота идет.
— Не бойся богатого грозы, а бойся бедного слезы? - сказал старик.
— Какая уж тут слеза?.. Кровьо пахнет: под самым городом стоят.
Что же, из Казани-то нет подкрепления?
— Ничего не известно.
Видно, оставили нас на произвол судьбы?
- Покурим с горя!
— Кто хочет курить, здесь курите, а на карауле нельзя. Порох ведь!
— По двое пойдем?
— Знамо дело: по два веселее. Смена — через два часа. Сколько теперь?
— Десять, — сказал Кронид, посмотрев на карманные часы. — Айдате, кто со мной?
— Пожалуй, хоть я, — откликнулся учитель, бледный, молодой, в очках.
Взяли ружья, осмотрели их, вышли.
Ночь была темная, беззвездная, сырая, накрапывал дождик. Кронид поежился в своем белом кителе. Шли к амбару гуськом. В четырех шагах уже не видели друг друга. Ощупью подошли к амбару. Прислонились к стене, под крышей, спасаясь от дождя. Дождь шел мелко, словно шептал что-то.
— Ну и ночь! — сказал учитель. — Тут к самому носу подойдут — не увидишь. Доведись нападение — я и стрелять-то не умею. Ладно, если убежим. Охрана тоже!
— Ну, я бы не побежал. Что за жизнь пришла? Чего ждать?
— Так-то оно так, а все-таки живой про живое и думает. Дурак лишь не боится ничего.
— Ну, все мы на этот счет не дураки. Однако разойдемся: я — с этого конца, а вы — с другого.
Учитель звякнул ружьем и пошел вдоль стены. Через два шага он словно утонул в черной тьме, даже шагов его не слышно было за шумом дождя.
Кронид поставил ружье между колен и, сидя в неудобной позе на пологом каменном фундаменте амбара, вынул веревочку. Мысли его ползли беспорядочно. Вспомнилось смуглое лицо Виолы, ее пение, смех. Кронид тряхнул головой: не надо! Уехала — и хорошо! Наташа, пожалуй, вовремя ушла: тут и здоровому невмоготу. Вспомнил расстрел комиссара, безголовые трупы. Настасья Васильевна с внучкой Лизой в комнату переехала. Константин хмурый вернулся, совещались о чем-тo с Дмитрием. Уехала охранка, дом опустел... Сын Варвары к белым добровольно ушел.
Кронид вил веревочку, не то думал, не то дремал.
Вдруг кто-то схватил его за плечо.
— Кто тут? — дико закричал он, хватаясь за ружье.
— Смена! — послышался знакомый голос. — Или вздремнул?
— Задумался, грешным делом. Время, что ли?
- Перед ним в черной тьме стояли двое. Кронид узнал смену.
— А учитель где?
— Здесь я. Идемте! — прозвучал голос из темноты.
Дождь прекратился, но было сыро. Кронид передал
ружье и, рассмотрев наконец фигуру учителя, зашагал следом за ним к тусклому огню караулки.
— Как на войне живем, — пробурчал учитель, съежившись. — Дожили! Из Казани-то и не почесались. Видно, и там неладно.
Бородатый мещанин спал на голой скамье. Учитель Закурил папиросу. Озябший Кронид сел, положил голову на стол, согрелся и опять задремал.
— Началось! — громко сказал кто-то над его головой.
Вздрогнул. Поднял голову.
Светало. Все караульные были в сборе и громко разговаривали. Издалека мерно доносились глухие, раскатистые, густые удары, словно гром в степи: стреляли из пушек.
— Больше часу пальба идет, а вы спите!
Кронид посмотрел в окно: небо очистилось от облаков. Занималась пышная заря, обещавшая солнечный, красный день.
— Что же будем делать?
— Что делать? Посидим до смены: в восемь часов дневная должна придти.
— Вряд ли.
— Подождем все-таки.
— Выйти надо из караулки, — предложил Кронид. — Ружья здесь оставим.
Все вышли и сели невдалеке на бревнах.
Всю ночь не спали в доме Блиновых. Анна набила готами два чемодана, но всего не увезешь с собой. Дмитрий заперся в кабинете, и оттуда глухо доносились тяжелые стуки в стену. Наконец он выглянул за дверь, с засученными рукавами рубахи, забрызганной известкой, и позвал жену.
Анна вышла усталая, растрепанная.
В стене было выломлено большое отверстие, с камин величиной. В комнате стояла пыль, пахло глиной.
— Давай! — сказал он, заикаясь. Губы его дрожали. Дмитрий тяжело дышал, отирая пот полотенцем.
— Ну-ка, посмотрю: хватит ли места? — шепотом ответила она.
— Хватит не хватит, больше не могу: устал, да и собираться надо.
Анна осмотрела работу мужа.
— Ничего. Потрудился, можно сказать. Заделать- то как?
— Тоже задача! Замажем, а сверху —- обоями... Высохнет в один день.
Анна принесла серебряный самовар, потом целый узел столового серебра, бокалы, подстаканники, несколько золотых часов, браслетов, цепочек.
— Бриллианты — здесь! — сказала она, указывая на грудь.
— Это, конечно, с собой...
— Сундуки, в случае чего, обещал Крюков к себе забрать. Ну, а покуда — мама здесь будет.
Дмитрий засунул драгоценности в отверстие в стене. На полу припасена была глина, известь, лежали кирпичи.
— Все?
— Все!
Анна перекрестилась и, всхлипнув, вынула платок.
Муж принялся за работу. Неумело вмазывал кирпичи. Анна помогала. Возились долго, и оба выпачкались в глине. Когда работа была кончена и мусор убран, в окнах посветлело.
Заклеив сырое пятно на стене куском обоев, пошли умываться. Дом Блиновых был когда-то княжеским дворцом. Двухсветлый зал, отделанный мраморной обшивкой, лепными украшениями и потемневшими рисунками художников на потолке, уже много лет не отворяли, да и все парадные комнаты оставались необитаемыми вследствие их огромности и ненужной, холодной роскоши. Блиновы жили попросту, ютились в маленьких боковых комнатах. Существовало предание, что забытый княжеский род вымер преследуемый драматической судьбой. В минувшие века в старом дворце созерцались гнусные дела: разврат, насилие, убийства, кто-то был отравлен, остальные погибли от наследственного сумасшествия. Дух преступления как бы тяготел над старым домом, губя и позднейших его обитателей: мрачная драма убийства и сумасшествия в семье Блиновых была у всех на памяти. У них никто никогда не бывал. Екатерина Ивановна ходила в полумонашеском костюме, устроила в угловой комнате «моленную», зажигала лампадки, молилась, часто ездила в монастырь. Теперь, когда двухмиллионный капитал был конфискован, осталось все-таки порядочная сумма в шкатулке да собранное с должников: старуха вздорная и тщеславная прежде, замкнулась в религиозное ханжество. Что произошло в государстве и в городе, кто с кем воевал — не хотела взять в толк, была уверена, что скоро усмирят бунтовщиков, а ей возвратят два миллиона. К сборам дочери и зятя в отъезд отнеслась невнимательно и равнодушно, а сама и слышать не хотела об отъезде.
Катерина Ивановна тоже не спала эту ночь. Когда совсем рассветало, пошла в столовую. Дмитрий разговаривал у порога с Василием, Анна ходила по комнате совсем одетая, вместо шляпки — в платке. Старуха остановилась в дверях — толстая, с мясистым, увядшим лицом, с двойным подбородком и суровым взглядом из-под нависших бровей.
— Поторапливайтесь! — говорил Василий. — Подвода у ворот стоит, и Константин Силыч с семейством с полчаса на пристань выехали. «Меркурий» вторые сутки дымит. Бают, как бы нынче не отвалил, хоша не известно, пускают ли на пароход-то...
— Нас пустят, — возразил Дмитрий: — записывались.
— Ну и слава богу! А все-таки — торопитесь!
— Ты поезжай с подводой, а мы прямиком, по лестнице сойдем, раньше тебя будем.
— Ладно.
Василий взял чемоданы, Дмитрий взвалил на плечи узел, и они оба вышли через черный ход.
В это время, как отдаленный гром, глухо донесся первый пушечный выстрел.
Катерина Ивановна перекрестилась.
Еще раз громыхнуло. Анна остановилась, разинула рот и побледнела.
Вошел Дмитрий.
— Анна, слышишь?
— Что?
— Наступление началось. Возьмут нынче город!
— А может, отсидимся на пароходе, да и назад?
Дмитрий рассердился.
— Назад?! Одиннадцать тысяч их, а белых-то — горсть.
— Мамынька, прощай! — сказала Анна и поклонилась матери в ноги.
То же сделал и Дмитрий.
— Бог простит! — сурово ответила старуха. — Куды путь-то держите?
— За Урал, мамынька.
— П-переждем с полгодика, —- добавил Дмитрий, — а потом воротимся... Небезопасно здесь оставаться.
— Уж и не знаю, мамынька, как вы тут проживете без нас?..
Старуха усмехнулась.
-— Что вы мне? Какая защита-заборона, загуменная ворона? Хуже с вами-то, а с меня, старухи, что взять? Поезжайте!
Дмитрий и Анна еще раз поклонились ей. Когда они вышли, гул канонады катился слышнее. Над Заволжьем поднималось солнце.
Долго спускались с Венца к Волге по бесконечной деревянной лестнице. С горы всю пристань было видно, как на ладони. Дымил белый, двухэтажный «Меркурий», но на пароходной конторке не замечалось никакого движения; зато на берегу, около самой воды, кишмя-кишела толпа. Несколько лодок, до отказа нагруженных людьми и их багажом, плыли на другую сторону Волги. Через двухверстный железнодорожный мост с необычайной быстротой шел пассажирский поезд. Грохотали пушки. По-видимому, мост был под обстрелом.
Анна шла по лестнице впереди Дмитрия, по временам нащупывая на груди заветный мешочек. Спустившись к берегу, сказала:
— Митя, вон Василий с подводой и все наши!
— Вижу.
— Пароход-от не пойдет, видно?..
На берегу слышались крик, гвалт, ругань. Известный всей России фабрикант и помещик, черный, как таракан, с появившейся только теперь проседью на висках и в усах, кричал, размахивая бумажником:
— Двадцать тысяч за лодку!
— Сто! — небрежно отвечали лодочники.
— Полцарства за коня! — улыбнулся Анне Дмитрий. — Вот где обдираловка!
Вся черновская компания оказалась в сборе. Константин с женой и двумя ребятами, Крюков, Мельников с Еленой, Кузин и многие другие, вчерашние богачи и воротилы города.
— Пароход — для войск! — подскочил Крюков, хлопнув Митю по плечу своей тяжелой лапой. — Да и то на ту сторону! ходу нет ему никуды: Казань взята Самара — тоже... Чугункой поедете.
— А ты?
— Я остаюсь, и Кузин остается... Провожать вы шли... Несусветные цены дерут!
Фабрикант грубо ругался, сидя на узлах и чемоданах в отчаливавшей небольшой лодчонке, рядом с женой, известной артисткой. Заплатил сто тысяч за перевоз.
На берегу лодочники ругались между собой. Двое схватились «за грудки». Лодок не хватало, целая стая их, взмахивая веслами, чернела на светлом фоне реки, спеша переброситься на далекий берег Заволжья. Приходилось огибать зеленый остров на самой середине реки, пробираться узким проливом между двумя его частями, разорванными Волгой.
Зинаида сидела с детьми на верху воза, полная, постаревшая, растрепанная. Константин спорил с кем-то у берега. Толпа беженцев металась, как на пожаре. Откуда-то вынырнул Кузин, не спеша и сладко улыбаясь, дернул за рукав Крюкова, начал шептаться с ним.. Крюков воодушевился, подбежал к Василию.
— Трогай к пароходной конторке!
— Дык...
— Трогай, говорю!
— Зачем? куда? — волновалась Анна.
Зинаида сидела на возу безмолвно. Дмитрий стоял - столбом, ожидая, что за него все сделают другие. Крюков за руку тащил Константина от берега, шептал:
— Знаю, что делаю! Есть лодка! — и подмигнул.
— Так точно! — слащаво добавил Кузин. — Только надо незаметно, а то налезут! Айда к пароходу!
Заскрипела телега по песчаному берегу. В большой дощаник влезали, толкаясь, бросая туда узлы и чемоданы, вспотевшие, охрипшие люди с красными от злобы и толкотни лицами, растерянные, перепуганные, обезумевшие. Радовались, что черновская телега сдуру потащилась куда-то в другое место.
Мерно и густо громыхали большевистские пушки.
К восьми часам артиллерийский обстрел внезапно прекратился, но тотчас же началась пулеметная трескотня: по временам она умолкала, но потом возобнов-лялась с еще большей силой.
Находившиеся вблизи караулки казармы оказались пустыми, и туда спешили соседские бабы и подростки за поживой: тащили вязанки листового табаку, конскую сбрую и всякий хлам.
Мимо караулки промчался выпущенный из конюшни серый в яблоках великолепный кровный жеребец.
Замолк пулеметный треск. Через несколько минут совсем близко послышалась беспорядочная ружейная пальба.
— Чего сидите? — крикнула одна из баб караульным, по-прежнему сидевшим на бревнах. — Красные перешли уже через речку, в город ворвались. Вот тут не-далеко стреляют.
Двое караульных еще раньше ушли домой, обещав через полчаса вернуться, но так и не вернулись. Новая смена тоже не явилась.
Решили оставить амбар без караула и разойтись по домам.
С тяжелым чувством брел Кронид домой.
Когда, миновав пустыри и буераки, вошел в город, ружейная пальба послышалась ближе, словно за углом стреляли. На улице, кучками стоя у ворот, глазели обитатели окраины — бабы, дети, подростки.
Кронид повернул к Волге, чтобы сразу выйти на Венец. Стрельба то учащалась, то замирала, но заметно становилась слабее. Вслед за ним, обгоняя его, бежали один за другим к спуску солдаты белой армии. Хотел спросить их, но они бежали по другой стороне улицы, кто с ружьем, кто без ружья. Солнце начинало припекать. По лицам их струился пот, смешанный с грязью.
Крониду все еще не верилось, что белые разбиты: если бой продолжается, то, может быть, еще и отбросят красных?
Как раз мимо Кронида, задев его плечом, пробежал по тротуару молодой, безусый солдат в немецкой черной каске. Он тяжело дышал, отирая грязный пот, струившийся по его желто-смуглому, запыленному лицу, и держа ружье в опущенной руке.
— Ну, как дела? — крикнул ему вдогонку Кронид.
Солдат на момент остановился, обернувшись на
голос, не сразу понял, перевел дух.
И вдруг радостно, устало улыбнувшись, крикнул:
— Кронид!
— Коля!
Это был сын Варвары.
— Куда бежишь?
— За Волгу! Дела на Конной! Понял? Нас вздули, но мы еще придем! Прощай! Каждая минута дорога. Кланяйся маме!
Коля побежал вперед, на глазах у Кронида перемахнул через забор и исчез в чьем-то саду, мелькая между деревьями, прямиком спускаясь под откос.
Кронид посмотрел ему вслед и тяжело вздохнул.
«Пропадет мальчишка! — думал он, шагая по тротуару. — Нет, уж, пожалуй, не вернетесь!.. Эх! дернула Кольку нелегкая к чехам пристать! На Конной!.. Зна-чит уже в городе бой. Отстреливаются кое-как, задерживают красных, чтобы дать своим возможность убраться за Волгу».
Перестрелка угасала с каждой минутой и наконец совсем замерла.
Когда Кронид вышел на обрыв Старого Венца, глазам его предстала такая картина: глубоко внизу, под горой, от пристани отчалил «Меркурий», черневший наполнявшими его солдатами разбитой армии. Пароход медленно повернул против течения и вскоре бросил якорь у заволжского берега.
«Не поспел Колька!» — вздохнул Кронид, садясь на скамью.
Вслед за пароходом барахтались несколько лодок, которые сверху казались горстью брошенных в воду мошек.
Через мост уходил последний поезд отступающих. Опять загромыхали пушки: должно быть, обстреливали поезд, а с моста отвечали ружейным огнем. Поезд шел быстро и, пройдя мост, остановился. С парохода черной ниткой ползли солдаты, как муравьи.
В воздухе раздался такой густой и мощный удар, словно выстрелило одновременно несколько пушек, — и последний пролет моста за Волгой опустился одним концом в воду: белые взорвали мост.
Над городом прямым столбом, все более сгущаясь, поднимался дым. Кронид оглянулся: горел опустевший дом Черновых, бывшая охранка белых. Никто не тушил пожара. День на редкость тихий, безветренный. Пламя вздымалось ровным, спокойным костром.
На углу Венца два человека в шлемах с красной звездой держали кого-то под руки, повалили на землю. Раздался выстрел.
Кронид задрожал. Оглянулся по сторонам: ближе всего был дом Карла Карлыча. Кронид, прячась за изгородью, прокрался к дому. Парадные двери стояли раскрытыми. Вскочил в прихожую и запер дверь за собой. Одно окно было раскрыто. Он подошел закрыть его. Кронид захлопнул окно и обошел квартиру: она была брошена на произвол судьбы, на полу валялись обрывки газет, стояли пустые корзины, раскрытые шкафы. Карл Карлыч успел скрыться.
Неожиданно в дверь кто-то бухнул гулким, тупым ударом. Потом ещё... и опять.
Вдруг весь страх почему-то прошел у Кронида. Даже стыдно стало за недавний припадок трусости.
«Смерть?» — вслух спросил он себя. Потом медленно подошел к запертой им самим двери.
— Кто там? — глухо спросил он.
— Отпирай! — раздалось сразу несколько голосов.
Молча отодвинул засов и настежь открыл створчатую
дверь. У крыльца стояло четверо солдат в шлемах с красной звездой, с ружьями в руках. Пятый был без оружия, но лицо его поразило Кронида напряженностью выражения. Бледное, худое, давно не бритое, в густой золотой щетине, оно казалось каменно-неподвижным и только глаза были раскаленные и решительные.
— Здесь живут белые офицеры! — утвердительно, словно отрубая слова, сказал он.
— Жили. Теперь нет никого.
— А ты кто? Документы.
— Документов со мной нет.
- Да чего слушать буржуя? — закричали солдаты. Он это, сукин сын, провокатор, изменник! — кричали солдаты. — Из-за него, мерзавца, сколько погибло ра-бочих!.. полны овраги растрелянных! Человек без оружия поднял руку:
— В расход!
По Венцу шагом проехал эскадрон конницы на высоких лошадях с новой сбруей, с красными повязками на рукавах и с алыми звездами на остроконечных желтых шлемах.
По опустевшей, безлюдной улице гулко звякали бле-стящие подковы лошадиных копыт.
Дом Черновых пылал среди неестественной тишины, объявшей красивый город на вершине горы, отражавшейся в зеркальной реке.
Когда Колька добежал до берега, пароход был уже на той стороне. Обливаясь потом и тяжело дыша, он остановился у широких мостков пароходной конторки «Меркурия». В садах раздавались ружейные выстрелы. Все лодки были уже на другой стороне. Вдруг он услыхал под мостом спорящие голоса, показавшиеся ему знакомыми.
— Машинист сбежал. Правьте сами, как-нибудь до-едете, — говорил слащавый голос.
— Да не умеем мы! Не доедем, — разом закричали два голоса.
— Тише! — послышался голос, несомненно Крюкова. — Промедление смерти подобно. Ведь каждую минуту влопаться можно. Я тоже не умею, и нельзя мне. Кузин, растолкуй им, как ее в ход пустить...
Послышались женские всхлипывания:
— Господи, что же это будет!
— Лучше бы на простой лодке.
Колька бросился вниз, спустился под мостки и на-ткнулся на всю компанию: Дмитрий, Константин. и Мельников с плачущими женами и детьми сидели в мо-торной лодке. Кузин и Крюков стояли под кручей, у самой воды.
Внезапное появление солдата с ружьем заставило женщин вскрикнуть.
- Я это, я! — отирая пот с грязных щек, крикнул он. — Едем! Я умею править.
Колька, не расставаясь с ружьем, вскочил в лодку,
— Теперича — лодка, значит, ваша, — сказал Кузин.
— Коля, заводи! — хлопотал Крюков. — Да лягте которые... Не торчите: еще под шальную пулю попадете.
Константин насмешливо бросил Кузину:
— Спасибо за лодку!
— За сто тысяч! — тихо добавила Анна.
— На что едем, куда — сами не знаем. Люди-то вон остаются, — говорила Зинаида.
— Отваливай! — скомандовал Крюков и отсунул тяжелую лодку, кряхтя и напрягаясь.
Заработал мотор. Лодка сначала медленно, а потом все быстрее заскользила мимо конторки между якорных канатов. Сидевшие в ней прилегли за высокими бортами.
Крюков и Кузин, здоровенные, широкоплечие, в старых, заплатанных поддевках, вылезли из-под кручи и пошли на пустую баржу пароходной конторки.
Лодка быстро удалялась, оставляя за собой пенистый след. С горы по ее направлению затрещали выстрелы. Обогнув остров, братья Черновы высунули головы. Над юродом стоял дым. Две кряжистые фигуры все еще виднелись на борту баржи, бородами друг к другу: о чем-то совещались. Два самых предприимчивых купца не захотели бежать, остались в руках ненавидевшей их революционной власти. Был у них какой-то план: в этом братья не сомневались. Женщины лежали на дне лодки, прижавшись одна к другой.
Белые, сойдя с парохода, зажгли его. Огонь побежал по бортам маленькими язычками и струйками, быстро превращаясь в яркое пламя. Многочисленные каюты в два яруса осветились изнутри ярко-золотым светом. Сидевшим в лодке слышно было, как трещали сухие, тонкие переборки, выкрашенные масляной краской.
Когда перегорели канаты, пылающий пароход, медленно поворачиваясь, поплыл сам собою вниз по течению. Силой воды и огня его вынесло на середину реки : весь огненно-золотой и прозрачный, он зловеще плыл по голубой зеркально спокойной реке.
X
Варвара возвратилась из лечебницы совершенно больной и едва могла ходить. На курорте произошла акая же разруха, как и во всей стране: ни врачей, ни лекарств, ни больничного белья, ни дров, ни пищи! Чуть живой вернулась в родной город после взятия его красными. Отыскала свою мать и дочь на окраине, в углу проходной комнаты, отгороженном ситцевой занавеской.
Настасья Васильевна стала совсем ненормальной, заговаривалась, голова тряслась пуще прежнего. Внучке ее, Лизе, было уже двадцать пять лет. Она напоминала Варвару в молодости: такая же высокая, крупная костью, с большим подбородком. Обращалась с полоумной бабушкой повелительно, как бы в отместку за прежнее ее самодурство. Единственной опорой семьи была Лиза: служила где-то, приносила паек.
В городе возрастали дороговизна, голод, холод. Зима наступила лютая, какой давно не бывало. На топливо ломали заборы, спиливали деревья. Ночью луна светила сквозь морозный туман, а по бокам ее двумя огненными столбами зловеще сияли два ее отражения. В городе шли слухи: о событиях на юге, об атаманщине, батьковщине, гайдамачине.
У обитателей угла в проходной комнате не было ни хлеба, ни дров, ни керосина. По вечерам сидели с самодельной лампадкой и полуголодные ложились спать, прикрываясь всяким тряпьем. Жили как на новом «дне» — новые «бывшие люди».
Однажды вечером пришел Крюков, очень редко заходивший, все в той же выцветшей, заплатанной сибирке. Лизы не было дома, бабушка спала в углу на сундуке. Варвара, исхудавшая, желтая, встретила его испуганным взглядом: Крюков приходил только с неприятными вестями.
— Ну, черный ворон, каркайте скорее, каких еще бед нам не хватает?
Крюков по старой привычке расшаркался, руку у Варвары поцеловал, сел на стул, кивнул в сторону бабушки:
— Спит, али прихворнула?
— И хворает, и спит. Совсем оглохла и обезумела... Одним словом — рассказывайте, что нового?
— Ничего особенного... Есть известие, что сын ваш в Сибири теперь, в ледяном походе участвует. Братья в Минусинске мельницу держат, но — небогато живут. А вот насчет супруга вашего — читали? в газете было...
Варвара побледнела.
— Не пугайтесь: плохого пока нет. Из Англии он уехамши, на Дону теперь обретается, с белыми, при штабе чем-то состоит. Можно, пожалуй, порадоваться за него. Писем не имеете?
Варвара махнула рукой.
— Какие письма? С четырнадцатого года не пишет...
— Пожалуй, что это и хорошо, — задумчиво сказал Крюков.
— Что же тут хорошего? Видно, что все поставил на карту. Опять вмешался в политику.
— Большая игра, что и говорить. Чья возьмет — не известно. Но, по-моему, — в самый раз он с белыми со-единился.
— Ведь вот вы, кажется, не большевик, а с больше-виками ладите. Ваши-то взгляды какие?
— Взглядов моих я не скрываю, Варвара Силовна. Я —спец, фабрикой управляю, и пока нужен им. Приспособляться надо, Варвара Силовна. Плетью обуха не перешибешь, сила солому ломит. Вот по всему городу теперь повальные обыски. Придут, конечно, и к вам: Чеке отлично известно, чья вы дочь и чья жена. Специально за этим шел к вам — предупредить. Приготовьтесь— и чтобы ни синь-пороха не было, ничего подозрительного, особливо насчет переписки. Боже сохрани! А лучше всего — съехать бы вам от дочери: на недельку спрячем вас, а там, глядишь, все обойдется, в особенности ежели при обыске ничего не окажется. Ну, прошевайте! — закончил Крюков, вставая. — Там, за занавеской, я мучки с полпудика принес — в счет Кости по фабрике. После сочтемся.
По уходе Крюкова Варвара упала на кровать, вцепи-лась зубами в подушку, чтобы не разрыдаться. Больное сердце то замирало, то начинало бурно колотиться в груди. Задыхалась. Руки и ноги дрожали. Чувствовала близость какой-то печальной развязки всей ее жизни: что делать, куда идти, где спрятаться? Так вот она — русская революция! Мечтала о славе и богатстве, когда шла за Пирогова, думала министрихой от революции быть, а тут какой-то ураган вдребезги разбил всю жизнь.
В комнате стемнело, когда пришла Лиза — в валенках, в дубленом овчинном тулупчике.
— Хоть бы огонь зажгли! — сказала она раздраженно, сбрасывая полушубок. — Спят — и горя мало... Селедку принесла, вставайте!
Старуха зашевелилась в углу, села.
Лиза долго при помощи медной зажигалки возилась с лампадкой.
— Я не сплю, Лиза, — отозвалась Варвара. — Нездоровится мне.
Убогая комната слабо осветилась неверным, мигающим светом.
— Кто это был здесь? — дребезжащим голосом спросила Настасья Васильевна. — Кронид будто.
— Поехала!— возразила Лиза.— С того свету, что ли?
— Али, бишь, умер он. А ты не кричи, чего кричишь?
Лиза ничего не ответила, развертывая принесенный сверток.
Варвара смотрела на ее широкую спину, на большие, красные от мороза руки. Неужели эта мужиковатая, огрубевшая девушка в валенках — ее дочурка Лиза? Казалось, еще недавно бегала в коротеньком платьице, с ленточкой в белой, как лен, косичке, ластилась к матери, а теперь простуженным басом говорит...
— Лиза, купила бы ты мне фунтик яблочек на рублевочку! — жалобно сказала старуха. — Рублевочка-то есть у меня: в платочке завязана.
— Бабушка! как ты не понимаешь ничего! Рублевка теперь ничего не стоит. Совсем из ума выжила!
— Оставь ее! — сказала Варвара. — Крюков был, муки принес. Предупреждал, что по городу обыски идут...
— Оружие ищут. А какой дурак будет держать его, себе на погибель? Ерунда!
— Отчим твой у белых теперь...
— Читала. Обыска ждать надо. Если придут, беги на улицу с черного хода, а уж я отбоярюсь...
— Крюков советует мне на время к ним переехать.
— Где все? — бормотала старуха. — Были — и нет никого, Все в могиле. Богатство-то наше куда подевалось?
Послышался стук в парадную дверь. Лиза выскочила в коридор; с лестницы хорошо был слышен ее густой голос и еще несколько женских и мужских голосов.
Захлопали дверями соседние жильцы. Чье-то испитое лицо просунулось за занавеску и, прошипев: «С обы-ском» — исчезло.
Варвара накинула на плечи шубу и выскочила на двор через пустую кухню.
По коридору слышались тяжелые шаги и мужские голоса.
Настасья Васильевна, высокая, худая, как скелет, с трясущейся головой поднялась с жалкого ложа и, гор-деливо подбоченясь, сказала блеющим голосом:
— Не сметь сюда входить! Выдьте вон при моем виде!
Ночевавшая у Крюковых, занимавших флигель во дворе у Кузина, Варвара утром узнала, что Лиза после обыска арестована и сидит в тюрьме.
Варвара тотчас же отправилась в Чека.
Чрезвычайная комиссия помешалась в бывшей город-ской управе. Это был большой, двухэтажный белый дом на. главной улице города. Ей приходилось и прежде бывать в светлых, высоких комнатах управы. Но теперь у дверей стояли часовые в красноармейских шлемах. Ее пропустили в приемную, где в ранний утренний час еще не было никого.
Она села на скамью и стала ждать.
Из боковой двери выглянул высокий красноармеец в длинной кавалерийской шинели. Вежливо спросил ее фамилию и скрылся.
Через несколько минут тот же человек в шинели выглянул в дверь и сказал громко:
— Гражданка Пирогова, пожалуйте!
Варвара вошла в маленький кабинет, где около письменного стола сидели три молодых парня в косоворотках.
— Что вам угодно? — спросил один из них.
— Я прошу освободить мою дочь, — сказала Варваpa, откинув дрожащую голову, и поискала лорнетку в ридикюле, но лорнетки не было.
— Вас вчера не оказалось дома, и поэтому она арестована. Нам нужны вы!
— Если нужна, то вот я, — возразила Варвара.
— Нам нужны сведения о вашем муже. Вы в переписке с ним?
— Нет.
— Вам не известно, где он?
— Не известно, я уже несколько лет не имею от него никаких известий.
— Так.
Молодой человек порылся в бумагах. Потом сказал:
— Он изменник революции. Вы должны иметь в виду, что если будет обнаружена ваша переписка с ним, то вам грозит суровое наказание. К вашему счастью, обыск не дал таких результатов.
— Их и не могло быть, — сказала Варвара. — Надеюсь, что арест моей дочери не будет продолжительным?
— А с вашим покойным сыном вы переписывались? — неожиданно спросил чекист.
Варвара вздрогнула и вдруг откинулась на спинку стула с помертвевшим лицом. Комната пошла кругом перед ее глазами. На минуту она потеряла сознание.
— Выпейте воды! — прозвучал над ней чей-то голос.
Она дрожащей рукой взяла стакан и выпила несколько глотков. Зубы стучали о стакан, несколько капель пролилось на платье.
— Я не знала, что его.., уже.,,
Спазмы сжали горло. Слезы медленно потекли из глаз, но лицо казалось неподвижным. Огромным усилием воли она овладела собой.
— Он — убит?
— Нет, нам известно, что ваш сын, находясь в армии Колчака, умер от тифа. В бреду убежал из лазарета в поле и погиб там во время бурана.
Варвара прижала платок к глазам и долго не отнимала его.
— Можете идти! — сказали ей, возвращая документы. — Дочь ваша будет выпущепа сегодня же.
Варвара встала. Прежнее самообладание вернулось к ней.
Глаза были сухи, лицо — каменное.
Не помнила она, как очутилась дома, на кровати. Когда открыла глаза, у изголовья стояли доктор Зорин и Лиза. Бабушка сидела на сундуке, как бы кивая трясущейся головой.
— Что со мной? — едва слышным голосом прошептала Варвара.
— Ничего особенного, — ответил Зорин. — Легкое переутомление, маленькое нервное потрясение.
— Три дня без памяти лежала, — мрачно сказала Лиза.
Варвара рванулась к дочери, но силы оставили ее: голова упала на подушку.
— Лиза! — прошептала она. — Ты здесь! свободна!
— Молчи, — наклонилась к ней Лиза. — Все благополучно. Не волнуйся, мама: вредно тебе.
— Вам нужно правильное лечение, Варвара Силовна, — продолжал Зорин. — Здесь обстановка неблагоприятная, но я похлопочу, чтобы вас приняли в больницу.
— Не хочу, — прошептала больная. — Лучше здесь... Проклинаю всех!., все!..
Лицо Варвары задрожало. Она снова впала в беспамятство.
Через неделю Варвара умерла.
XI
Осень стояла солнечная, сухая, теплая. Уличная жизнь Москвы мало чем отличалась от прежней: на Ильинке торговали всякой мелочью, на углах стояли извозчики, московская толпа почти также оживленно сновала по тротуарам, как и прежде. Но большие гостиницы были обращены под новые учреждения, магазины закрыты. Торговали только чайные и столовые, молочные и табачные лавочки, много было уличных торговцев с лотками яблок и картофельных котлет.
На Советской площади на месте уничтоженного памятника Скобелеву строился серый обелиск; на фронтоне бывшего дома генерал-губернатора выделялись на полотняной вывеске красные буквы РСФСР. Перед домом стояла большая уличная толпа. Человек в тужурке н кепке, стоя на балконе, громким голосом, разносившимся но всей площади, говорил речь отрывистыми фразами. Этот звучный, разряжающийся голос показался Валерьяну странно знакомым: где-то когда-то он слышал его. Оратор говорил о борьбе революции с ее врагами, о победах, завоеваниях и предстоящих трудностях. Москва готовилась отпраздновать годовщину революции.
Валерьян тщетно пытался вспомнить, где он слышал этот взрывчатый голос, но так и не вспомнил. Мысли были заняты собственными делами. Он шел к скульптору Птице, торопился застать его дома и, не дослушав речи, пошел по Тверской.
Чтобы попасть в студию скульптора, нужно было пройти под полукруглые каменные ворота и в глубине двора семиэтажного дома отыскать одну из многих парадных дверей. Найдя дверь, лифтом поднялся на шестой этаж: выше лифт не ходил; на седьмой, чердачный, пришлось подняться по лестнице. На низенькой двери была приклеена бумажка с надписью: «Прошу даже близких друзей не приходить ко мне ранее 9 часов вечера».
Валерьян улыбнулся: эта записка висела еще с дореволюционных лет, но на ее содержание и смысл никогда никто из «близких друзей» не обращал внимания.
Валерьян без колебаний надавил пуговку электрического звонка, и дверь тотчас же отворил сам хозяин — хромой, постукивающий железным каблуком, с коротко остриженной головой и в длинном коленкоровом халате — в своем рабочем костюме.
Расцеловавшись с другом, скульптор сказал, вводя его в мастерскую:
— Ты хорошо сделал, что не опоздал. Жду комиссию и, значит, в два счета устрою тебе свидание... Работаем. Занят по самые... по эти... по колена... Видишь?
Художник осмотрелся.
Мастерская скульптора была заставлена гипсовыми и мраморными фигурами, бюстами; с длинных полок смотрели мужские и женские лица, смеющиеся, плачущие, думающие, мечтающие... На человека, впервые вошедшего в эту странную комнату, они производили впечатление неподвижно застывшей толпы с различным выражением лиц, полных жизни. Вот полунагая женщина с трагическим лицом и с заломленными в отчаянии голыми руками; в ее позе и выражении прекрасного лица столько экспрессии, что кажется — у нее захватило дух, и вот-вот сейчас из мраморной груди вырвется дикий, истерический вопль... Но она молчит, и уже годы как замерла в этом трагическом состоянии.
А позади нее, ущемленная в железном треножнике, осталась неоконченная мраморная голова с заразительно смеющимся лицом, похожим на самого скульптора от смеха даже вздулись жилы на лбу. Но смеха не слышно, и странно' было видеть эту беззвучно хохочущую голову, навеки оставшуюся в таком веселом виде. С полок смотрели богини, мудрецы и герои: Сократ, Аристотель, Венера, Паллада, Ахиллес, Геркулес, — древние задумчиво взирали сверху на современных людей.
Возвышаясь головой почти до стеклянного потолка мастерской, треть комнаты занимала фигура, вылепленная из еще не остывшей темной глины. Она как бы по-явилась из бесформенной массы, голая до пояса, с могучей грудью, мощными руками, с головой великана и вьющейся круглой бородой. Фигура эта, видимо, была далеко не окончена, но голова и лицо жили глубокой жизнью, полной, напряженной экспрессии.
— Кто это? — спросил Валерьян.
— Модель памятника Виктору Гюго, — любовно про-ведя рукой по волнам глины, ответил скульптор. — Заказ советской власти! В ноябре годовщина революции — так надо к сроку, но вряд ли успею. Главное—захватило меня, как давно не захватывало: перечитал все его книги, бредить даже начал, во сне его вижу. И вот — сляпал! — Скульптор с нежной осторожностью провел по глине привычной, ловкой рукой, засученной по локоть и мускулистой от постоянной работы. — Хорош?
Художник не ответил. С невольной завистью смотрел на новое создание скульптора.
Могучее лицо дышало жизнью, мыслью, чувством: в сложном и глубоком его выражении ощущалась мощь Жана Вальжана, дикая любовь Квазимодо и образы «Тружеников моря».
Глаз нельзя было отвести от этого содержательного, и гениального лица. Внезапно всплыли те волнующие пе-реживания, которые когда-то давно, в юные годы, испытал он за чтением «Собора Парижской богоматери» и «Истории одного преступления».
— Да, хорошо, — сказал он со вздохом. — Это лучшее из всего, что ты сделал до сих пор.
Птица поморгал глазами.
— Я ночи не спал, когда думал о нем. Вложил в него все, что у меня накопилось здесь!.. — Скульптор по-стучал себя по крепкой и круглой груди. — Сэр! — продолжал он. — Ты с начала революции сидел там, на своей Волге, и, конечно, понятия не имеешь о том, что здесь затевается. Ко дню годовщины в Москве будет воздвигнуто триста памятников писателям, поэтам и героям революционного движения во всем мире. Триста! Это, брат, крыть нечем. Жаль только, что большинство заказов получили футуристы: народ все такой, понимаешь ли, — а-про-по, шан-тро-па, а-ля-фуршет, ам-по-ше — и поминай как звали! Но все-таки будут работы и настоящих мастеров. Большевики на это денег не жалеют. Триста тысяч чистыми за Гюго получу, если только к сроку успею отлить. А на днях ведро спирту на обмывку глины пришлют, чтобы не трескалась.
Птица посмотрел на друга искоса, с лукавством.
— Разве непременно спиртом надо обмывать?
Скульптор посмотрел еще лукавее.
— Не дурак же я! Спирт разведем и выпьем. Небось, все друзья мои сбегутся, Когда у меня обмывка, так они по запаху, с улицы, чутьем чуют. Бежит мимо, понюхает воздух — и ко мне... А сейчас давай кофе пить!
— Вот как! — удивился Валерьян. — Кофий пьешь?
— Не настоящий, конечно, не мокко, а так — а-ля- фуршет. Но зато с сахаром!
Рядом с мастерской, за малиновой шерстяной занавеской, заменявшей дверь, была крохотная, гробообразная комнатка с чрезвычайно низким потолком, с единственным окном, из которого был вид на бесконечные крыши Москвы.
Там стояла низенькая, продавленная софа, круглый стол в углу, два стула и керосиновая плита на маленьком столике, с большим чайником из красной меди. Птица зарабатывал хорошо, мог жить лучше, но сам себе готовил обед и кипятил кофе: остались привычки богемы, с которыми он не хотел расставаться после десятилетней жизни в Париже.
С привычной ловкостью развел огонь, заварил кофе. Валерьян остановился перед мраморной фигурой женщины.
— А это что? — спросил он подошедшего хозяина.
— Жена позировала, — равнодушно ответил скульп-тор.
— Разве у тебя есть жена?
— Была, сэр!
— Где же она теперь?
Птица пожал плечами.
— Разлюбила тебя?
— Нет, любила, и я ее любил, но уж лет десять как разошлись. Надоела ей толпа моих друзей, она и предложила мне ультиматум: или друзья, или она. Я долго раздумывал, а потом предпочел друзей. Она и ушла... Терзалась очень, но не мог я покориться ей: тогда бы все творчество мое пошло к черту...
Валерьян долго смотрел на отчаянье красивой жен-щины, которую не пожалел и осмеял Птица, не умевший работать без друзей и свободы. Он довольствовался одинокой жизнью. Она наполнялась радостями творчест-ва и холостыми пирушками на чердаке с друзьями и приятельницами такого же типа, как он сам. Валерьян ду-мал, что Птица беспорядочен и чудачлив, но ребяческой душе его свойственны птичьи крылья, которые в минуты вдохновенья поднимают его высоко над жизнью. Недаром и живет он на чердаке седьмого этажа, взирая на знаменитый город с птичьего полета. Валерьян с горечью и завистью к другу думал о своей жизни, погибшей из-за любви и сострадания к женщине, о своем таланте, захиревшем от того, что он долго был близок к умиравшему дому чуждой для него семьи и не был способен к справедливой жестокости истинного художника.
— А вот, — прервал молчание Птица, снимая мокрые тряпки с фигуры, которой до этого не заметил Валерьян, — ежели не успеют отлить Гюго, я им другую вещицу дам.
Это был бюст человека с гордо и вызывающе поднятой головой, с высоким, благородным лбом, с лицом аги-татора, дышавшим волей и энергией.
— Узнаешь?
— Лицо знакомое, но трудно вспомнить.
— Это — Лассаль. Тоже мучился и с ним: перечитал все его речи, «Один в поле не воин» Шпильгагена — и все не мог натуры найти. Помогла мне старая статуэтка моей же работы с одного эмигранта. Жил с ним в Париже. Совсем я тогда слабеньким, желторотым учеником был: голодал, лепил миниатюры на продажу, а он ходил продавать на тротуаре. Вот с него и взял я материал, кроме, конечно, портретов Лассаля...
Птица налил два стакана горячего кофе и поманил приятеля в маленькую комнату.
— Пей! Насчет закуски слабовато нынче: черный хлеб только, голодновато в Москве. А все-таки — молодцы большевики! Как они умеют организовать всякие праздники, что делается в цирке, в балете, в опере! — Птица улыбнулся и продолжал, отхлебывая кофе: — Вот, сэр, какие дела.
— Голод в Москве, — пробормотал Валерьян.
— Это обойдется. Не хлебом одним жив человек. Зато сколько денег идет на театры, художество, литературу! Книги, брат, теперь издаются в сотнях тысяч! Наша братия, художники, прежде зависели всецело от бур-жуазии, чесали ей пятки. Все, что искусство создало до революции, будет поставлено на почетную полочку, но — не годится для настоящего момента: оно не созвучно эпохе! Нам с тобой нужно начинать сначала. Так начнем же! Черт побери из тяньтери в яньтери наше прошлое! Прежде властвовавший класс умер. Туда ему и дорога! В мир грядет коммунизм! — вскричал Птица с пафосом. — И что бы ни случилось с ним, несомненно одно: свершается колоссальный сдвиг во всем мире в пользу галерки, которая пересела в партер.
Он крепко поставил стаканы, взъерошил вихры, взял с полки маленькую переплетенную книжку, раскрыл ее и сказал, понизив голос:
— Вот что писал когда-то Генрих Гейне о коммуни-стах! Послушай...
Птица порылся в книге, нашел нужную страницу и прочел с увлечением: «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда коммунисты, эти мрачные иконоборцы, достигнут господства: своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт; лилии, которые не занимались никакой пряжей и никакой работой и, однако же, были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем своем блеске, будут вырваны из почвы общества, разве только захотят взять в руки веретено; роз, этих праздных невест соловьев, постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны и — увы! — из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать пакеты и всыпать в них кофе или нюхательный табак для старых баб будущего. Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которую победоносный пролетариат угрожает моим стихам: они сойдут в могилу вместе со всем старым романтическим миром».
Птица захлопнул книгу, сунул ее на полочку и, повернувшись к Валерьяну, сказал:
— Лет сто назад писано. Коммунизм приходил в мир вместе с каждой революцией, но — не достигал господства. Теперь опять пришел! Бедный Гейне! Он думал, что коммунисты разобьют статуи красоты, но они их воздвигают! Думал, что его стихи сойдут в могилу, но коммунисты воскресили их! Он скорбел половиной своего расколотого сердца, а другой половиной смеялся над этой романтической скорбью и — приветствовал революцию. Он без колебаний примкнул к ней, ибо чувствовал, что романтика, которую он так любил, — отжившая гниль, музейная бутафория и что будущее человечества непременно, рано или поздно, пройдет через эпоху ком-мунизма. Он не любил «этих мрачных иконоборцев» и все-таки шел с ними, потому что любил жизнь, а она требовала гибели отжившего и была на стороне разру-шителей... потому что, милый мой сэр, жизнь стремится вечно обновлять мир!
— Все это правда, но ведь они узкие, примитивные материалисты, — возразил Валерьян, — а мы, ху-дожники, никак не можем обойтись без фантазии, без поэзии и, как тот же Гейне, — без романтизма.
Скульптор весело улыбнулся.
Они не только узкие материалисты, — на самом деле это люди, одержимые пафосом великой фантазии. Они враги устаревшей, выдохшейся веры, но они сильны тем, что несут новую веру. В мире давно уже не было таких людей, упорно верящих в творческие силы народа. Да, они верят страстно, нетерпимо, свирепо, и в этом их сила. «Аристократы духа», вечные «патриции искусства», мы идем вместе с ними, сами того не замечая: в старых богов и мы давно не верим... Я приветствую коммунизм потому, что сама жизнь вызвала его на арену мира, потому, что он столкнул в тартарары старую рухлядь и поднял такую пыль, что весь мир чихает. Сэр! — меняя пафос на иронию, продолжал Птица, становясь в позу со склоненной головой. — Ты видишь перед собой ни больше, ни меньше, как бодрого, веселого, жизнерадостного большевика, в порядке партдисциплины работающего на мельнице коммунизма. Из тяньтери в яньтери старую жизнь! В два счета, а-ля-фуршет! Равняйся на новую жизнь, и да здравствует революция!
В это время затрещал звонок. Скульптор, стуча каблуком и хромая, быстро заковылял к двери.
Вошел Ленька — длинный, тоненький, выглядевший юношей.
— Отец, поздравь: сдал и принят в институт! — заговорил он ломающимся голосом.
Валерьян обнял сына.
— Ну, вот и прекрасно. Не надивлюсь на тебя! Ведь каким ты был лентяем, а теперь вот радуешься, что учиться приняли.
— А знаешь — почему, отец? — возразил Ленька, садясь рядом с ним на софу. — Учителя мешали учиться. Ведь я был внук банкира, ну, и переводили из класса в класс, хотя я ровно ничего не знал и шалопайничал.
— Это правда, Леня, — отозвался скульптор, зажигая опять керосинку. — Кофе выпьешь? Дети богатых на девяносто процентов вырастают безвольными оболтусами. Нужда, брат, развивает волю, энергию, обогащает душу переживаниями и в особенности полезна в молодости.
— По правде сказать, и я виноват в том, что у тебя было такое серенькое детство, и совсем не моя заслуга, что из тебя что-то выходит. Никак не воспитывал тебя! Даже не заметил, когда ты успел вырасти, — мягко говорил сыну художник.
Ленька не отвечал, с аппетитом поглощал кофе с хлебом.
— Теперь очень интересно учиться, — пробормотал он с набитым ртом. — Интересная жизнь... лекции... собрания.
— Все зависит все-таки от самого себя, сэр, — возразил Птица. — Разве мы не видим хулиганство, распу-щенность и огрубение? Кто расположен к порче, тот везде испортится, а есть такие, которых портят, а они не портятся. Революция поставила детей прямо перед лицом жизни. Кое-кто этого не выдерживает, зато из тех, в кого самой природой что-нибудь вложено, выйдут новые, прочно устроенные люди, — конечно, не без труда, не без борьбы... Из тебя, Леня, выйдет толк. Нахожу, что удачный сын у тебя, сэр!
— Бросьте вы обо мне толковать, старики! — улы-баясь, прервал его Ленька. — Все еще ребенком меня считаете...
— Да, правда, — почему-то вздохнул Валерьян. — Ты уже самостоятельный человек, в моем руководстве не нуждаешься...
— Будем друзьями, отец! — с порывом возразил юноша. — Я помню, как ты мучился, когда болела и умерла мама, как тебе было тяжело жить. Глядя на твои мучения, я решил никогда не жениться.
Друзья рассмеялись.
— Ну, сэр, как твоя работа? — переменил тему Птица.
— Да вот не знаю, как и где мастерскую получить.
— Работай пока у меня. С минуты на минуту жду комиссию по устройству годовщины. Дадут и тебе заказ: если хочешь — работы по колено... Хотят они заказать хорошему художнику плакат в восемь сажен вышины. Валяй!.. Для большого театра тоже нужны новые декорации. В день годовщины вся Москва будет залита яркими красками, цветами... Интересно работать. Друг мой, великий художник Валерьян! Все должны служить коллективу, все — на фронт революции! Пупки вперед и — равняйся! А наши прежние заслуги, — Птица свистнул, — увы! — аннулированы.
— Каким языком ты стал говорить! — укоризненно сказал Валерьян.
— Я говорю языком плаката, улиц. Да! Скоро и мы с тобой будем работать для улицы: высекать статуи, строить памятники, писать картины для площадей, не вершками, а саженями. Пока идет перестройка всей жизни, и уж тут не попадайся под ноги задумчивая ли рика, интеллигентская тоска и поэзия уюта в зимний вечер у камина... К черту все это!.. Сэр! Забудем наши старые заслуги, наденем рабочий фартук, засучим рукава, начнем строить новое на прочном грунте старой земли. Все — дыбом, все — сначала.
Валерьян слушал патетические речи Птицы и не знал, серьезно говорит он или смеется над собой.
Новый звонок прервал красноречие скульптора. Он заковылял к порогу, скрывшись за занавеской. В мас-терской послышались два новых мужских голоса.
— Так это и есть Гюго?
— Да, сэр.
— Здорово! Конечно, будет принято...
— Еще не готово.
— Вот это жаль! Эх, жизнь треугольная!
— Но вы обещали нам известного художника, — до-бавил другой голос, — а фамилии не сказали. Где он? Давайте нам его.
— Есть! — по-матросски ответил скульптор и, от-кинув занавеску, сказал: — Сэр, пожалуйте!
Валерьян вошел в мастерскую.
— Евсей! — радостно вскричал он, засмеявшись. — Абрамов!
— Опять встреча, — улыбаясь, сказал бывший давосский редактор, в то время как зоолог, растроганный, обнимал Валерьяна.
— Вот так сюрприз! Ах, жизнь треугольная! Ведь про тебя ни слуху, ни духу. Сказали — на Волге застрял. А как нужно-то тебя!
Птица улыбался самодовольно.
— Сэры! — с театральным поклоном сказал он. - Я все это устроил нарочно.
Все засмеялись.
— А это кто? Неужели Ленька? — удивился Евсей. — Студент?
— Уже! — сказал Ленька.
— Куда ни кличь... О, жизнь треугольная! Наконец-то
ты сошлась удобным клином для нас. Ленька! помнишь Виллафранку?
— Еще бы! И ваши рассказы про океан и медведицу.
— Ну, а где твоя семья, Валерьян: жена, последняя из тургеневских женщин, Митя, любитель бургундского,, и вообще — что сталось с мрачным домом Черновых?
— Он погиб, — тихо сказал Валерьян.
— Мне жаль из них только твою жену, Валерьян, — сказал Евсей, — этот цветок прошлого. Но и то сказать: не жилица она была по нынешним временам.
Он тряхнул головой, выпрямился.
— Итак, ты один, свободен, еще не старик, и уж теперь-то не эскизы будешь писать! Много сил своих погубил ты, но вижу по глазам и сединкам на висках — все, что ты выстрадал, — выльется!
— Начнем с начала, — спокойно улыбаясь, иронически ответил Валерьян.
— Мы тебе дадим хороший заказ: фигуру рабочего м восемь сажен вышины и декорации в Большом театре. Сегодня в семь часов являйся на заседание комиссии, там все и обсудим. — Он взглянул на часы. — Ну, а теперь — пора! Товарищ Абрамов, едем! Скульптора с собой захватим: надо съездить на литейный завод.
— Я готов, — заявил Птица, сбрасывая рабочий костюм.
Все поднялись с мест к выходу.
— А я здесь поработаю до твоего возвращения, — сказал Валерьян скульптору. — Дай бумагу и карандаш!
— Валяй! Я — скоро! Ты куда, Леня?
— В институт. У нас тоже собрание.
— Люблю жизнь! — весело воскликнул скульптор и неожиданно сделал балетное па, повернувшись на своей хромой ноге.
Когда мастерская опустела, Валерьян подошел к окну - растворил его и остановился, пораженный величественной панорамой.
Вся Москва была как на ладони. Сиял ясный, тихий, щечный день. Солнце играло на бесконечных, уходивших за горизонт зеленью, эмалью, синью и золотом бесчисленных куполах церквей, колоколен и башен. С громадной высоты казалось, что Кремль со своими соборами и Иваном Великим стоит где-то внизу, как сказочное видение. Игрушками казались разноцветный храм Василия Блаженного, Красная площадь с Лобным местом, откуда когда-то Грозный кланялся народу.
Трехсотлетние, уходившие в землю златоглавые церк-ви, возвышавшиеся когда-то над бревенчатыми теремами древней Москвы, теперь казались задавленными мно-гоэтажными громадами. Московская старина доживала свой век, теснимая грандиозной, быстро катившейся новизной. Еще недавно блистала здесь родовая и денежная аристократия, кипела жизнь верхов.
Теперь пришел рабочий и сразу занял верховное место. Что-то произошло небывалое, серьезное. Это видно по обгорелым многоэтажным домам, исцарапанным снарядами, по рабочей толпе, хлынувшей во дворцы и палаты, по деловым учреждениям вместо прежних увеселительных мест, по плакатам, где преобладает новый властитель жизни — рабочий. О нем пишут, о нем говорят. Он — мировая сила! Богачи, цари и вельможи, еще недавно властные, вынуждены были уступить ему дорогу.
Мрачное прошлое, умирая, еще дышит в этих толстых, несокрушимых стенах! Вот палаты бояр Романовых, сохранившиеся так, как будто Романовы только что оттуда выехали. Чудится, что еще совсем недавно Гришка Отрепьев с кремлевской стены разбился, а из Красных ворот, того и гляди, появится на коне царь Петр в зеленом камзоле.
Вот кряжистое здание Московского университета, напоминающее о бесчисленных поколениях русской молодежи, прошедших через эти старые, низкие двери; Вспоминается вся история русской интеллигенции...
Валерьян долго смотрел на этот ни с чем не сравнимый, полуазиатский, красочный, нелепо-разнообразный, неправильно раскинувшийся древний город, и в его воображении вставала тысячелетняя история России. Многое прошло здесь через душу русского человека, одаряло, обогащало или терзало ее.
Теперь пришла революция. Жизнь забилась с необычайной полнотой и силой.
Москва, как магнит, могучим своим притяжением втягивает в себя наиболее живые силы, все лучшие материалы страны, выковывает, переплавляет их. Скопляется небывалая энергия, растекается и вновь приливает. Мощный гул великого города напоминал тяжко бьющееся гигантское сердце.