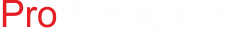В имении купца Силы Гордеича Чернова «Волчье логово» в зимний вечер состоялся семейный ужин, за которым было изрядно выпито по весьма серьезному поводу: в этот вечер из Москвы приехал знаменитый художник Валерьян Иваныч Семов свататься за младшую дочь Силы Гордеича Наташу. Дело, по-видимому, шло на лад: художника приняли радушно, хотя еще окончательного разговора не было. За ужином говорили о посторонних предметах, больше слушали рассказы гостя и старик зорко приглядывался к будущему зятю, наводящими вопросами экзаменуя его.
После ужина, когда члены многочисленной семьи разошлись по комнатам огромного дома в старинном дворянском стиле, с антресолями и зимним садом, Сила Гордеич пригласил Семова в кабинет. Кабинет был небольшой, но уютный, с большим кожаным диваном у стены, украшенной фотографиями беговых лошадей, с мягким ковром, застилавшим всю комнату. На письменном столе горела электрическая лампа под зеленым шелковым абажуром, а рядом был накрыт маленький круглый столик с двумя стаканами кофе и бутылкой коньяку, с ломтиками лимона на тарелке.
Они сидели вдвоем за этим столиком, продолжая начатый за ужином разговор.
Сила Гордеич был маленький, сухонький старичок в опрятной пиджачной паре и крахмальном воротничке, с седой головой, остриженной бобриком, с седыми, коротко подстриженными усами, чисто выбритый, с сухим, энергичным лицом, напоминавшим фельдмаршала Суворова.
Знаменитый художник — высокий молодой человек лет тридцати, в черной бархатной блузе, бледный, с длинными волосами, с маленькой эспаньолкой и веселыми, смеющимися глазами — в положении жениха чувствовал себя не совсем свободно.
Старик налил в обе рюмки коньяку и, чокнувшись, заговорил неожиданным для его фигуры густым басом:
— Выпьем-ка, брат, Валерьян Иваныч, да потолкуем! Вы, за ужином-то много кой-чего нам рассказали, теперь мой черед, расскажу вам про себя... — Он выпил, крякнул и продолжал: — Род наш старинный, купеческий, отцы и деды наши купцами были. Разорялись мы и на нет сходили, и опять возрождались: потому — у нас в роду коммерческий талант. Не хвалясь, скажу: я, Валерьян Иваныч, большой коммерсант! Да-с! Имейте это в виду! Я завсегда могу деньги нажить—честно и чисто, как и до сих пор наживал. Вы знаете, как я начинал?
— Нет, — улыбаясь, отвечал художник. — Расскажите-ка! Это, наверно, интересно.
— Хе-хе-хе!.. — низким грудным смехом засмеялся старик. — Не только интересно, а пожалуй, для вас, молодых людей, и поучительно.
Он придвинул мягкое кресло поближе к собеседнику и начал:
— Вот, послушай-ка. Отец мой помер, разорившись дотла. Перед концом его жизни жили мы на мужицкий лад: сами пахали и сеяли, на базар хлеб возили. Бывало, все пойдут в харчевню, а ты купишь калач, да на возу и поешь, чтобы деньги целее были... После смерти отца стало еще хуже: оставил он мне всего-навсего полторы тысячи... долгов! Только и всего. За долги пришлось последнего лишиться, все распродать; осталась избенка да лошаденка. Забился в деревню, притаился.— ни гу-гу! В город и глаз не кажу: людей стыдно. Думаю — как жить? Ведь надо же делать что-нибудь. Работал крючником на пристани, водоливом был — не понравилось. И надумал я овцами торговать; а у самого денег ни шиша, взяться нечем. Делать нечего, отправился в город и — к дяде. Дядя был у меня купец состоятельный, но, конечно, такой, что зря деньгами не сорил. Рассказал ему, каким делом хочу заняться. Дядя для начала дал мне взаймы триста рублей. С них я и начал. Купил на все эти деньги овец и сам стал пасти их. С пастуха, Валерьян Иваныч, я начал! Бывало, пасу это я в поле овец и все думаю: как бы мне деньги нажить? Хе-хе! Осенью сам повез овец в Москву, продал выгодно, очистилась мне тысяча; я на всю тысячу — опять овец, и пошел в гору. Смотрю — годика через два у меня уже с десяток тысчонок завелось. Тут мы с братом моим покойным хлебную торговлю завели на Волге; двое орудовали, вместе и жили, попросту, без затей. Шибко мы тогда погнали дело. Случалось, брали барышу тысяч по сорок и по восемьдесят!
Старик потянулся к бутылке и, наливая в рюмки, сказал нравоучительно:
— Вот как мы наживали, Валерьян Иваныч!
— Да, у вас, по-видимому, была большая энергия. Но чем вы все-таки объясняете такой быстрый успех? Откуда были такие барыши?
- Бог его знает... — Сила Гордеич вздохнул. — Время такое было. Случалось, покупаем хлеб на одной пристани по одной цене, а перевозим прямо на другую пристань, верст за пятнадцать, — и продаем на пятак за пуд дороже; на всю-то партию и выходило тысяч пятьдесят барышу! Волга-то тогда дикая была, телеграфу никакого не знали. Первые-то пароходы на моей памяти пошли. Ну, кто посмышленее да порасторопнее других, те и наживали. И греха в этом никакого не было. Так и вырастали капиталисты. А дворяне и тогда ничего не делали, только имения свои проедали. Я, Валерьян Иваныч, открытый враг дворянского сословия. Они проживали, а мы наживали! Они падали, а мы возвышались. Вот это имение и дом, где мы сейчас с вами сидим, перешли ко мне за долги от кутилы-гусара, который всю жизнь только и делал, что наследственное, не им скопленное, по ветру пускал. Дом мой в городе — тоже бывший дворянский. Деньги прожить, проесть и пропить — это преступление великое: не жалеть и не любить деньги — это значит людей не уважать! Кто рубля не бережет, тот сам гроша не стоит!
Зычный голос старика постепенно повышался.
Густой голос маленького старика раздавался в ушах Валерьяна непреклонно и грозно. Художник слушал, склонясь на локотник кресла, полузакрыв ладонью глаза, и казалось ему, что голос этот принадлежал не хи¬лому, низенькому, седенькому старичку, сидевшему про¬тив него, а кому-то другому — исполину.
Голос умолк.
Художник очнулся и взглянул на старика. Седой, сухой и хилый старичок вздохнул и наполнил рюмку.
— Одно меня крушит, — более спокойно, низкой октавой продолжал он, — некому дело передать, преемников нет.
— Да ведь у вас уже взрослые дети, и все такие хорошие! — удивленно возразил Валерьян.
— Люди-то они хорошие, слов нет, а только что не коммерсанты: интеллигенты все! Эти капитала не наживут. Дай бог хоть бы то, что есть, сохранили... Жена воспитанием их всех перепортила; книжница она у меня, идеалистка старая, все по книгам, все по системе. Нагнала полон дом учителей — шваль всякую; им бы, как служащим людям, место свое указать, чтобы знали они его, а она их — в передний угол! Развалится какой-нибудь выгнанный студентишка и порет дичь со всякими красными словами, а сам — уж видно его насквозь — рассукин сын, блюдолиз!.. Жена моя ничего этого, бывало, не видит — слушает словеса, да мне же в лицо фыркает: «Ты, дескать, что понимаешь? Тебе бы же ребят, а не ребят воспитывать! Твое дело — деньги наживать, а вот это — люди!» Хе-хе! вроде как увлекалась одним эдаким. А он — не будь дурак, да старшую-то дочь со двора и смани. Ну, тогда, само собой, жена моя его возненавидела. Денег за убежавшей до¬черью я, конечно, не дал никаких, и мучилась она с прощалыгой десять лет, пока от него назад ко мне не сбежала. Живет теперь здесь. Ни вдова, ни мужняя же¬на — изломалась вся. Старший сын — больной, к делу неспособен, а младший — вроде как толстовец, не сочувствует мне, перед новыми идеями преклоняется. А того не понимает, что эти идеи придуманы специально против нас, имущего класса, чтобы нас же с наших мест спихнуть. Вот и некому дело передать... На тебя ежели посмотреть, — парень ты славный, чистый, прозрачный какой-то, насквозь тебя сразу и видно. Нет, не деловой, не практический ты человек. Не такого бы мне зятя нужно! Ну, так что поделаешь? Любимая дочка! Последнее и единственное мое утешение. Ведь она у меня — любимая, Валерьян Иваныч, совсем как ребенок, и сердиться-то на нее ни за что нельзя. Не знает ни людей, ни жизни, принцессой какой-то воспитали ее. Что поделаешь? Живите уж! Об одном только прошу — не обижайте ее!
Художник вспыхнул и вскочил со стула: слова будущего тестя как бы ударили его по лицу.
— Что вы, Сила Гордеич! Да я жизнь мою за нее положу!
— Вижу, вижу. Теперь-то это так, а жизнь велика, всего бывает. Тогда и попомните мою просьбу: берегите ее, не обижайте!
Старик встал, растроганный и готовый обнять Валерьяна.
Художник тоже встал и обнял его, Они поцеловались. Потом опять сели, и купец заговорил совсем другим, деловым тоном
— Денег Наташа будет получать три тысячи в год...
Он махнул рукой и с шутливой строгостью зарычал:
— Больше не дам ни копейки!
— А вы ничего не давайте, — внезапно возразил художник: — у меня есть годового дохода тысяч десять, нам и хватит. А если придет надобность, то, надеюсь, вы тогда Наташе не откажете.
Сила Гордеич обиженно взглянул на будущего зятя.
— Как же это так — ничего? Этого нельзя! Сколько ей полагается, она будет получать. А вы, — с прежним воодушевлением заговорил он опять, — если у вас будут лишние деньги, в банк их положите. Деньги надо беречь, Валерьян Иваныч. Они вам нелегко, чай, достаются. Ведь вот теперь у вас успех, слава, зарабатываете прилично; надолго ли это? Пройдет на вас мода или — не дай бог — болезнь пристигнет, и останетесь как рак на мели! Вы, — покуда на вашей улице праздник, — деньги копите. Деньги! деньги! Зажмите их в кулак вот так, крепче, покудова они сами в руки плывут, а не сумеете — потом поздно будет: близок локоть, и не укусишь. Послушайте меня, старика, я долго жил, много на своем веку видел всего: и беден был, и сам капитал наживал; цену деньгам знаю, сколько труда-то человеческого в каждой копейке заключается! А вот вы, видно, еше не знаете, даже своего труда, заметил я, не цените.
Молодой человек смутился.
— Ваша правда, я как-то не думал о деньгах.
— Для чего же вы тогда картины ваши пишете? Конечно, деньги хотите нажить!
— Нет! - с улыбкой и удивлением возразил художник. Нужда — скверная вещь, но если бы за мои работы ничего не платили, я все равно писал бы. Работа моя сама по себе доставляет мне наслаждение... Ну, как бы вам это сказать?.. Ведь вот вы — купец, а я — художник; трудно представить себе двух людей, более противоположных, чем мы с вами. Но у вас — вы сами говорите — есть природный коммерческий талант к наживанию денег, которых вы лично на себя не тратите. Стало быть, не деньги сами по себе нужны вам, а только процесс созидания капитала, который является н руках ваших силой, управляющей жизнью людей. Благодаря этой силе вы можете, если захотите, творить: строить города, железные дороги, превращать пустыни в цветущие страны! Одним словом, капитал вы цените как силу, дающую власть, вам дорога и приятна возможность управлять. Мне в моей работе важны не деньги, а мое творчество; мы на полотне показываем новые, лучшие, еще не воплощенные формы жизни, лучшие чувства и мысли, бросаем в жизнь идеи в образах. Если вы — строители жизни, то мы — ваши архитекторы, создающие план постройки, чтобы наши воздушные замки вы могли превратить в реальные — из железа и камня, из мрамора и золота. Я тоже, как и вы, думаю, что моя работа в общем составе с работой других, та-ких же, как я, художников, ученых, писателей и артистов, может иметь влияние на судьбы не только России, но и всего человечества. Ведь от того, что создаем мы, взгляды у людей меняются. А что мне будет за мою работу — большие деньги или бедность, это уже главное в нашем деле.
— Ловко подвел! — прогудел Сила Гордеич, с большим интересом слушавший художника. — Однако идеи идеями, а деньги деньгами. Нынче все измеряется на деньги: написал ты ценную вещь — тебе честь и слава и деньги! Выбился исподнизу — значит ты есть победитель в жизни, сила: получай приз — жену хорошую! Хе-хе-хе!.. Впрочем, — продолжал он с причудливой, — посмотрю я, как ты пьешь: если — плохо отдам за тебя дочь, а ежели сможешь мою марку держать, — ну, тогда бог с тобой — бери! Ну-ка, наливай, нечего мне зубы заговаривать!
Будущий зять, улыбаясь, налил рюмки, а старик, чокаясь, удачливо ворчал:
- Люблю я тебя за то, что не из дворян ты, своим трудом и талантом выбился в люди, так же, как и я. Нашему то роду двести лет, постарше другого дворянского: нынче тот дворянин, у кого деньги есть!
В комнату почти неслышными шагами вошла Наташа.
Красавица лет двадцати трех, несколько выше среднего роста, в простом сером, серебристом платье, с темно-каштановой длинной косой, нежно-смуглая, с большими синими глазами, отенёнными черными ресницами, художнику она показалась похожей на царевну «серебряного царства» на картине Васнецова.
— Можно к вам? — тихо и смущенно улыбаясь, просила она глубоким, низким голосом.
— Можно, можно! — весь сияя, весело закричал Валерьян. — Пожалуйте! — и вскочил, подвигая ей кресло.
— Ты что, коза, зачем пришла? — шутливо заворчал отец.
— Не пора ли отдохнуть вам, папа? Уж поздно.
Наташа не села на придвинутый стул.
— А вас, Валерьян Иваныч, братья мои ждут в гостиной.
— Ну и пускай ждут, — шутливо и с оттенком нежности в голосе возразил отец. — Но только вижу я, что это все твои штуки! Не беспокойся: вот он, цел и невредим, — кивнул он на Валерьяна. — Грешный человек, хотел я поглядеть на него на пьяного, да не поддается, шельмец. Вничью у нас игра вышла.
Наташа укоризненно покачала хорошенькой голов¬кой.
— И я тоже ошибся, — весело сказал Валерьян. — Думал, много ли старцу нужно, чтобы свалиться? А теперь боюсь, как бы он меня на обе лопатки не припечатал.
— Ну, положим, что не вам, молокососам, меня напоит!)! рычал Сила Гордеич, тяжело поднимаясь с места. — Однако вижу, парень ты твердый, с умом пьешь, головы не теряешь. Отдаю за то тебе в супружество любимую дочь мою Наталью... Наташа!
— Что, папа?
— Поди сюда!
Он взял за руки дочь и художника, потянул их обоих к себе.
— Пойдешь за Валерьяна?
— Как прикажете, папа! — Наташа лукаво опустила глаза.
— У-у, ты, коза хитрая! Не бойся, знаю, что приказ мой по шерсти тебе будет. Ну, благослови вас бог!
Старик внезапно всхлипнул. Обнявши, поцеловал в лоб дочь и будущего зятя, махнул рукой и нетвердыми шагами направился к двери.
— Отдохнуть пойду. До завтра!
Молодые люди стояли рядом, держась за руки и смотря ему вслед.
На пороге старик остановился и, овладев собою, шутливо погрозил им пальцем:
— Ну, смотрите у меня, живите дружно, а не то — вот я вас!.. Лекции моей не забывать: кто пьян да умен — два угодья в нем!
Наташа опустилась в кресло, а Валерьян молча опустился у ее ног на колени, взял ее бледные руки в свои и долго целовал. Она смотрела через его голову в про¬странство, как бы желая проникнуть в будущее.
Глаза ее были замечательны: глубокая, непонятная Валерьяну печаль таилась в них даже тогда, когда она смеялась. Это свойство ее глаз поразило его еще при первой встрече, пять лет тому назад, когда он был бездетным, начинающим художником и с первого взгляда влюбился в недосягаемую для него тогда дочь миллионера, банкира, купца-помещика.
В выражении нежно-золотистого юного личика Наташи была трогательная душевная чистота и необыкновенная содержательность.
Откуда эта печаль Наташиных глаз? Наташа родилась и выросла в богатстве и роскоши, в любящей ее семье, никогда не знала ни нужды, ни горя. Художник, всю свою молодость бившийся в тисках нужды, испытавший все унижения, злоключения и мытарства бедности и только недавно и неожиданно вошедший в славу, не знал мира богатых людей, до сих пор считал их счастливцами, жизнь которых должна быть каким-то сплошным праздником, состоящим только из радостей и удовольствий. Откуда же эта печаль у красавицы из мира тех счастливцев, где, казалось Валерьяну, люди не знают страданий?.. Именно этой необъяснимой печалью глаз Наташа и поразила его при первой встрече. Если бы она была жизнерадостной, он бы не обратил внимания. Он ненавидел этот мир эгоистичных, черствых людей, замкнувшихся в своем благополучии и презиравших бедность и труд. Гладкие, выхоленные, избалованные женщины высшего круга, каких ему приходилось иногда встречать, вызывали в нем раздражение.
Но Наташа явилась загадкой на его пути. Впечатление от ее печальных глаз осталось в его душе навсегда. Ему казалось, что он встретил тогда воплощение своего идеала, — увы! — недосягаемого для бедного художника. Теперь положение изменилось: он сам внезапно сделался богатым и знаменитым. Образ девушки, поразившей воображение художника, вдохновлял его при создании новых картин. Любовь художника была фантастична и безнадежна, но успех и завоеванное положение уничтожили прежнюю преграду между ними — разницу в материальном положении. Через пять лег молчаливой, скрытой любви он явился перед ней уже в ореоле славы. Она сделалась его невестой — и все же оставалась для него прежнею загадкой.
— Наташа! — прошептал он, — я отдаю вам всю мою жизнь. Только смерть разлучит нас!
— Только смерть! — повторила она, по-прежнему смотря в пространство.
— Я не верил, что можно полюбить с первого взгляда, но вас я полюбил тотчас же, как только увидел, тогда, давно...
— Я это знала.
— Я любил вас еще до встречи, любил как свою мечту. Мне представлялась она девушкой с большими грустными глазами. Серебряная царевна на картине Васнецова напоминала мне ее. Я искал ее по всей земле и не находил нигде, думал, что ее и не может быть в жизни, что она только плод моей фантазии... Ах, Наташа, я был как угасающий метеор, мои глаза окаменели or безнадежных исканий, но, встретив вас, я опять загорелся! Вы помните, — когда мы встретились в первый раз, вы были в шляпке с серебряной отделкой, а серое платье гоже было отделано серебром...
Не вставая с ковра, он откинул голову и с восхищением любовался ею.
Глаза их встретились. Наташа с кроткой, чуть смущенной улыбкой смотрела на него. Щеки ее вспыхнули.
Большое лицо с морщинами горечи около губ выражало силу, грубоватость и природное добродушие. Наташе нравилось это простонародное лицо человека, на ее глазах достигшего известности, но если бы она не знала, что он выстрадал свой успех необычайным упорством и труде, если бы не знала, что перед ней стоит на коленях известный художник, — она, может быть, и не нашла бы в его наружности ничего особенного.
Наташа чуть слышно дотронулась нежными пальчиками до его мягких, слегка вьющихся волос.
- А у вас было тогда ужасное, изможденное лицо, лихорадочные глаза. Мне было жаль вас.
Дa, я действительно в тот день был болен, лежал с температурой, но встал с постели и отправился на концерт, где встретил вас и вашу сестру... Я ожидал, что вы на нее похожи, но оказалось другое, необыкновенное. Я был потрясен. Ведь это она, моя фантазия, мой вечный бред: громадные глаза с непонятной глубокой печалью, лицо — как поэма.
Валерьян умолк и, в каком-то затруднении от полноты нахлынувших чувств, с горечью воскликнул:
- Я не умею говорить!
Только художник мог сказать так, так чувствовать и найти такие слова, — возразила Наташа. — А я-то? Молчу всегда. Она улыбнулась.
За вас говорит ваше лицо. Есть люди, которые говорят не словами... С вами так легко говорить, Наташа, вы все угадываете без слов, прежде чем успеваешь сказать. Не думайте, что я преувеличиваю, заблуждаюсь. Фантазирую: я тоже угадал вас, почувствовал, отыскал. Мне кажется, что я всегда знал вас и любил. Наташа, таких женщин, как вы, люди знают только по картинам и поэмам гениальных художником постов, но я — я нашел вас в жизни!
Наташа, улыбаясь, упивалась этой страстной речью, но ответила шуткой:
- Боже, до чего я дожила! Я — царевна!
- Принцесса! — прервал Валерьян. — Принцесса, не знающая людей и жизни. Если вас одеть в лохмотья и рубище и тогда будет заметно, что это — принцесса...
- Из темного царства! — тихо добавила Наташа. Голос у нее был тихий, но грудной и глубокий.
Валерьян на минуту задумался.
- Я никогда прежде не слыхала того, что говоритевы, - продолжала она, опуская глаза и не смотря на него. – Здесь говорят только о деньгах. Никто никого не любит. Мы не знали материнских ласк. Нас учили никогда не смеяться, чинно сидеть, чинно ходить. Я привыкла считать себя дурнушкой. Мать не любила отца, не любила и нас. У нас как будто и не было матери... Отец зачерствел в своих делах и мало видел детей. Только тогда и бывал похож на человека, когда выпьет... А вы говорите о красоте, о любви... Здесь не знают этих слов!
Валерьян впился глазами в ее лицо: каждая его черта дышала затаенной печалью.
— Из темного царства! — повторял он в задумчивости. — Да, я начинаю понимать печаль ваших глаз, Наташа. Неужели это царство не отошло еще в прошлое? Ведь ваш отец такой умный, такой душевный человек, все дети получили образование, ваша семья — интеллигентная семья, в ней нет ничего общего с мрачным царством времен Островского. В чем же дело?
— Наше несчастье — папины миллионы, — с грустной улыбкой сказала Наташа. — Нас воспитали как принцесс, а от этого мы стали еще беспомощнее. Вот и ждем, чтобы кто-нибудь нас вытащил отсюда. Цель в жизни для папы — это деньги. Но нам дали образование, вот мы все и не знаем, что же нам-то делать?
Наташа улыбалась, а верхняя губа вздрагивала, как у зверька, напуганного опасностью, или как у ребенка, который собирается заплакать.
Нечего нам делать, несчастным!
Да! — задумчиво начал Валерьян. — Деньги, как цель жизни, мстят за себя: кровь и слезы людей, превращенные в золото, со временем опять обращаются в слезы и кровь, становятся проклятием для тех, у кого их слишком много. Сердца каменеют, души мертвеют... Но вы здесь, - с прежним воодушевлением заговорил художник, как одинокая березка, выросшая на бесплодной скале, высоко над морем: камень сушит ее корни, а безжалостное небо слишком ясно, нет облачка, которое пролилось бы на нее.
— Как вы красиво говорите!
— Ах, нет, Наташа, я не умею выразить словами того, что чувствую, и в особенности того, что предчувствую... Я должен бережно пересадить эту березку на другую почву. Это будет трудно для меня и болезненно для нее.
Валерьян взял невесту за руки и продолжал с искренним чувством:
- Я уведу вас, Наташа, и мы увидим другую жизнь, где люди живут и работают для счастья всех...
Наташа склонила голову к нему на плечо.
- Я бы хотела уехать отсюда далеко-далеко... Вы — мое солнце! — прошептала Наташа, пряча лицо на груди его.
Валерьян нежно обнял ее и, гладя ее густые темно-каштановы волосы, сказал тихо и страстно:
- Любовь — вот солнце!..
Из отдаленной комнаты послышались звуки рояля, и сильный женский голос запел:
Ни слова, о друг мой, ни вздоха!
Мы будем с тобой молчаливы, —
Ведь молча над камнем, над камнем могилы
Склоняются грустные ивы...
Варвара запела! — сказала Наташа. — Пойдемте к ним, они давно в гостиной собрались.
- Это ее любимый замогильный романс, она его и прежде пела.
- Да ведь он подходит к настроению моей сестры, - возразила Наташа. — С мужем разошлась, разбитая жизнь ... — невесело у нас...
- Но ведь она учится в консерватории.
- Все равно, артисткой ей не бывать! Цели-то и нет в жизни.
Они встали, и, взявшись за руки, вышли в соседнюю комнату, заставленную тропическими растениями: до самого потолка поднимались широколиственные пальмы. В темной комнате комнате Валерьян невольно замедлил шаги.
- Держитесь за меня, — с тихим смехом сказала девушка – я-то знаю дорогу! Здесь однажды после выпивки папа заблудился и кричать стал. Под пальмой его и нашли...
Рояль и пение умолкли. Наташа отворила высокую дверь, и оба они очутились в большой гостиной с мягкой мебелью, с роялем в углу. Гостиная освещалась сверху матовой, затемненной люстрой.
За роялем сидела старшая сестра Наташи — Варвара, высокая, черноволосая женщина, наружностью ничем не напоминавшая красавицу-сестру: плоское, бледное лицо татарского типа с серыми глазами зеленоватого оттенка, тонкими, крепко сжатыми губами, мужским лбом, твердым подбородком выражало ум и волю. Глухое черное платье оттеняло бледность ее лица.
В углу дивана сидела Елена, ее двоюродная сестра, очень худощавая девушка-блондинка, а рядом с ней братья Наташи — Митя и Костя.
Митя, очень высокий и страшно худой, поразительно напоминал художнику известную фигуру «Мефистофеля» Антокольского; он и сидел в позе этой знаменитой скульптуры, положив одну худую и длинную ногу на колено другой, согнувшийся, с сухой, впалой грудью и мрачным, острым лицом с маленькой, загибавшейся вперед эспаньолкой.
Костя — пониже ростом, стройнее и красивее брата, напоминал Наташу. Лицо его с молодыми черными усиками, с оттенком общей фамильной мрачности, улыбалось иронически.
По комнате из угла в угол ходил Кронид — их дядя, человек в старомодном толстом пиджаке и ситцевой рубахе, выпущенной из-под жилета, с небольшой светлой бородкой и некрасивым, скуластым лицом.
Как всегда, он ходил с опущенной головой и с тонкой веревочкой в руках, которую то скручивал, то раскручивал костлявыми, бледными пальцами.
- Проклятый дом! — говорила Варвара, опуская лорнетку, облокотясь на спинку стула. — В нем уже вымерли две дворянские фамилии, теперь вымираем мы.
Дядя, когда подвыпьет, всегда говорит: нашему- то роду двести лет! — вставила Елена.
Все засмеялись.
Да! Дедушка разорился и повесился, а родитель наш опять миллиончик имеет! — насмешливо продолжала Варвара. — Дом — дворец, а он занимает в нем какой-то чулан, спит на диване, укрывается старым пледом. Все бережливость! Бережливостью своей всех нас искалечил, надавил. Все деньги, деньги! Но и денег не видим: каждый грош надо выпрашивать, унижаться. Мамаша — замученный человек, занимается астрономией, вечно книги читает...
— А что прочтет, сейчас же забудет!.. Гы-гы! — вставил Кронид, засмеявшись каким-то особенным, ему свойственным смехом, не переставая ходить и крутить веревочку.
— А мне его жалко, — тихо сказала Наташа: — ведь он и сам страдает.
— Да, тебе хорошо его жалеть, — возразила Варвара - а у меня с ним всю жизнь борьба, всю жизнь я от него бегала!..
— И опять к нему в лапы попала!.. Гы-гы!
— Что ж, потерплю, притихну, а потом такой прыжок отсюда сделаю, что...
— Как пантера! — заикаясь, мрачно сказал Митя.
— Как щука из невода! — добавил Костя.
И все опять засмеялись.
- Пусть буду щука, а он — сом подводный, в омуте живущий, а вы все — караси да плотва...
- Ну- ну, ты не больно... того... — шутливо вступился заика.
- Не дом здесь — склеп могильный, дышать нечем! Все деньги, деньги, бережливость! И куда берегут?.. Тебе хорошо, Наташка: ты — его любимая дочка, будешь а зам vж выходить — приданое получишь, и в завещании он тебя не обидит, — не то, что я. Ненавидит он меня.
- Ну в завещании-то, наверно, всем оставит, — заметил Кронид.
- На наши похороны, — со смехом сказала Варваре Когда все состаримся, когда не надо будет ничего!
Она приставила к глазам лорнетку и повернулась к Наташе и Валерьяну.
- Ну а ты, Наташа, долго ли еще киснуть здесь будешь? Как ваши дела-то с родителем? Объяснение было?
Наташа густо покраснела.
- Эге-ге! – дразняще засмеялись братья. — Значит, в шляпе дело?
- Все честь - честью? по-хорошему?
- Все по-хорошему, — ответил за Наташу Валерьян. – Сила Гордеич ничего не имеет против. Дело теперь за Анастасией Васильевной.
- Ну, мамашу-то мы настроим! — весело вскричала Варвара, вставая. — Значит, поздравить можно?
— Можно, конечно, — решил Кронид, пряча в карман веревочку. — Пойду шампанского достану.
Он скрылся за дверью. Все окружили жениха и невесту.
- Валерьян Иваныч! Наташа!
- Тихоня этакая!
- И чем ты это отца умаслила?
Валерьян счастливо смеялся. Наташа от каждого слова вспыхивала до ушей.
Кронид принес стаканы и откупоренную бутылку.
— Счастлива ты, сестра моя! — говорила Варвара, обняв Наташу за талию. — Прямо отсюда в Петербург поедете?
— Да.
— Ну и я с вами. На радостях, чай, родитель отпустит. Вот и сделаю прыжок, вырвусь.
— Я без тебя не поеду, — сказала Наташа.
— Браво!..
Кронид наполнил стаканы.
— Споемте хором, господа! — волнуясь, кричал Костя. — Варвара, садись за рояль!
— Я петь хочу! — глубоким голосом вдруг сказала Наташа.
Раздался гул удивления.
- Наташа! — смеясь, сказала Варвара, — ты еще ни разу в жизни не пела. Никто никогда не слыхал... Ч ю это значит?
— А теперь — хочу! — упрямо повторила Наташа. — Я из гнезда родного улетаю. Крылья у меня! Один-то раз и я спою. Аккомпанируй!
Варвара села за рояль.
— Что же играть?
— «Березку»!
Варвара заиграла.
И, смотря куда-то вдаль, как бы невидящими глазами, Наташа запела грудным, красивым, дрожащим от волнения голосом:
Я видел березку: сломилась она,
Верхушкой к земле наклонилась она.
Но листъя не блекли на тонких ветвях,
Пока не спряталось солнце в горах...
В комату вошла высокая, худощавая старуха в черном платье старинного покроя, болтавшемся на ней, как на вешалке. Опираясь на бильярдный кий, служившим ей посохом, она широкими мужскими шагами прошла через комнату, поставила кий в угол, села в кресло у камина, по мужски положила ногу на ногу, вынула серебрянный портсигар и закурила папиросу.
Лицо унее было смуглое, худое и длинное, с энергичным а имеете печальным выражением. Это была мать семейства — Настасья Васильевна Чернова.
При входе старухи все замолчали.
- Нv, что притихли? — низким голосом спросила она, улыбаясь и затягиваясь папиросой. — Такой гвалт был, что даже я, глухая, слышала!.. Пожалели бы отца-то: спит, чай.
- Ему наверху не слышно, — отозвалась Варвара,— А вы где были, мамаша, так поздно?
Мать вздохнула задумчиво и скорбно.
- На крыше, в трубу на звезды смотрела. Устала! Какая красота! На Марсе, наверно, люди лучше нас живут.
- Безусловно! — подтвердил Кронид, ядовито усмехаясь и непрестанно вертя веревочку.
- Вы мамаша, больше звездами заняты, чем нами, - вкрадчиво улыбаясь, пошутила Варвара.
- А что вы за звезды такие, чтобы все вами занимались? Я свой долг исполнила: воспитала вас и отцу помощницей была: капитал-то по грошам собирали. Век прожила - для себя не жила. А теперь уж и отдохнуть пора мне от вас. Надоели мне ваши дрязги!
Она встала, бросила окурок в пепельницу и, снова взяв кий сказала, полушутя:
- Ну марш по местам, полуночники! Гостю-то дали бы покой, - затормошили, небось.
Длинная,. сухая, прямая, с посохом в руке, она большими шагами направилась к двери.
- И я с вами! — встала за ней Варвара.
Старуха строго повернулась на пороге.
- Со мной? Чего привязываешься? Ты знаешь — я пустой болтовни не люблю.
— Дело есть, мамаша. Секретное и важное.
- Что за секреты? Опять у отца денег теребить?
- Нет, не денег, мамаша... Новость есть!
— Ну, идем, идем, коли не терпится до утра. Послушаю, что там еще случилось... Ох-охо! Ни днем, ни ночью покою не даете.
Мать и дочь ушли наверх по скрипучей лестнице.
— Пойду и я, — сказал Валерьян, взглянув на часы. — Два! Ого!.. Я столько выпил сегодня коньяку, как никогда в жизни!
— С дедушкой состязались? — спросил Костя.
— Вот именно.
— Кажется, вы уже успели подружиться с папой? — лукаво спросила Наташа.
— Кажется. Славный старик! Государственного ума человек!
— Ну, ума-то ему не занимать стать, а вот насчет откровенности вы с ним поосторожнее, — заметил Костя: — добрый старичок норовит подпоить, да и выпытать, что, мол, ты за человек?
— Я его не боюсь. Но, право, мне только теперь смешно вспомнить: выпили мы с ним в кабинете бутылку коньяку и смотрим друг на друга: никто не пьян! — Валерьян звучно расхохотался. — Только теперь чувствую, какую мину он под меня подводил!
— Хитрый старец' Ну, а теперь Варвара пошла мамашу обрабатывать: еще чего доброго — вздыбится на первых порах.
— Тайны черновского дома! — изрек заика. — Наташа, проводи гостя-то! Поединок у них был с папой. Устал, чай.
— Из поединка Валерьян Иванович вышел с честью, — шаловливо сказала Наташа. — Пойдемте, не заблудитесь у нас.
— А папа как?
— Ну, он-то и не таких в дугу гнул!
Валерьян и Наташа вышли.
Кропил продолжал ходить со своей веревочкой и наконец, сделав круг по комнате, остановился перед братьями.
— Ну, горе-охотники, как дела?
— Ишь ты! — огрызнулся Костя. — Какой тут делец из угла в угол ходит!
— Аж тропу проторил! — подхватил Митя.
— Как, бишь, Митя, ты стих-то про него сочинил?
Митя улыбнулся.
— К... кончается так, — объяснил он, заикаясь:
3...знать его л...лукавый мучит:
И в...во сне н...ног-гами сучит!
Все трое засмеялись.
— Вот и толкуй с вами!.. Я тут хожу, да думаю за всех вас... Наташа за художника выходит: говорят, большие деньги огребает, да и слава чего-нибудь стоит! Вы думаете, без меня вышло бы чего-нибудь? Безусловно ничего не вышло бы! Ведь это я дедушке подсунул невзначай журналы да статьи о его картинах... Варвара художника пять лет знает, а вот не разглядела же! Кусает, небось, локти теперь... Наташе — партия: за купца из нашего брата она ни в жизнь не пошла бы... А вы что? С отцом грызетесь, к торговому делу и к хозяйству бехусловно оба неспособны. Пока жив Сила Гордеич, будет стоять дом Черновых, а свалится старик — все безусловно к чертям пойдет.
— А что же им делать-то? — с надрывом отозвалась из угла Елена. — Куда деваться-то?
Кронид, усмехаясь, расхаживал и крутил веревочку.
- Выходи и ты замуж. Все лучше!
Елена вспыхнула.
—- Вот я и спрашиваю: как, мол, ваше-то дело?
— Да никак. Дядя и слышать не хочет. Митя боится и заговорить-то об этом, а без денег — куда мы все годимся?
— Гы-гы! — засмеялся Кронид. — Ты, Митя, был бы рад, если бы тебя как-нибудь без себя добрые люди женили! Гы!
- Я уж того... решился, — возразил заика. — Как-нибудь выпивкой обмякнет папа — и поговорю!
— Умница! — насмешливо вмешался Костя. — За выпивкой! Будто не знаешь его? Притворится пьяным, отшутится, а утром сделает вид, что ничего не помнит.
- Гы-гы! Не выйдет. Не время сейчас: тут Наташина свадьба на очереди... В столице, наверное, венчаться-то будут. Мой совет — поезжайте все туда, а мы тут с Анастасией Васильевной почву подготовим.
Костя зевнул.
- Канитель, братцы вы мои, спать пора! Утро вечера мудренее. Пойдемте-ка! Завтра папа хозяйство наше критиковать будет, поругается всласть. Надо хоть выспаться.
Нее поднялись с мест и вышли. Остался только Кронид, продолжавший ходить с веревочкой, опустив голову и ухмыляясь в бороду.
Вошла Варвара.
Лениво повела плечами, притворила дверь и медленно села на диван, облокотясь на подушку и поджав ноги.
Кронид вил веревочку.
— Кронид!
Не останавливаясь и не глядя, отозвался:
— Что?
— Веревочку вьешь?
— Вью.
— Всю жизнь, с тех пор, как я тебя помню, ты вьешь веревочку, заплетаешь, а потом опять расплетаешь, и все расхаживаешь. Отчего это?
- Женщина ты умная, а вопрос безусловно глупый — стало быть озорной. Привычка у меня — веревочка эта: легче думать с ней, вот и все!
Варвара едко усмехнулась.
- Чего тут смешного, хотел бы я знать?
- Ты когда-нибудь повесишься на этой веревочке. Ха-ха!
- Боже избави! Ничего подобного не собираюсь делать.
Варвара, как кошка, следила за его ходьбой прищуренными главами, продолжая странным, нервным топом:
- Мне жизни твоей жаль, Кронид! Ты подумай: всю жизнь работаешь на всех нас, ведешь все дела, управляешь имением, — ведь братья ни к какому делу не приучены так уж всех нас воспитали, — ты единственный деловой человек в семье, а вот так и не жил для себя, не женился и, наверное, никогда не женишься. А какой бы семьянин из тебя вышел хороший!
Кронид остановился подозрительно.
— Это ты к чему?
— Так. Вот Наталья замуж выходит. И сама же я сейчас мамаше жениха ее расхваливала: давно, мол, его знаю, далеко пойдет. Каждая его картина теперь стоит имения, а тут еще жену богатую дадут, приданое. Все будет по-хорошему, не то, что я — всегда наперекор родителям поступала.
— И всегда родители-то, безусловно, правы были. Гы- гы! — рассмеялся Кронид, опять начиная вышагивать из угла в угол.
Варвара стиснула зубы.
— Ну, это еще вопрос. Не повезло мне, Кронид, а кабы повезло, я была бы права. Мне большого человека нужно в мужья: я много требую от жизни!
Кронид усмехнулся, опять расплетая веревочку.
— Чего же ты хочешь? Любопытно!
— Грешница, власть люблю! Помыкать бы людьми, чтобы унижались все передо мной!
— Гы-гы! Бодливой корове бог рог не дает.
— У-у, домовой! — с неискренним смехом взвыла Варвара. — Ведь ты домовой, Кронид? Весь дом наш полон чертовщины и всякой нечисти, но я не могу era представить без тебя. Ты дух нашего мертвого дома: везде ходишь, все знаешь, лошадям гривы заплетаешь, вьешь свою веревочку.
- Безусловно глупо говоришь!
- Вовсе не глупо, а поэтично. Нужно только не буквально понимать: чертей нет на свете, вся чертовщина в душе у людей, а у нас всякой дьявольщины хоть отбавляй: мамаша — врубелевский демон в юбке, папа — дракон, я — несомненная ведьма на метле, Наташа — русалка водянистая, Митя — Мефистофель дохлый, остальные — мелкая нечисть безымянная, в кухне обитающая, а ты — домовой, добрый дух дома Черновых.
- Ладно, что хоть добрый. Про тебя и этого нельзя сказать.
- Вот только язык у тебя не из добрых.
— У тебя тоже с языка-то не мед каплет. Гы-гы!
— Такой уж дом у нас, все семейство такое. Изо всех углов шип да свист несется. Попробуй расчувствоваться — изжалят в лоск!
- Никогда не видал, чтобы ты расчувствовалась.
- Ах, Кронид, — продолжала Варвара более мирным тоном, — язык твой — враг твой! Когда ты целыми часами молчишь и вьёшь веревочку, я по лицу твоему вижу, какие скверные-скверные мысли ползут у к он пол черепом, лезут без конца и без цели и портят тебя: стареешь ты — озлобляешься, а сердцем-то любишь людей! Вот тут и разберись!
- Безусловно глупо в этом разбираться. Ты бы лучше рассказала, какой у тебя с матерью разговор был?
Варвара прищурилась,
— Ну, какой же разговор, когда уж папа без нее решил? Завтра, наверное, у старичков совет будет. Сначала-то она было и в толк не могла взять, а как разобрала, что этот мой приятель и есть искатель руки ее дочери, — расхохоталась: забавно ей, что теперь разные художники у купцов дочерей берут. «А что, — спрашивает, — у него есть? А из каких он?» Ну, я рассказала, что не из бедных он теперь, — обмякла. Завтра сама с ним будет разговаривать.
Кронид помолчал, искоса поглядел на Варвару.
— Тебе эта свадьба-то на руку, что ли, или как? - спросил он недоверчиво.
— Конечно, на руку: уеду с ними, вырвусь отсюда. В столице у него всякие знаменитости бывают; может, и мне судьба выйдет.
— Вон ты куда гнешь! А я думал — сестре добра захотела.
— И сестре добра хочу, ну, только, как они будут жить - не знаю: пропадет он с ней из-за ее прекрасных глаз!
— А что?
— Да то! Смешно мне: ведь он в ее глазах какую-то возвышенную грусть видит, а у нее — просто живот болит.
— Гы-гы! Уж не ты ли на ее месте была бы лучше? Чего ж глядела?
— Ох, что ты, Кронид! Напугал даже. Хоть он и знаменитость, да не по мне: женщин не знает, живет, как ребенок, в мире фантазий. И она тоже — не от мира сего. Ему Наташа пара, — двое блаженных!
— Вот я и говорю — пара!
— И прекрасно! В деньгах нуждаться не будут, знакомства у него — все люди с именами. Да на что все это ей, когда она всех людей, как мышь, боится? Не в коня корм.
— Опять!.. Слов нет, кабы тебе знаменитого мужа дать, ты бы...
— Да, — твердо перебила Варвара, — я бы показала себя.
Она положила свой большой подбородок на бледные руки, скрещенные на подушке дивана, и внезапно задумалась. Глаза сверкнули зеленым блеском, лицо приняло каменное выражение.
Кронид молча и пристально смотрел на нее. Потом вздохнул.
— Прощай! — сказал он вдруг, направляясь к дверям. — Пойду спать.
И, полуобернувшись к дверям, бросил с ехидной улыбкой:
— Железо-баба! Ну — души нет, честолюбчество заело!..
Варвара долго сидела в глубокой задумчивости, не переменяя застывшей позы. Вздрогнула. Дверь скрип- пула. Тихими, неслышными шагами вошла Наташа. Варвара тряхнула головой и улыбнулась.
— С женихом ворковала?
Наташа села рядом с сестрой.
— Нет, к мамаше заходила.
— Вот как! Разговор был?
— Да. Я сказала: как хотите, а я все равно за него выйду.
- Ай да тихоня! Влюбилась? — Варвара обняла ее за талию.
Наташа поникла.
- Не знаю.
— Ха-ха-ха! Чучело ты, чучело! Как не знаешь, когда этакое сказала матери?
— Он мне нравится, любит меня давно. Ну, а какая там у вас любовь бывает — не известно мне. Ты сама-то как выходила?
— Тебе известно — как: убежала. Без приданого... Чтобы вырваться.
Тогда Наташа, еще ниже наклонив голову, тихо прожинала:
- Ну и я — чтобы вырваться.
- Та-ак! — мрачно протянула Варвара. — Это понятно,
И вдруг, помолчав, улыбнулась.
- Расскажи, как он тебе объяснялся?
Верхняя губка поднялась у Наташи капризно и шаловливо.
- Я ехала сюда из Петербурга, остановилась в Москве. Он встретил меня на вокзале. Сказал, что случайно, но, наверное, кто-нибудь его предупредил.
— Ну!
- Я прожила в Москве три дня у дядюшки. Он зашел.
- Ну! — тормошила Варвара. — Не тяни так! Как вы объяснились?
- Очень просто. Он взял меня за руку, спросил: «Вы знаете, кого я люблю?» Я сказала: знаю!
— Ну!
— Потом спросил: «Будете моей женой?» Я сказала: буду!
— И все?
— Все.
Варвара расхохоталась. Потом стала обнимать и целовать сестру.
— Милая сестра моя! Чучело ты мое дорогое! Пень ты косматый мой!.. Ну, я рада, рада! Видишь, как я рада за тебя?
Тискала сестру, расплетала ей густые каштановые волосы, хохотала и плакала.
- Ну, иди спать, мой серенький зверек, трусливенький мой. Иди, а я посижу одна, подумаю о тебе.
Наташа покорно ушла, и в тот же момент лицо Варвары преобразилось. Что-то страшное было в нем: углы губ скорбно опустились, зубы скрипнули. Она беззвучно зарыдала, грохнулась на диван, судорожно вцепилась пальцами в подушку; плечи ее долго вздрагивали.
Поздно засидевшись накануне, Сила уже рано утром сходил посмотрен, новую, только что выстроенную паровую мельницу. С юношескою легкостью поднимался по многочисленным лестницам и, по-видимому, остался недоволен.
Постройкой мельницы и всем имением с образцовым конным заводом ведал еще неопытный Константин, под надзором Кронида. Вся суть была в дельном и хозяйственном Крониде, но как же он-то не доглядел? Да и то сказать, Константин заносчив, самоуверен, чужих речей не слушает, все норовит своим умом решать. Из- за этого и с отцом отношения обостренные. Нет, чтобы совета попросить, все по-своему делает. А там, глядишь, и проруха. Дал ему на пробу имение, вел бы его по-старому, как исстари заведено, так нет: еще и мельница не готова, а уж по всей усадьбе электричество провел!
Конный завод сократить бы надо: какие от него барыши? Баловство одно. А он его расширил! В Москву на бега послал двух рысаков, производителя нового купил, когда и старый хорош.
Эх! изменились времена: не слушаются дети отцов! Дмитрий болен, а чем — не известно. Только у него и ела, что спит каждый день до обеда да микстуру глотает. Стихи пишет, на книгах лежит. Ничего не делает. А ведь парню двадцать пять лет! Женить бы надо, на богатой, конечно, а он сдуру на Елене, на сестре двоюродной, жениться хочет. Боится сказать отцу, но Силе и без того известно. У Елены нет ни шиша, сиротой в его же семье выросла.
Вчера Сила Гордеич дал свое согласие на брак Нации, даже с женой не посоветовавшись. Этак-то лучше, чтобы не втемяшилось ей фордыбачить. Совет-то ее можно и нынче спросить, когда уже сказано Силой Гордеичем «быть по сему!».
После осмотра мельницы побрел не спеша по снежной тропинке на широкий двор усадьбы. В глубине двора виднелось длинное кирпичное здание конюшенного завода. Обратил внимание на электрические провода, проведенные с мельницы не только в дом, но п в конюшни. Войдя через широкую калитку во двор, увидал, как кухарка выплеснула что-то с крыльца в снег. Кухарка была необычайной толщины, без кофты, голой грудью и руками. Каждая рука была гораздо шире ноги Силы Гордеича. Он сердито сплюнул и отвернулся.
На дворе встретился кучер Василий, широкоплечий, атлетического сложения мужик с курчавой белокурой бородой и высокой грудью.
«Экие они все! — с невольной завистью подумал старик. — Один другого толще! А мы-то — кожа да кости!»
- Василий, отопри конюшню, да крикни конюхов и Кронида позови!
Василий отворил широкие ворота конюшня и бегом побежал в дом.
Сила Гордеич вошел под крышу конюшен, где по обе стороны длинного темноватого коридора были двери в каменные стойла лошадей. Сел на скамью и стал ждать, Больше года не наезжал из города в имение: хотел сделать опыт, как поведет дело сын. Теперь предстояло произвести ревизию.
Быстрыми шагами пришел Кронид. За ним шли два конюха с деловым выражением лиц. Один — молодой, и краснощекий; другой — пожилой, сутулый, тогда снял шапку, низко кланяясь, обнаружил лысину во всю голову.
— Двухлеток хочу поглядеть, — сухо сказал Крониду Сила.
Кронид ничего не успел ответить, как оба конюха кинулись в длинный коридор конюшен.
— Справа начинайте! — крикнул вслед им Кронид,
Вывели под уздцы вороного жеребчика, двухлетнего стригуна. Взволнованно поводя агатовыми глазами, стуча стройными крутыми копытами по дощатому покатому иолу, он плясал, думая, что ведут в отворенные ворота во двор, но молодой конюх осадил его умелой, сильной рукой. Жеребчик слегка осел на задние ноги, уперся передними и звучно фыркнул. В морозном воздухе пар из ноздрей коня выскочил двумя косыми лучами. Все засмеялись, кроме старого хозяина. Он сидел, запахнувшись и шубу, бритый, маленький, хилый, выглядывавший из енотового воротника, и напоминая в что время гоголевского Акакия Акакиевича. В сравнении с прекрасным, полным красоты й силы конем, метавшим искры глаз, извергавшим пар из ноздрей, старичок казался ничтожеством. В тусклых старческих глазах и морщинистом желтом лице застыло скорбное бессилие.
— Уведите! — брюзжащим голосом сказал Сила и махнул рукой.
Вывели другого, потом третьего. Кронид объяснил родословную каждого,- от каких маток и производителей происходит это подрастающее поколение. Но хозяин слушал уныло и нетерпеливо. После вчерашней выпивки у нею болела голова. Но Сила, скрывая нездоровье, бодрился.
— А ну их! Покажите эту... новую покупку-то!
Старик улыбнулся насмешливо.
Вывели гнедого рысака-великана. Это был громадный жеребец с лоснящейся темно-золотистой шерстью, с черным, волнистым хвостом до земли, длинною гривой и огроммыми добрыми глазами. Стоял спокойно, выгибая и лебединую шею и пытаясь дружелюбно толкнуть мордою знакомого конюха.
— Шалишь! — улыбаясь, сказал ему конюх.
Кронид потрепал великолепного коня по крутой теплой шее. Жеребец не вздрогнул, не шарахнулся, только пси ми грел на него умным взглядом черных блестящих глаз.
- Ну, брат, у тебя нервы — мое почтение! — смеялся Кронид. — Р-р-р! Родненький! Родненький!..
— Как кличка-то? — спросил Сила.
- «Родненький». Пятилеток от знаменитых производителей. Гигант, а нрав — как у теленка. Хороший производитель будет для дышловых, каретных лошадей.
Сила Гордеич, понимая толк в лошадях, с одного взгляда определил первоклассные достоинства новой лошади: широкая грудь, прямые, как струнки, передние нош, крутые копыта, пропорциональность сложения, ни разу видна порода. Но старик и виду не показал, что лошадь ему понравилась. Сурово пожевав губами, он махнул рукой. Жеребца увели.
— А Железный жив еще?
— Жив. Только не выводим его: сами знаете - зверь, а не лошадь!
— Да ему уж, чай, лет двадцать?
— Двадцать два, — вставил свое слово пожилой конюх.
— Старик, а верхом на него так никто никогда и не садился. Запрягаем иногда для проездки: четверо конюхов держат, пока вожжи натянешь, а потом — ворота, и уж тогда только держись: пятьдесят верст иною рысью идет!
— Да что толку-то? — возразил Сила. — В производители — стар стал, а ездить на нем — кому жизнь не мила? Продать надо. Ну-ка, погляжу!
Старик встал, кряхтя и охая. Кронид и конюхи засуетились.
Остановились в коридоре перед обитой железом дверью. Все стояли перед ней полукругом: в центре, позади всех, — Сила. Конюх отворил дверь настежь. В каменном стойле стоял белый, как снег, арабский конь необычайной красоты, прикованный к стене своей тюрьмы двумя толстыми цепями. Это и был Железный. От избытка энергии он весь дрожал налитыми мускулами, ходившими под атласной, серебристой кожей, переминаясь на пружинистых, легких ногах, которым, казалось, ничего не стоит отделиться от земли, взвиться «выше леса стоячего, ниже облака ходячего».
Заслышав шум, конь насторожился, поднял уши и, повернув небольшую, красивую голову, слегка заржал, скосил злые, огневые глаза.
— Вот это конь был бы, — с невольным восхищением сказал Сила, — если бы не характер! Характер-то у него железный. Так и не сломили, а теперь уж поздно. Это не теленок, не Родненький ваш!
Старик подумал, вздохнул.
— Жалко, а придется назначить в продажу. Кронид, скажи, чтобы вывели во двор! Погляжу.
— Опасно, Сила Гордеич. Позвать еще двоих придется.
Сила повернулся и вышел из конюшни во двор. Следом за ним шел Кронид.
Через несколько минут раздался топот, и из конюшенного здания вылетел Железный с четырьмя здоровыми мужиками, висевшими на длинных железных прутьях, прикрепленных к его узде, по два с каждой стороны. Красавец-конь, весь дрожа от гнева, пытался вырваться и встать па дыбы, но конюхи крепко держали за прутья, упираясь ногами в снег.
При свете утреннего зимнего солнца арабский жеребец казался серебряным. Густой волнистый хвост, слегка отделяясь oт туловища, струился до земли, гладко расчесанная грива падала до сухих стройных колен, огромные глаза сверкали синим огнем. Железный не был так громаден, как Родненький, но казался крепче, изящнее, легче. Огненный темперамент чувствовался в каждом его движении. В гневе на державших его тюремщиков могучий конь крутился по двору, швыряя висевших на нем мужиков тряс головой и гривой, испуская не ржание, а рев, звучавший металлическим звуком.
Сила Гордеич стоял в отдалении и любовался борьбой.
Вдруг лошадь круто, почти стоймя поднялась на дыбы, конюхи выпустили прутья, а Железный, сделав гигантский прыжок по воздуху, грянулся оземь, скребя копытами снег.
Кронид подбежал к нему, схватил за узду: морда коня оскалилась, белки глаз закатились под лоб. Железный простонал, как человек, содрогнулся всем телом и остался неподвижным. Кронид щупал сердце, припал ухом и, поднявшись на ноги, сказал с испугом:
— Разрыв сердца! Удар!
Все окружили павшего «производителя». Подошел Сила Гордеич.
- Вот тебе и Железный! — сказал он. — Значит, полная отставка!
Из конюшни донеслось ржание: заржал Родненький.
Сила Гордеич, крайне недовольный, вернулся в дом и, снявшись наверх, вошел в комнату жены. Настасья Васильевна по обыкновению курила, большим мужским им мм расхаживая из угла в угол. Комната ее была небольшая, с изразцовым камином и низким потолком.
На полированном круглом столе лежали табак, папиросы и папиросные гильзы. Два низеньких окна выходили по двор.
— Видела? — рыкающим басом кратко спросил Сила Гордеич, садясь на маленький мягкий диван.
Старуха рассеянно посмотрела на мужа, оторвавшись от своих мыслей.
— Железный сейчас грохнулся на дворе!
Какой Железный?
Сила Гордеич махнул рукой.
Ничего не помнишь! Лошадь пала. Вывели ее из
конюшни, а она грянулась, да и дух вон. Пропали деньги. Лошадь горячая, да и в годах была, застоялась. Её бы доезжать почаще, а они, как зверя, в конюшне на цепи ее держали. Ну, и пропала. И все у них тут через пень - колоду идет. Черт знает, что делается, смотреть противно. Мельницу так выстроили, что лучше и не надо: только и остается спалить да страховку получить. Нечего сказать, хозяева!
Настасья Васильевна усмехнулась.
- Вот вы о чем! Ну, я в эти дела, сами знаете, не вмешиваюсь. Вот о дочери думаю, жених свататься приехал. Вечор Варвара мне рассказывала, а потом сама невеста пришла, да и бухнула: «Вы, говорит, как хотитe, а я все равно за чего пойду!» Как вам это нравится?
Cтapyxa желчно засмеялась и, присев на стул, сильно затянулась папироской.
Сила Гордеич крякнул, уперся худыми руками в колени, покрутил головой.
— Вот то-то и оно! Ты помнишь пословицу: надо наказывать детей, когда они поперек лавочки укладываются, а не тогда, когда они и вдоль-то не улягутся! Перевоспитывать поздно. Ну, предположим, не дадим мы своего согласия, так ведь она сама говорит, что по-своему сделает. И сделает!.. Наташка — она только с виду тихоня, а чертей в ней напихано, я думаю, штук тридцать, никак не меньше.
Настасья Васильевна расхохоталась.
— Да ведь уж было дело, — продолжал Сила Гордеич, — с любимой твоей дочкой, Варварой-то: не послушала нас, сбежала самокруткой. И эта сбежит. Значит, приходится нам — полегче на поворотах! Что делать!
Сила Гордеич вздохнул и задумчиво пожевал губами.
— Слов нет, коли это была бы только дурь одна, я бы повернул по-своему: хочешь замуж выходить без нашего совета — сделай милость, выходи, только уж приданого не спрашивай, живи, как хочешь, как Варвара жила. Ну, а тут другой оборот выходит: человек занимает положение, известный художник, хорошо зарабатывает. Пощупал я его вчерась: ничего, парень-рубаха, без задних мыслей, насквозь видать. Этот не станет приданого спрашивать, как наш брат, купец Капиталу, конечно, в руки не дадим, будет Наташа проценты получать — тысячи три в гол — и ладно. А там увидим
Haстасья Васильевна помолчала, подумала, закурила новую папиросу, потом, вздохнув, сказала.
— Ну, как же вы решили?
— А так решил, что отказывать не следует. Не знаю, что ты на это скажешь, а по-моему — пускай с год поженихаются, со свадьбой повременят Если ничего серьезного нет, так, может быть, и сами раздумают. Ежели сладится дело пускай! Не силом выдали, сама себе мужа имвыбрала. Девке уж за двадцать перевалило, пора! За купца равно не пойдет: уж сколько их сваталось! Выйдет в простом платье, вильнет хвостом, да и была такова. Сделала ты всех детей образованными, так пускав и выходит за такого же. А парень ничего, покладистый: она из него веревки вить будет.
- Не нашла она, что ли, себе покрасивее? Волосатый дa худущий какой-то!
Сила Гордеич улыбнулся.
— Вот сказала! Да разве в красоте дело? Мало ли красивых-то молодцов, да что толку? Надо, чтобы голова была на плечах. Читала, чай, как его картины газетах расхваливают? Я, положим, в картинах понимаю, как свинья в апельсинах, хе-хе! По мне — хоть их бы и не было вовсе, да ведь деньги дают люди. Стало быть, это — капитал!
Настасья Васильевна ядовито улыбнулась.
— А все-таки — и не дворянин, и не купец, а так — не нашего круга, художник какой-то. Нынче слава, а завтра — поминай как звали!
— Ну, завела волынку! Ты дело говори!
— Что говорить? Мое дело бабье. А только присмотреться надо, что за фигура.
— Я и говорю; согласие дать, денег не давать, а свадьбу отсрочить!
— Позови-ка его сюда, побеседовать.
Сила Гордеич встал, отворил дверь и вышел на лестницу; снизу слышались голоса и смех молодежи.
— Валерьян Иваныч, пожалуйте-ка сюда!
По лестнице послышались быстрые шаги, и в комнату пошел Валерьян; он улыбался беспечной улыбкой.
— Садитесь-ка! — с неожиданной галантностью сказал старик, жестом указывая кресло, улыбаясь официальной улыбкой, отчего бритое лицо его с тонкими, сухими чертами напомнило художнику классический облик Рейнеке-лиса.
Художник сел напротив хозяйки, сидевшей за круглым столом, с папиросой между пальцев длинной худощавой руки.
— Ну, я с вами прямо по делу буду говорить, — сказала, смеясь, старуха, думая про себя: «Не дворянин, конечно, но держится прилично. Говорят — талантливый. Так вот он, будущий зять! Странный выбор младшей, нелюбимой дочери! Везет же отродью ненавистного Силы: вся в него!»
— Жениться собираетесь? — спросила она, закуривая папироску.
Художник перестал улыбаться, слегка побледнел, тонкие пальцы его задрожали.
— Да, я имею честь просить руки вашей дочери, Натальи Силовны.
— Дело хорошее, но очень серьезное. От него часто зависит вся жизнь человека. Хорошо ли вы обдумали ваше намерение? Ведь с молодыми людьми всяко бывает: приглянется смазливое личико — и думают, что любовь, а потом глядишь — и ошибка!
Настасья Васильевна испытующе посмотрела на молодого человека.
— Нет! — возразил он спокойно и убежденно. — Я встречал и более красивых, чем Наталья Силовна, но ценю в ней не только красоту внешнюю, но грациозный ум и душу. Вы знаете, что мы уже пять лет знакомы, встречались в семье вашей старшей дочери, когда я еще беден и неизвестен был. Не явись у меня теперь успеха и некоторой обеспеченности, я бы и сейчас не решился сделать предложение вашей дочери, хотя знал, что она мне не отказала бы и пять лет назад. Но я не хотел связывать ее судьбу с судьбой голяка. Она воспитана в известном комфорте, а какую жизнь я мог предложить ей тогда, когда был начинающим художником без имени! И она тоже это понимала. Мы пять лет избегали друг друга, как враги, но, видно, судьбы не объедешь! Теперь я решился. Вы читали, что пишут в журналах о моих работах?
— Если бы не читала, то я бы с вами и разговаривать не стала, — высокомерно возразила Настасья Васильевна.
— Ну вот. Я и это знал, что не стали бы, а теперь, кажется, весьма благосклонно разговариваете? Смею заверить вас, что жизнь моей будущей жены обеспечена: материальная сторона меня теперь не затрудняет. Я не богач, но надеюсь, что проживем безбедно.
— Я слышал, вы продали вашу последнюю картину, которая на выставке была? — вмешался Сила Гордеич.
— Да, картина продана.
— За сколько, если не секрет?
— За семнадцать тысяч.
— Семнадцать тысяч?! за картину?!
Художник улыбнулся.
- Я, что называется, вошел в моду, мне хорошо платят. Да и работал над картиной полтора года!
- Ну, тогда это так: без труда, видно, ничего не дается.
Настасья Васильевна встала.
- Все-таки мой совет вам — подождать со свадьбой. Время терпит. Наташа эту зиму будет жить у сестры в столицах-то ваших, вот и приглядитесь поближе один к другому, а там видно будет.
Она взяла из угла бильярдный кий и, кивнув нареченнному зятю, вышла со словами:
— Вы тут со стариком еще потолкуйте, а я по хозяйству пойду.
Едва она вышла, как Сила Гордеич, кивая на дверь, подмигнул художнику.
— И разговаривать бы, говорит, не стала! Хе-хе! Слышали? Чувствуете, что за фрукт моя супруга? Было время, когда вся власть в моем доме ей принадлежала. Тридцать лет мучаюсь с ней! С детьми тоже отношения навостренные, все через нее. Ну, да теперь, хоть и поздно, а я все по-своему повернул!
— Дети ваши любят ее, — возразил Валерьян. — Говорят, замечательный человек.
— Замечательный? — Сила Гордеич усмехнулся и затем, наклоняясь к собеседнику, сказал, понижая голос с таинственным видом: — Это — ведьма, Валерьян Иваныч! Истинно вам говорю: старая, злая ведьма!
Валерьян улыбнулся недоверчиво.
— Как же это так можно говорить о собственной супруге? Что вы, Сила Гордеич?!
— Истинная ведьма! — настойчиво продолжал старик. — Гордости и самомнения невпроворот. Умней себя никого не считает, а ведь за каждой малостью ко мне же и лет. Она только себя самое и любит, да еще тех, кто перед ней уничижается. Помню я, приехала сюда подруга ее погостить (еще в институте вместе учились) издалека откуда-то, небогатая женщина. Ну, только что приехала — и зa чаем по старой памяти по-приятельски шутку ей какую-то сказала, самую невинную, и обижаться-то совсемм не на что было! И что же? Молча встала, нос кверхуу — и шмыг в свою комнату! А оттуда распоряжение: немедленно заложить лошадей и отправить гостью обратно! Та туды-сюды, в слезы, объясниться хотела — и видеть не желает: чтобы и духу ее не было! Так и уехала навсегда со слезами.
Старик выразительно посмотрел на будущего зятя и, кивнув головой, закончил:
— Вот она какая, имейте это в виду!.. Варвары, старшей дочери моей, приятельницы вашей, тоже берегитесь: наперсницей при матери состоит и всякие каверзы подстраивает. Меня ненавидит за то, что все ее штучки насквозь вижу. До этого господина, с которым она сбежала, у нас еще другой был, такой же, если не хуже; тоже роман с ней завел. Ну, прогнал я его. Прошло года два — и попадись мне письмо от него к Варваре. Я, конечно, распечатал. Читаю: приходи, пишет он ей, ко мне в гостиницу! Ну, каково это было мне, отцу, читать-то? На «ты» пишет и в гостиницу зовет! Эх!..
Старик вздохнул.
— Что же вы в этом видите? — возразил Валерьян.— Вероятно, они были по тогдашнему нигилистическому обычаю в товарищеских отношениях — и больше ничего. Я семь лет знаю Варвару Силовну и мужа ее знал: все ее уважали. Напрасно вы это!
— Нет, не напрасно! Знаю я эти товарищеские отношения! Ведь и муж-то ее бывший уговорил ее на фиктивный брак, — для чего — и сейчас не пойму: идеи какие-то бредовые. А потом и оказалось, что фиктивный-то брак в настоящий обратился, и дети пошли. А она как оглянулась на мужа, вместо героя — пошляк перед нею, и ударилась во все тяжкие. Эх, идеалист вы, Валерьян Иваныч, не видите грязи-то жизненной, не верите в нее, а когда-нибудь придется же поверить! Что тут говорить? Варвара, конечно, не дура, но развратной жизни. Горько мне это, а правда, ничего не поделаешь! Раз как-то диван в столовой отодвинули от стены, — никогда прежде этого не делали, сколько лет не отодвигали, — я и увидал там пачку писем старых; развернул, а это его письма к Варваре: за диван она их спрятала. Прочитал я их — и во всем убедился. Отдаю матери. Накось, говорю, почитай-ка! Она и ушла с ними в степь — летом дело-то было, - да целый день там и лежала в траве, читала. Вернулась оттуда — у нее и нос на квинту. Поглядел я на нее и только головой покачал: то-то, мол!
В дверь постучали.
Вошла Наташа в коричневой меховой шубке с широкими, отороченными дорогим мехом, рукавами, в меховой шапочке. Смущенно остановилась у порога.
— С добрым утром, папа!
Сила Гордеич улыбнулся.
Любимая дочь всегда вызывала мягкие чувства в его зачерствелом, деловом сердце. Так уж издавна повелось в семье: любимицей матери была старшая дочь, любимым сыном — больной Митя, оба похожие на нее; а младших — Костю и Наташу — мать почти ненавидела за их сходство с отцом. Он знал это и чувствовал к младшей дочери совсем ему не свойственную затаенную нежность.
Но улыбка от привычки повелевать вышла сдержанной и бледной, а голос звучал привычными властными нотами.
— Ты что, коза, куда снарядилась?
— На салазках с горы кататься.
— И это дело! Хе-хе! Только смотри: люби кататься, люби и саночки возить!
— Саночки будет возить Валерьян Иваныч, — с простодушным видом отвечала дочь.
— Разве что он. Хе-хе! Вот и нашла на ком ездить!
— Валерьян Иваныч, я жду вас, а вы все не идете!
— Ну, идите, идите!.. Погуляйте! Только чур — к обеду не запаздывать!
Сила посмотрел им вслед, вздохнул и, сделавшись, как всегда, озабоченным, прошелся по комнате в хмурой задумчивости. Потом спустился вниз и, никем незамеченный, прошел черным ходом в контору имения.
Через несколько минут в опустевшую комнату вошла Настасья Васильевна с кием в руке, а следом за ней Варвара.
Старуха остановилась среди комнаты, опираясь на кий.
— Отец ушел? — тихо спросила она.
Пошел в контору, я видела.
— Затвори-ка дверь покрепче!
Варвара выглянула за дверь, захлопнула и заперла ее на ключ.
— Никого нет?
— Никого, мамаша.
Варвара отвечала вполголоса, с обожанием смотря на мать.
— Ну, вот что: не по душе мне ее жених, да что поделаешь? Не мне с ним жить, а ей. Ежели с вами нахрапом, так вы еще хуже наперекор идете; да и отец уж решил дело. Я упрошу его, чтобы и ты поехала в Питер.
Варвара молча кивнула головой, напряженно смотря матери прямо в глаза.
— Наташа будет жить у тебя. Он, конечно, ежедневный гость. Не спускай с них глаз, следи, как бы, чего доброго, не поссорились промежду себя. Ведь уже просватали! Еще сраму не оберешься. Не вышло бы чего, не рассохлось бы. Ведь я же все-таки мать. Понимаешь?
Старуха погрузила пристальный взор в глаза преданной дочери. Прошла секунда напряженного молчания. Варвара, опустив глаза, прошептала:
— Понимаю.
— Ну, иди!
Старуха властно пристукнула посохом, провожая дочку до двери. В дверях еще раз сказала выразительно и с расстановкой:
— Блюди их! Блюди там... как зеницу ока... Не рассохлась бы свадьба-то!
Перед обедом в гостиной собралась почти вся семья.
Сила Гордеич наводил ревизию конторы, и Кронид пришел оттуда, как обваренный
- С легким паром вас! — насмешливо сказала ему Варвара.
- II вам того же желаю, — отпарировал Кронид.
- Что, кого пропесочивали? — заикаясь, спросил Дмитрий.
Всем досталось, а в общем-то, можно сказать, — в хорошем настроении.
— До визга еще не доходил? — поинтересовалась Варвара.
— Нет. Почертыхался малость — и только. В добром духе нынче.
— Ну, хорошо, что хоть до визгу не доходил.
— У него экзема опять появилась и желудочные боли: от этого и ругается.
— Совсем опаршивел папа! — вставила Варвара.
— Еще будет дело, погодите: еще наругается всласть!
— Ну это самой собой, — задумчиво пробормотал Митя.
— И безусловно справедливо, — говорил Кронид. — Знаете, что за хозяйка Настасья Васильевна? Гораздо лучше бы все шло, если бы она совсем не вмешивалась.
- Она исполняет свой долг, — иронически протянул
Костя.
- Всю жизнь только и делала, что исполняла долг, а от этого все дела ее мертвы есть.
— Зато на папу наскакивает!
— Нет уж! — продолжал Кронид, расхаживая с веревочкой в худых, крючковатых пальцах. — Теперь он силу забрал. Вот когда жив был покойный брат егог ми да, действительно, он безусловно в загоне был: делами-то старший брат руководил; из-за нее и не женился, пил, что тогда развал в семье пойдет, на делах отзовется. Во всем ей тогда уступал. А Настасья-то Васильевна в те времена так с мужем великолепно обращалась, что даже со стороны жалко его становилось. От воспитания детей совершенно его отстранила. Только и было у нее слов: «не смейте!» да «не лезьте!» Пикнуть ему не давала. Зато уж и лютовал он, когда по смерти брата власть-то к нему перешла!
— А все-таки, — возразил Митя, — благодаря ей в нашем купеческом доме книги и журналы появились, мы образование получили, папа обынтеллигентился...
Он не договорил и схватился за живот с гримасой боли.
— Что, опять болит? — спросил брат.
— Совершенно нельзя мне водки пить. Доктор говорит — неврастения.
— А по-моему, от лекарств у тебя это: залечили с детства.
— Лечение — моя профессия, — с достоинством ответил Дмитрий, вынул из кармана пилюлю и проглотил
— Болезнь у нас у всех фамильная, черновская,
— Медвежья! — ехидно добавила Варвара.
— Все — неврастеники, — продолжал Кронид. — Вся чертовщина семьи безусловно на этой почве происходит.
— И не дураки, и не бедные, а жизни нет у нас никакой. Денег много тратится, и ничего не получаем взамен. Сколько уж раз я хотел уйти от отца, — начал Костя, — хоть в приказчики в какое-нибудь дело — не позволяет: перед людьми зазорно; а к своему делу не допускает.
— Эхма! — вздохнул заика, — не дали здоровья, да и денег не больно обрыбишься. Одно остается — водку пить!
— Будет вам ныть-то, — усмехнулся Кронид, — Никто не виноват, что вы сызмальства ни во что не шикали, а теперь безусловно ни за какое серьезное дело взяться не можете.
— Умница! — усмехнулся Костя. — А сам-то как живешь? Вроде старшего дворника двадцать лет ходишь из угла в угол.
— И во сне ногами сучишь, из песка веревки вьешь, — подхватил заика.
Все было засмеялись, но за дверью в коридоре вдруг раздался рыкающий голос Силы Гордеича:
— Мне-то какое дело? У меня — чтоб было!
Послышались его твердые, крепкие шаги.
— П-па-па и-и-дет! — нараспев протянул Костя.
— Па-па идет! — тоном ниже протянул Митя.
— Да, идет! — съехидничала Варвара.
Елена наклонилась к уху Дмитрия и озабоченно что- то ему сказала.
Обязательно сегодня объяснюсь! — решительно отвечал заика. — Говорят, в духе нынче.
В комнату вошел Сила Гордеич и на момент остановился н дверях, слегка наклонив голову и озирая всех поверх дымчатых очков; взгляд его остановился на Константине.
Костюшка! — властно рыкнул он.
— Что, папа?
— А то и папа, — зарычал старик с раздражением,— я то занимаетесь вы тут псовой охотой, Дмитрий спит по цельному дню, а от имения одни убытки! Черт вас знает, что вы тут делаете? Куда ни поглядишь — везде ерунда идет. Новая мельница работает плохо, с фирмой судиться придется. А туды же — электричество завел, даже в конюшнях! Тьфу, что за форс? Мы жили попросту, без затей, трудом да потом по грошам копили, а нам, видно, отцовских денег не жалко?
- Вы, папа, не в курсе дела, — сдержанно ответил сын, вставая ему навстречу: — раз мы паровую мельницу пустили, то электрическое освещение идет от нее же, совершенно даром.
- То есть, как это даром? Чего стоят провода, арматура, да и мельница отдает силу, когда турбины и без того слабы оказались.
- Посмотрите цифры!
- Цифры! Не беспокойся, цифры-то я посмотрел. Цифры цифрами, а мне этот дух ваш не нравится. Форс, мотовство! Дай вам волю, так вы все растранжирите, все по ветру пустите. Оказывается, ты для конного завода нового производителя купил?
- Да, купил.
- Сколько дал?
- Семь тысяч.
Сила Гордеич выразительно засвистал, как бы пораженный ударом, и потом в дополнение к свисту протянул, вздыхая и ударяя себя по затылку:
— Э-хе-хе-хе-хе! Семь тысяч! За лошадь! Ты с ума пятил? Лошадники! Собачники! Новые дворяне! Да я бы давно весь этот и завод прекратил. Ничего окромя убытку! Вы думаете, у отца-то денег куры не клюют, по ли? Цены деньгам не знаете! Не знаете, как мы наживали-то. Наживали бережливостью да, нечего греха таить, скупостью! Кто сам капитал наживал, тот это понимает, а вы не наживали и не понимаете. Вы, пожалуй, думаете про себя то, что скряга у вас отец, скупой, мол. А мне что от денег? Какая радость? Только неприятности. Иной раз, кабы право мое было на то, взял бы их та в печку и кинул: пропадай! С собой в могилу все равно не возьмешь.
— Так делайте все сами, — в тон отцу крикнул Константин, — не поручайте никому! Хотел уйти от вас — не пускаете. Хочу делать что-нибудь — по рукам бьете. Что же остается? Лежать, как брат мой лежит? По-вашему, самое лучшее — ничего не делать, стричь купоны. Да ведь это старикам хорошо, а молодым работать хочется! Вечно вы риску боитесь, а без риску и денег не наживешь.
Константин был бледен, взволнован, глаза сверкали.
Сатанинская гордость сквозила в усмешке и во всей его упрямой позе, обнаруживая в этот момент внезапное сходство сына с отцом.
— Мы наживали, — повысил голос Сила, — а вот вы не наживете, нет! Воспитала вас мать-то не купцами, так теперь уж поздно. Во всякое дело надо сызмальства входить, а не эдак! Ну, как я вам с бухты-барахты большое дело дам? Конечно, вы его провалите! Ведь уже было дело, испытывал я вас: не бывать вам купцами! Мать, все мать виновата! Либеральничала, набивала вам головы черт знает чем. Ну, какой ты купец будешь, какой хозяин? Ты толстовец, землю мужикам хотел по дешевке продать. Да они умнее тебя оказались, уперлись и не купили. Конечно, земля мужику нужна, да ведь не нам эти дела переделывать! Поди, да и роздай все нищим, только наживи сначала. А я коммерсант, я своего задаром никому не отдам. Так вы и знайте! Зарубите себе на носу!
Голос Силы Гордеича, дойдя до предела, сорвался в визгливые ноты.
— Папа, вас мамаша зовет, — тихо сказала Варвара,
— Что там еще?
— Не знаю... Дело!
— Дело! Дело! Знаю я все ваши дела. Небось, ты все эти дела подстраиваешь? Знаю я тебя, либералка, социалистка! Доберусь когда-нибудь и до тебя!
Варвара ничего не ответила, только плоское бледное лицо ее с мужским лбом и большим подбородком окончательно окаменело. Ресницы, задрожав, опустились, но видно было, что за этими опущенными глазами и неподвижной маской бесстрастия скрывается напряженная ярость.
- Что вы, — вмешался Кронид, нервно теребя свою веревочку, — вы только что приехали, в имении целый год не были и, не разобравши дела, безусловно напрасно волнуетесь Хотя бы насчет электричества: при мельнице оно обойдется дешевле керосина, безусловно лучше и безопаснее. А при покупке лошади я был, денег этих она стоит: ведь это — производитель!
— Да что мне в том, что производитель? — загремел Сила своим могучим голосом, с необъяснимой силой исходившим из его маленькой, приземистой фигуры. — Что мне в этом? Денег чужих не жалеете!
Он энергично плюнул и быстрыми шагами повернулся к выходу, но у двери его нагнал Митя, давно уже порывавшися что-то сказать дрожавшими от заикания, побледневшими губами.
— Папа, вы всегда раз-драж-жаетесь, а мне б-бы и нужно по делу с вами поговорить.
- По делу! По делу!.. А я-то не по делу, что ли, сейчас: говорю? Черт вас побери и с делами-то с вашими!
Сила Гордеич остановился в дверях.
— Ну, что еще?
Митя долго заикался, вызывая у всех жалость и волнение за него. Елена зажала уши, уткнувшись в подушку дивана.
— Папа, успокойтесь ра... ради бога! Никак не выберу время... когда вы в настроении... а нужно... никак не могу отложить...
— Ну!
— Эх, папа! Вечный ад у нас, а как бы можно было хорошо жить-то нам всем!
Костя, напряженно следивший за братом, презрительно махнул рукой и отошел в сторону.
— Расчувствовался! — насмешливо кинул он из угла брату, сверкая глазами. — Поговори, поговори по душе! Эх, ты-ы!
— Ну, брат, ничего я у тебя не пойму, — развел руками Сила, — говори толком!
Губы заики задергались, он долго силился что-то выговорить и наконец выпалил с невольной экспрессией:
— Папа, я... же... жениться хочу!
Сила Гордеич изумленно поднял седые брови. В комнате наступила тяжкая, напряженная тишина.
— Жениться? — тихо переспросил старик с подозрительным спокойствием. — Ну что ж, коли хочешь жениться, то и женись. Твое дело. Ведь ты не совета моего спрашиваешь, не разрешения моего, не благословения, а только извещаешь меня о своем решении. Что ж, раз уж ты решил, то мне-то что тут делать, я-то тут при чем? Разве из любопытства только осмелюсь спросить: на ком?
— Папа! — умоляющим голосом продолжал заика, ясно понимая, что отец издевается, и чувствуя себя, как безнадежно утопающий, — папа!
— Ну? — Сила сдвинул брови.
- Я и прошу... разрешения... жениться... на Елене!
Сила сразу отпрянул от сына на несколько шагов и закричал:
- На ком? На ком? Не расслышал я что-то. Ушам своим не верю!
- На... Елене!
- На Елене?! Да ты с ума сошел! Ведь она сестра тебе! Да как же это можно? Да ведь это грех великий — кровосмешение! Кто же это тебе разрешит? Ведь за такие дела под суд отдают, по крайней мере в монастырь на покаяние. Опомнись! Не пойму я, в уме ли ты?
— Мы... любим друг друга, — совсем падая духом, бормотал Митя.
Сила Гордеич оглянул всех присутствующих молниеносным взглядом поверх очков. Все застыли, отвернувшись от этой нестерпимо тяжелой сцены. Варвара ломала руки. Елена в ужасе лежала вниз лицом.
— Чушь! Ерунда! Какая тут любовь? Просто, росли вместе, привыкли — вот и вся любовь.
Сила Гордеич сел в кресло, вынул платок и вытер вспотевшую шею. Лицо его посерело.
Дмитрий, худой, длинный, изможденный, стоял перед отцом в печальной и унылой позе. Старик откинулся к спинке кресла, уперся руками в мягкие локотники, потом наклонился вперед и прошептал низкой октавой:
— А ты знаешь... от близких-то родных... — остановился и тяжело прохрипел: — уроды родятся!
Туч он затрясся от беззвучного смеха, поднял голову и крикнул:
— Пока я жив, не будет этого!
Он вскочил с кресла и, обращаясь к присутствующим, добавил:
- Слышите вы, что говорит этот безумец? Жениться хочет на Елене, на двоюродной сестре! Что это такое? До чего я дожил! Уж если дети никуда не годятся, ни одного нет мне преемника, то думал я, надеялся, что хоть из внуков будет кто-нибудь со здоровой душой: для него живу теперь. О, господи! хоть бы в будущем поколении, хоть бы кто-нибудь из внучков моих мое дело продолжал бы, мою идею, которую никто из вас не понимает! Но где же он? От кого будет, когда тут грозит кровосмешение, вырождение, падение моего дома! Гибнет мой дом! Валится, валится! Что наживал, что собирал — все прахом пойдет!
Сила Гордеич упал в кресло. Голова бессильно свесилась на плечо, руки повисли, как плети: казалось, что старик умирает.
- Вон... с глаз... моих! — чуть слышно прохрипел он.
Варвара кинулась к нему почти с радостью, стала на колени, взяла за плечи.
— Успокойтесь, папаша! — сказала она, но голос у нее звучал притворно и холодно.
Сила открыл глаза, приподнял голову. Усилием воли преодолел припадок слабости и оттолкнул от себя дочь.
— Не верю! — с внезапным напряжением гудел он, задыхаясь. — Никому не верю! Все — чужие... все — враги!
Елена билась в истерике. Остальные сгрудились вокруг старика и заговорили все вместе.
Никто не видел, как в комнату вошла Настасья Васильевна — вся в черном, с бильярдным кием в руке, напоминавшим монашеский посох, что-то зловещее было во всей ее фигуре.
Валерьян и Наташа стояли у обрыва, на высоком, пологом берегу реки, покрытой глубоким затвердевшим снегом. Под гору с обрыва шла накатанная санная дорожка, по которой в праздники катались на салазках деревенские ребятишки. Но теперь, в зимний солнечный день, на реке никого не было, маячила только что отстроенная четырехэтажная паровая мельница, блестевшая под солнцем новенькими, гладко выструганными бревнами, тянулась широкая снежная улица с бревенчатыми солидными избами. За рекой до горизонта развернулась серебристая степь, обрамленная вдали горными отрогами, поросшими сосновым бором. Необыкновенная ширь степного зимнего пейзажа открывалась перед глазами.
Валерьян был в длинной шубе, надетой на один рукав, в высокой шапке с бобровым околышем, Наташа — в коричневой шубке.
Скатившись с горы несколько раз, снова забрались на кручу, глубоко дыша и смеясь от безграничного счастья. Смуглые щеки Наташи горели густым румянцем, на черных бронях и длинных ресницах застряли снежинки. Она лукаво улыбалась и тихонько, незаметно командовала поим женихом. Валерьян смотрел на нее с нескрываемым обожанием. Как большой прирученный зверь — угадывал ее желания, счастливый тем, что может служить ей.
Наташа никогда не была шумной или хохочущей, но ее веселье и счастье светились в тихой улыбке, сквозили в остроумных намеках, которые Валерьян, восприняв на чету, встречал веселым смехом.
Насколько она была нем на и утонченна, настолько он казался простым и первобытным в сравнении с ней. Говорил и хохотал громко, с силой взметнув салазки на бугор, взял ее за обе руки и, легко вытащив из-под кручи, поставил на вершине бугра.
— Какой простор! — шутливо сказала Наташа, махнув по воздуху широким меховым рукавом. — Есть картина такая, вы ее знаете, конечно?
— Еще бы! Старое полотно Репина. Да, здесь действительно простор, ширь. Посмотрите, какие горизонты! Так и хочется сделать что-то большое, подняться на крыльях или на ковре-самолете и пролететь вон там, над тем далеким лесом!
— Вы думаете картинами, художник потому что, — по-детски сказала Наташа. — Сейчас уже вам и ковер- самолет подавай, и, пожалуй, царь-девицу! А серый волк есть у вас, который служит верой и правдой?
Художник засмеялся.
Серый волк, который верно служит вам, — это я сам! Ведь я дикий был, вольный, никому не подчинял- я, любил свою голодную свободу, ненавидел тот мир, в котором нашел вас. Моими врагами были все ваши близкие. А вот случилось как-то, что вы пришли и помирили нас. И я склоняю перед вами свои передние лапы, и мое сердце хочет служить вам. Знаете, открылась мне какая- то другая, новая правда!
Наташа удивленно посмотрела на него.
— Вы в самом деле немного похожи на волка, и походка у вас — волчья.
— А видели вы настоящих, живых волков?
— Очень даже видела! У меня и сейчас есть волк, ручной, на дворе, в амбарушке живет.
— Что это еще за сказки?
— Совсем не сказки! Если хотите — пойдемте, пока- х Прошлой зимой мужик-охотник принес трех маленьких волчат: мать у них убили, а их забрали. Я и взяла из жалости. Сама кормила, играла с ними, любила их, но они меня любили. Такие забавные, совсем как собачата, вместе с собачьими щенками росли! Через полгода большими волками сделались, бегали по деревне вместе собаками. Правда, овцами стали интересоваться: все просились в овечью закуту. Мальчишку одного укусили, мужики стали жаловаться. Тогда всех трех отвезли в лес. И что же? Двое-то ушли, а третий, самый мой любимый, — Белый Клык называется — в честь героя Джека Чондона, — воротился обратно. Живет и сейчас у нас. Только теперь из амбарушки его не выпускают.
— Любопытно! Покажите мне это чудо: прирученного волка.
— Пойдемте! Довольно кататься, я уже устала, а ведь после обеда всем нам на станцию ехать!
— Да, пора в Питер, Наташа. Там меня ждет моя работа, а после вас я ее люблю больше всего на свете!
Наташа покачала хорошенькой головкой.
— Вы не должны любить меня больше, чем художество. Если я вам помешаю — плохое будет счастье.
— Вы не можете мешать моей работе, Наташа. Одно ваше присутствие вдохновляет меня. Но покажите же мне вашего волка. Это хорошая тема.
Они повернулись и пошли к усадьбе.
Старый дом чернел на возвышенном месте, на берегу замерзшей извилистой реки. Дом царил над всей окружающей ширью, но казался сумрачным и унылым. Окружавшие его акации в серебряной снежной парче казались мертвыми тенями, неподвижно смотревшими в длинные венецианские окна, а широкий двор, обнесенный высокой кирпичной стеной, напоминал старинную крепость или тюрьму. Казалось, что строили этот дом суровые, мрачные люди, не знавшие веселья и счастья.
Наташа легкой походкой пошла впереди, помахивая рукавами своей шубки. Валерьян, запахнувшись в шубу и сдвинув шапку на затылок, вез за собой салазки. Они вошли во двор через широкую, большую калитку. Из сарая в это время вывезли на снег троечные сани, суетились работники, а Кронид в нагольном тулупе внакидку осматривал полозья. Увидев Натащу с женихом, везущим салазки, он засмеялся.
— Гы-гы! Наташа, ты бы села в салазки-то! Пущай Валерьян Иваныч тебя покатает.
— Уже накатались, — ответил Валерьян. — Теперь волка хотим посмотреть.
- Белого Клыка, — подтвердила Наташа. — Я уже три дня его не видела.
— Есть чего смотреть! Волк, так он волк и есть. Сколько волка ни корми, а он все в лес глядит. Вот уедете, так мы его отпустим. Без тебя кто за ним ходить будет? Боятся!
Кронид повернулся к Валерьяну.
— Вы бы, Валерьян Иваныч, если вас интересует, лучше бы наших гончих собак посмотрели: есть у них самый главный, пес-волкодав, ну, что за умница! На удивление! Случается, когда долго охоты нет, или все в город уедут, так он сам охоту на зайцев устраивает. Выбегут всей сворой в поле и по всем правилам облаву устраивают. Собаки затравят зайца и держат его. Тогда главный-то этот подойдет и кушает, а остальные собаки сидят кругом. Что останется — им отдаст. Такой уж порядок у них заведен: сами, без люден охотятся!
— Нет, вы нам сначала волка покажите. Наталия Силовна говорит, что очень уж любит его.
— Гы-гы! А кого ей тут было больше любить, в степи ю в нашей? От безлюдья и волка полюбишь. Василий, отвори амбарушку. Белого Клыка хотят посмотреть.
Василий отпер низенькую дверь, отворил ее настежь и, согнувшись, влез через высокий порог. Валерьян с любопытством заглянул в дверь и невольно отшатнулся, почти наткнувшись на громадного серого зверя, привязанною на ошейник с двух сторон. От неожиданного света и голосов людей волк ощетинился, припал к полу, раскорячив все Четыре лапы и поджав хвост, как собака. Только длинная морда с зубами, как у пилы, широкая голова с характерными волчьими ушами и неповоротливая, могучая шеи выдавали в нем обитателя лесов. Василий взял его ошейник и, отвязав веревку, волоком потащил к порогу. Вид у зверя был жалкий и растерянный: по-видимому, он не знал, чего хотят от него люди, но из амбарушки выхолить не хотел, упирался, мокрая серая шерсть дыбом стояла на хребте не от злости, а от страха и смущения. Не зарычал и не взвизгнул, как это сделала бы собака, не посмотрел на людей, только молча и часто дышал, приоткрыв длинную пасть с розовым длинным языком и с острыми зубами.
— Клык, — радостно сказала Нагаша, — иди сюда, несчастный!
Волк поднял уши и, увидав из-за плеч работников, заслонявших дверь, свою госпожу, вырвался из рук Василия. Клубком мелькнула серая шерсть. Все невольно и шарахнулись. Волк одним прыжком очутился у ног Наташи и, ласкаясь, как собака. Потом в знак преданности всем по-собачьему лег на спину, повиливая косматым хвостом.
Валерьян с изумлением смотрел на эту невероятную сиену. Яркое зимнее солнце освещало Наташу сзади, голубая тень от нее лежала на искрящемся морозном снегу: Валерьяну качалось, что от головы девушки излучался синий свет. Наташа наклонилась к покорному зверю и погладила его маленькой бледной рукой.
— Белый Клык, несчастный ты Клык!
Голос Наташи звучал материнским состраданием.
Потом она со смущенным лицом посмотрела на Валерьяна.
— Ну, видели моего воспитанника? Прощай, Белый Клык! — Наташа опять наклонилась к волку. — Уезжаю от тебя, уезжаю далеко, а ты в лес ступай, к братьям твоим! Только назад не возвращайся, меня здесь не будет потому что!
— Ну, вот и попрощались с другом. Гы-гы! — засмеялся Кронид. — Отташите его, ребята, обратно!
Он обернулся к Валерьяну.
— Ну, что, Валерьян Иваныч, видали чудеса? Вот так невеста у вас — укротительница! Смотрите, как бы и с вами того же не было! Гы-гы!
— Да что вы, — сказал Валерьян, снимая шапку и отирая пот со лба. — Никому бы не поверил, если б сам не видал. Наташа, вы или колдунья, или святая!
— Еще чего не скажете ли? — с лукавой улыбкой возразила Наташа. — Ох, уж эти мне художники! Еще, пожалуй, заживо икону нарисуете с меня.
— Гы-гы! — смеялся Кронид. — Вот она какая у нас! А вы и не знали? Впрочем, удивительного тут безусловно нет ничего: волка ежели щенком взять, приручить
можно. Мяса ему никогда не давали, и крови еще не проронил. Одно только странно: ведь его уже отвозили в лес, гак нет, опять воротился, проклятый!
— Пожалуйте обедать! — закричала с черного крыльца толстая кухарка. — Папаша ждут и сердютца!
После обеда среди двора уже стояли двое запряженных саней. Большие ковровые — были запряжены тройкой серых лошадей, а маленькие санки — парой вороных, цугом: проселочная степная дорога бывает узкая в этих местах, снежная.
С парадного крыльца на двор вышли отъезжающие и провожающие. Сестра и братья Наташи отправлялись вместе с помолвленными в Петербург. Торопились к поезду на ближайшую станцию, в сорока верстах от имения. Валерьяну дали высокие — выше колен — валенки. Наташа тоже была в валенках и дубленом крестьянском тулупе поверх своей шубы.
Братья и Варвара, все закутанные, уселись в троечные сани, а в маленькие санки посадили Валерьяна рядом с Наташей. На козлах у них сидел широкоплечий, грудастый Василий.
Когда отворили ворота, на крыльцо вышли родители. Кронид суетился около саней, укутывая полстью ноги Наташи.
Сила Гордеич выглядел сумрачно и печально, кутаясь и старую енотовую шубу. Настасья Васильевна нервно курила папироску, держа ее в дрожащих пальцах. Голова старухи тряслась, лицо было сурово, как всегда.
— Ну, с богом! — сказал Сила, крякнув, махнул рукой и отвернулся.
Кучера натянули вожжи. Вперед двинулась тройка, а за ней легкие санки.
— Поезжайте на Кротовку! — кричал Кронид кучерам. — Оврагами не ездите!
Валерьян и Наташа, закутанные до глаз, мчались в вихре морозной ныли вслед убегающей тройке. Зимнее солнце снижалось к закату. Мороз крепчал. Когда выехали за село, в поле па ветру прохватывало таким железным холодком, что дышать было трудно. Лошади мчались, как бешеные. Василий, накрутив вожжи на рукавицы, откинулся назад всем корпусом, но не мог сдержать их необыкновенно быстрого бега, Тройка впереди скоро исчезла в тумане легкой метели. Черные кони, распустив по ветру хвосты и гривы, роняя клочья пены с удил летели, как бы едва касаясь снега. Валерьян крепко держал Наташу, закутанную как узел, и с тревогой смотрел вперед, опасаясь, как бы Василий не вытряхнул их из саней. Видно было, что кони не слушаются удил. Василий разодрал им губы, и пена летела по ветру розовая, окрашенная кровью. На снегу под копытами тоже мелькала моментально замерзавшая кровь: передняя «засекла» ногу подковой.
Так летели они около часа, все ускоряя быстроту бега. Как на крыльях пролетела мимо них встречная деревня, до которой от имения считалось двадцать перст. Василий уже совсем висел на вожжах, а лошади, в крови и мыле, мчались как бы в ужасе, прижимая уши.
«Что такое, что с ними делается?» — тревожно думал Валерьян, из последних сил придерживая закоченелой рукой Наташу. Собрал весь свой голос, напряг грудь к закричал что-то Василию, сам не помня что. Василий не отвечал, только поворотил обледенелую бороду и мотнул головой. Валерьян всмотрелся по указанному направлению: везде была туманная, белая, как саван, снежная степь, но на горизонте мелькнули три темных силуэта, Сначала он не мог понять, что это такое, но силуэты приближались наперерез: они походили на животных. Может быть, это были зайцы, или собаки...
«Волки! — вдруг озарило его. — Так вот почему нельзя удержать лошадей!»
Вдруг дорога круто начала спускаться под гору к занесенной снегом реке. Со всего маху бешеной скачки их понесло вниз, окатило облаком снежной пыли, в которой на момент исчезло все: лошади и Василий, потом сильно тряхнуло, ударило, и Валерьян с Наташей легко вылетели в снег. Падая, он успел ухватить Наташины валенки, и они остались у него в руках.
С трудом поднявшись на ноги, он увидел Наташу в шерстяных чулках и тулупе, лежавшую на краю проруби. Он бросился к ней, но она уже сама поднялась и сказала спокойно:
— Помогите мне надеть валенки. Я не ушиблась, не пугайтесь!
Василии мчался на своих бешеных лошадях, тщетно параясь повернуть их обратно.
Едва Валерьян успел обуть свою спутницу, как между ним и ею упало большим живым узлом что-то меховое, серое, пахнувшее шерстью, и на грудь Наташи бросился волк.
— Белый Клык! — радостно закричала Наташа.
Страшный зверь скакал около девушки и, наконец, лег у ее ног.
— Белый Клык! — со вздохом облегчения повторил Валерьян.
Он оглянулся по сторонам. Вдалеке, у перелеска, на снежном бугре виднелись два силуэта, очертаниями напоминавшие Белого Клыка.
Наталья Силовна, наконец, рассердилась. Она топнула на волка ногой и взмахнула рукавом.
— Пошел прочь, Белый Клык! Как ты смел за мной увязаться? Вот сидят твои братья! Марш! марш! Пошел!
Бросила в волка комом снега и указала на горизонт,
В это время издалека донесся протяжный, заунывный вой. Словно отвечая и повинуясь ему, волк медленно, боком, как бы нехотя, побежал в сторону своих воющих братьев и скоро скрылся из виду. Наконец подъехал Василий на укрощенных, взмыленных конях.
— Это был Белый Клык, — сказала ему Наташа.
— А! чтоб ему! — сердцем выругался Василий. — Лошадей-то как перепугал! Ну, садитесь, теперь доедем.
Наташа села в сани, и Валерьян, укутывая ее, заботливо и любовно заглядывал ей в глаза.
II
Сестры, по приезде в Петербург, поселились на Васильевском острове в маленькой квартирке из трех комнат. Жили очень скромно: Варвара продолжала свои занятия в консерватории, Наташа от нечего делать брала уроки на скрипке, но в сущности ничего не делала в ожидании предстоящей свадьбы. Валерьян бывал у них ежедневно. Являясь перед вечером, он или увозил Наташу кататься, или оба, захватив коньки, отправлялись на каток. Каток бил любимым развлечением Наташи. Выросшая в деревне, она и здесь, в этом чудовищном гранитном городе, окутанном туманами и почти лишенным солнца, искала привычной для нее природы, стремясь как бы убежать от шума мирового города к тишине родных степей. Правда, в этих степях стоял мрачный дом ее отца, с тяжелым, гнетущим укладом жизни, из которого она стремилась вырваться, сама не зная куда, но только не в безумную сутолоку столицы.
Выл разгар зимнего сезона. Валерьян старался развлекать свою невесту: часто привозил билеты в тот или другой театр на интересные спектакли с участием знаменитостей, но Наташа всегда под тем или иным предлогом отказывалась, и билеты пропадали. Однажды общими усилиями, с большим трудом удалось уговорить ее поехать в оперу своей компанией, с женихом, сестрой и братьями, жившими в гостинице и занятыми большею частью ездой на бега. Взяли закрытую ложу в Мариинском театре на спектакль с участием Шаляпина. Вид громадной толпы в переполненном колоссальном театре ужаснул Наташу. Она села в угол за занавеской ложи: казалось, что шум оперы действовал на нее подавляюще. Известный художник, появившийся в ложе рядом с таинственно прятавшейся красавицей, возбудил внимание и любопытство многих из публики. На ложу часто направлялись лорнеты и бинокли. Вид у Наташи был несчастный, испуганный. В первом же антракте она заявила, что у нее болит голова, и попросила Валерьяна проносить ее до извозчика. Сколько ни уговаривали ее, она упорно твердила, что должна ехать домой, Валерьян, бросив театр и компанию, поехал вместе с ней на квартиру, где головная боль тотчас же прошла.
Он не верил в эту боль, но никак не мог понять, почему Наташа так боится людской толпы, что даже убежала из театра, а ведь она так любила музыку. Скоро домой вернулась Варвара, не досидев до конца спектакля. Расстроенный художник уехал, не оставшись ужинать. Едва закрылась за ним дверь, как Варвара, упершись руками в бока и качая головой, рассмеялась.
— Ну, что ты наделала, пень ты косматый? Зачем огорчила жениха?
Наташа опустила голову.
— Не могу потому что. Все его знают, все на него смотрят — и на меня тоже! Позорише! Зачем он так знаменит?
Варвара качала головой.
— Разлюбезное ты чучело мое! Чем же плохо, что за известного человека выходишь? Да я бы на твоем так вот куда поднялась! Всех бы под свои ноги подписала!
— Ведь то ты! — подобострастно ответила Наташа.— Я, когда с ним при людях, не знаю, куда и деваться. Страшно делается. Нет, уж лучше без него как-нибудь и едем в театр.
— За чем же дело стало?
Варвара обняла сестру, посадила на диван и ласково привлекла к себе.
— Глупышка ты еще, дичь степная! Ну, хочешь —поюедем на музыку или концерт с братьями или с кем- нибудь из моих знакомых? Только смотри, как бы он не обиделся!
— А зачем ему обижаться? — наивно возразила Наташа.
Варвара засмеялась.
— И то правда! Если обидится, это не беда. Рано ему еще власть-то свою показывать! Мужчины — они чсегда так: протяни им палец, так они готовы всю руку отхватить. Ты помучь его немножко, испытай, сильно ли тебя любит, а сама не поддавайся, чтобы не он командовал тобой, а ты им. Вот приедет как-нибудь один мой знакомый, доктор Зорин, — ты знаешь его — возьмем та и поедем куда-нибудь втроем. Ведь пока еще ты свободна, не замужем, не обязана перед своим повелителем но одной половичке ходить.
Варвара дружелюбно пригладила буйные, пушистые волосы Наташи и продолжала:
— Я тебе вот что посоветую: ну, неприятно тебе рекламироваться невестой известного человека — и не надо. Я знаю, ему хочется тебя показывать всем, а ты на своем ставь, чтобы он немножко поплясал перед тобой. Пускай поревнует чуть-чуть: ничего, это полезно. Если любит по-настоящему, тогда, не беспокойся, вытерпит нее, будет по твоей дорожке ходить. А ты его на веревочке, на тоненькой ниточке за собой води. На другой день к вечеру, как всегда, приехал Валерьян. Сестры встретили его весело. Варвара пела романсы, Наташа аккомпанировала, Голос у Варвары был большой, но пела она холодно, без искреннего чувства, которого не было у нее от природы.
Наташа играла на рояле очень хорошо. Чувствовался тонкий вкус, изящество исполнения, блестящая техника. Играла сонаты Бетховена, рапсодии Листа. В особенности удавалась ей своеобразная музыка Грига.
Кончив играть, она в шутку стала показывать фортепианные фокусы. Играла сквозь опущенный чехол рояля.
— Где она училась играть? — спросил Валерьян Варвару.
— Научили хорошие учителя. Надо бы ей в консерваторию поступить, но... — Варвара развела руками, — доктора не позволили: нервы у нее...
— Что вам больше понравилось? — обернулась из-за рояля Наташа.
— Конечно, Григ! Этакая сила, глубина! И как выразительно! Помните это место, где в разных тонах один и гот же аккорд красной нитью проходит? Будто в подземных гротах гномы работают, молоточками своими стучат.
Сестры переглянулись.
— У вас, оказывается, большое чутье: вы почувствовали эту вещь, хотя и не знаете ее. Угадали тему.
— Художник потому что! — подтвердила Наташа.
В передней зазвонил звонок.
— Ну, это, наверное, Зорин, — вставая, сказала Варвара: — я его звала сегодня.
Она пошла встречать гостя, а Наташа, по-видимому не обращая никакого внимания на приезд нового человека, открыла рояль и заиграла. Грянули блестящие, бравурные звуки арии из «Кармен». Никогда еще не играла она для Валерьяна бравурных, героических вещей, но теперь зажигающая, волнующая музыка куплетов тореадора жгучим каскадом наполнила комнаты. Струны рояля звучали необыкновенно певучим, полным, ярким, Горячим и радостным восторгом, от которого невольно что-то загоралось в душе.
Наташа играла, не поворачивая головы, и, казалось, не видала и вошедшего. Но Валерьян видел, как под этот бравурный приветственный марш в комнату входил, невольно подчиняясь ритму, красивый, бритый молодой человек с бледным, чрезвычайно симпатичным лицом, статный, изящный, хорошо одетый. Невольная зависть шевельнулась в сердце жениха. Наташа как будто нарочно встретила этого интересного человека торжественнной музыкой, какой никогда не встречала его, Валерьяна. И под эту гремящую, призывную музыку, симпатично улыбаясь, гость шел через всю длинную комнату, в глубине которой, спиной к нему, играла Наташа. Следом за ним с торжествующей улыбкой шла Варвара, странно бледная, в черном гладком платье, придававшем ей вид мерной кошки.
Наташа оборвала музыку, обернулась.
Гость стоял перед ней, улыбаясь.
— Как вы прекрасно играете! — слегка наклоняясь к ней, сказал он приятным, нежным голосом.
Наташа вспыхнула и встала с растерянным, смущенным лицом.
— Вы не знакомы? — светским тоном спросила Варвара, показывая на Валерьяна. — Художник Семов, наш друг! А это — доктор Зорин, тоже восходящая звезда!
Зорин поклонился.
— Полноте, не смейтесь! Я знаю, что звезд с неба не хватаю. За честь считаю встретить у вас художника, известного всем и чтимого.
Гость, симпатично улыбаясь и обращаясь то к Валерьяну, то к сестрам, стал говорить всем троим комплименты. Начался легкий салонный разговор между Варварой и Зориным.
Наташа потупилась. Валерьян молчал.
— Отчего вы так печальны сегодня? — с беспечным видом спросила его Варвара.
— Оттого, что мне уезжать пора.
— Великолепно сказано! — восхитился светский гость. — Действительно, уезжать от вас никогда не хочется. Но я, к сожалению, тоже сейчас загрущу: заехал на минутку, сегодня «Кармен», моя любимая опера. Вы не собираетесь?
— Ах, какой вы! — кокетничала Варвара. — Я не выхожу сегодня: горло болит. Вот разве сестра или Валерьян Иванович?
— Наталия Силовна, поедемте! — вдруг сказал Валерьян.
— Мне не хочется, — тихо ответила Наташа, опуская глаза.
— Ну, я вас прошу!
Наташа отрицательно покачала головой.
Гость улыбался своей замечательной, располагающей к нему улыбкой.
— Поедемте втроем, возьмем ложу!
— В ложу ни за что!
— Ага, сдается! — вскричала Варвара, хлопая в ладоши. — Браво! Просите еще: она ведь у нас принцесса!
— Тогда — в партер.
Наташа покачала головой.
— Куда же? На балкон разве?
— Если вы хотите, — краснея, прошептала Наташа.
— Отлично. Я никогда еще не бывал на балконе, рад исполнить каприз принцессы. Едемте!
Неожиданно для Валерьяна Наташа согласилась. Это уязвило его самолюбие: когда жених просил, она отказалась; попросил человек, которого она в первый раз видит, — поехала.
Варвара сочувственно проводила их до дверей.
Каприз взять места на балконе Валерьян отчасти понимал: балконная публика не будет наводить лорнеты, смущавшие Наташу. Но зачем этот доктор?
На балконе, как всегда, оказалось душно и тесно. В проходе стояла толпа. Взяли бинокль и сели так, что доктор был по одну сторону Валерьяна, Наташа — по другую.
В ожидании начала спектакля Наташа черезз Валерьяна разоговаривала с Зориным, а будущий муж ее начал чувствовать себя лишним. Она поминутно требовала, чтобы он ухаживал за своим соседом, предложил бы ему бинокль, передал программу. Это начинало бесить Валерьяна. Что происходило на сцене, — не слыхал и не видел. В антракте Наташа осталась сидеть, разрешила обоим пойти в фойе. В курительной доктор очень мило болтал всякий вздор и почему-то понравился Валерьяну. В этом человеке было что-то необъяснимо обаятельное, влекущее к нему, Валерьян впервые злился на Наташу, на обожаемую, кроткую, застенчивую Наташу, поведения которой не мог понять. В нем закипало горькое, грустное, обидное чувство, похожее на ревность, но сознаться себе в этом он не хотел. Ведь тогда бы надо возненавидеть доктора, но доктор казался милым, славным светским болтуном. Перед началом второго акта Валерьян намеренно задержался в густой толпе, стоявшей в проходе, и так простоял все действие, оставив Наташу вдвоем с Зориным, испытывая горькое наслаждение в унижении самого себя. Казалось, что Наташа не любит его, и увлекается красивым, изящным петербургским фатом, у которого такие светские манеры, такое уменье быть приятным собеседником, обаятельное даже для него, Валерьяна. Ну, что толку, что он известный художник, что любил Наташу столько лет и думал, что любим ею?
Валерьяну давно уже что-то казалось ненастоящим отношениях Наташи к нему. Была какая-то преграда, какое-то расстояние между ними. Она словно очертила себя волшебным кругом, за который он не мог переступить. У них не было страстных ласк, жгучих поцелуев, кипение крови. Наташе казались неведомыми чувственные волнения тела. Она всегда была тиха и спокойна, Неизменно обращалась на «вы». Как-то не было возможности приблизиться к ней. Валерьян любил ее пламенно, но никогда не встречал ответного огня, не встречал и сопротивления. Она, как жертва, согласилась быть его женой, не испытывая к нему влечения. Похоже было, что за него идут замуж по расчету, без любви. Но какой же тут расчет, когда он бедняк в сравнении с ее отцом? Да и способна ли Наташа к каким бы то ни было расчетам? Конечно, нет! А между тем Валерьян все яснее чувствовал, что Наташа добровольно отдает ему свою жизнь без настоящей любви, о которой, быть может, еще и понятия не имеет, сама не сознавая, что делает. Но вот случайно, когда она уже объявлена невестой, подвернулся другой, более подходящий для нее, и ее сразу к нему потянуло.
Валерьян чувствовал несомненную непрочность своего жениховского положения; почти назначенная свадьба легко могла разладиться. Изящный доктор Зорин, если только захочет, сегодня же может занять его место, да и сам он, Валерьян, пойдет этому навстречу. Чувствовал себя как бы на краю пропасти, и этой пропастью казалась ему женитьба на девушке, которую он безрассудно любил. Слепым, бессознательным, но бессознательным чутьем чувствовал, что в его любви не хватает искренней взаимности, что во всем этом скрыта от него какая-то тайна, угрожающая непоправимой белой.
По окончании действия он тотчас же ушел в фойе, избе! а я встречи с невестой. Но его разыскал Зорин.
— Наталия Силовна домой собирается и вас ищет, - сказал он очень серьезно. — Ей нездоровится!
— Опять голова? — мрачно спросил Валерьян.
— Говорит, что глазам больно.
—- У нее прекрасные глаза, — с прежней мрачностью возразил художник.
Зорин помолчал озабоченно, потом сказал докторским тоном:
— Да. А глаза... Редкий случай в медицине... Ей бы всю нервную систему надо переменить. Впрочем, пойдемте скорее, она ждет!
Валерьян не понял, всерьез или в шутку сказал доктор о глазах Наташи, но разговаривать было некогда. Они шли в густой толпе к выходу.
Наташа стояла уже одетой в давно знакомой коричневой шубке. Великолепные глаза ее были прекраснее, чем всегда, — выражением глубины, печали и обреченности. При взгляде на нее сердце Валерьяна облилось кровью от жалости.
— Проводите меня! — тихо сказала она. — Мне опять нездоровится.
— Ну, а я останусь до конца, — заявил доктор. — Вы просто утомились. Поезжайте, лягте в постель — и все пройдет!
Зорин вернулся обратно, но задержался на лестнице, улыбаясь и кивая им обоим. Когда они скрылись за дверью подъезда, доктор вздохнул, и красивое лицо его примяло озабоченное выражение.
Валерьян и Наташа ехали на извозчике молча. Ночь была морозная, дула метель.
У подъезда квартиры он помог невесте вылезть из саней, позвонил и сказал, протягивая руку:
— Прощайте!
— Разве не зайдете?
— Нет, поздно. Вам нужно поскорее лечь!
Когда дверь открылась, художник сел в сани, а Наташа медленно вошла в прихожую.
В столовой за самоваром сидела Варвара, Наташа почти упала на турецкий диван и лежала молча, с закрытыми глазами.
— А где жених?.. Налить тебе чаю? Есть хочешь?
Варвара говорила беспечным тоном, но украдкой наблюдала сестру.
— Поехал домой. Нездоровится мне. — Наташа сжала голову обеими руками. — Ну зачем ты научила меня разыгрывать эту комедию? На нем лица нет!
- Ничего, — иронически возразила Варвара, — пройдет! Не умрет!
— А я — как закрою глаза, так и вижу его! — Наташа, откинув голову, бормотала с закрытыми глазами. — Вот он сейчас приехал, ходит по комнате. Я будто вижу его отсюда. Ах, как тяжело мне, Варя! Он может покончить с собой!
— Пустяки! — беспечно возразила Варвара. — Тебе с лимоном?
Наташа не отвечала. Вдруг она вскочила, выбежала из столовой, накинула шубу и шапку,
— Куда ты, что с тобой? — удивилась Варвара.
— К нему!
— Полно, глупости!
Наташа не ответила сестре, вырвалась из ее цепких рук и скрылась за дверью.
Как безумная, понеслась она на первом попавшемся извозчике, сказавши ему адрес художника.
Квартира Валерьяна состояла из большой мастерской, заставленной картинами, фигурами из гипса, и маленькой комнаты при ней.
Наташа толкнула дверь. Дверь оказалась незапертой.
Валерьян при слабом свете электрической лампочки стоял среди комнаты без блузы, в разорванной нижней рубашке, с исцарапанной до крови грудью. Лицо его было безумно.
— Наташа?! — прошептал он дрожащими губами. И вдруг, бросившись к ней, упал на колени, обнимая ее расстегнутую шубу. — Наташа! — рыдал он. — Наташа! я умереть хотел...
Она тоже встала на колени и, не снимая шубы, с материнским состраданием прижала его голову к своей груди, молча гладила его всклокоченные волосы, а слезы вдруг волной хлынули из ее синих глаз.
Могучий рев Иматры послышался тотчас же, как только поезд остановился в темный, почти беззвездный зимний вечер на маленькой, тихой станции около водопада.
Валерьян и Наташа в числе немногих пассажиров вышли из вагона и с величайшим любопытством озирались кругом
На перроне слышался непонятный говор. Толпились финны в меховых куртках и шапках с наушниками, с большими висящими трубками в зубах. За фонарями станции в густой тьме горели тусклые огни поселка. Доносился ровный, густой шум водопада. В небе мерцали редкие звезды. Искрился чистый морозный снег. Все окружающее казалось необычным, странным, как сон, обещающий что-то новое, заманчивое.
Сели в высокие санки сбритым, скуластым финном па козлах и велели ехать в «Каскад», не зная, далеко это или близко.
Неказистая с виду, понурая лошаденка побежала неожиданно быстрою рысью. Грохот водопада становился яснее, проехали через мост над самой Иматрой. Он весь дрожал, а в морозной водяной пыли смутно мелькали пенистые, яростно мчавшиеся и с гулом падавшие куда-то тяжелые волны.
Наташа с невольным испугом прижалась к плечу своего спутника, а художник еще долго провожал глазами мелькавший в полутьме водопад.
Ярко освещенный электричеством, невдалеке от моста, на крутом берегу стоял высокий белый замок средневекового стиля, с башнями и полукруглыми окнами.
Извозчик остановился перед освещенным широким подъездом; это и был отель «Каскад». В тепло натопленном вестибюле их встретили люди в ливрее, отвели небольшой красивый номер с двумя кроватями, обставленный с невиданным для них, нерусским комфортом. Оставшись вдвоем, парочка долго стояла у большого квадратного окна, выходившего на Иматру. Шум ее доносился глухо. При отблеске огней смутно мелькали, как живые существа, белые космы стремительно мчавшихся волн.
Вдруг по этим волнам с моста ударил широкий луч электрического света, потом сменился голубым, зеленым, оранжевым.
Разноцветные лучи освещали несущийся пенный поток, который бесновался в гранитных, покрытых снегом, крутых берегах.
- Что это такое? — спросила Наташа.
- Это освещают водопад рефлектором для удовольствия туристов.
- А вы не устали?
- Нет, я уже отдохнула, Надо же посмотреть, ведь красиво!
Надели шубы, , спустились вниз и по снежной гладкой дороге направились к мосту.
Валерьян чувствовал себя успокоенным. Наташа обращалась с ним доверчиво, с такой дружеской лаской, что, казалось, рассеялись его мучительные сомнения в ее любви.
Через неделю была назначена свадьба. И все же в их отношениях оставалось что-то странное, неясное. Казалось, что если бы Валерии вдруг раздумал жениться и заявил об этом, Наташа приняла бы такое заявление молча и покорно, не вымолвив ни слова. Казалось, что в ее молчаливой, скрытой душе не было человеческих paдостей и любила она не так, как любят обыкновенно женщины, а только сострадательно спускалась к его темной горячей любви из какого-то другого мира.
Они остановились на мосту у перил, с невольным ужасом глядя на Иматру во всей ее свирепой красоте. По другую сторону моста, между снежных берегов спокойно плыла черная небольшая река, а там, куда смотрели они, она с грохотом свергалась с невысокого, отвесного уступа и с потрясающим ревом неслась, вся кипящая и белая от пены, по заметному уклону все дальше вниз и как бы стремясь вырваться из гранитных берегов, покрытых до самых волн глубоким снегом. Под причудливым, ярким светом широкого дрожащего луча словно скакали черно-пегие бешеные кони с белыми косматыми гривами и ржали чудовищным ревом. Они мчались бесконечным неудержимым табуном, нагоняя друг на друга, теснясь, вздымаясь на дыбы и ныряя в черную бездну. Потом снова выскакивали, со звоном обрушивались друг на друга и, мелькая волнистыми гривами, уносились в черную ночную даль. Не было им конца.
Не утихала дикая энергия стремительного бега. Словно первобытная лава скачущих центавров беспорядочной и тесной ордой низвергалась откуда-то, мчалась неизвестно куда и зачем, с ревом, с криками, звоном и тяжким топотом черных копыт и от этого топота сотрясался мост, дрожала земля, а отдаленное эхо соснового бора повторяло смягченным гулом шум бушующего водопада.
Вдруг белые волны словно окрасились кровью и в новом освещении помчались вперед ярко-кровавой рекой.
Наташа тихо вскрикнула и отвернулась.
— Пойдемте! — одними губами, беззвучно прошептала она, потянув его за рукав.
За грохотом водопада Валерьян не слыхал ее слов, но по испуганным, расширенным глазам и невольному движению руки понял, что она подавлена впечатлением.
Они молча сошли с моста, возвращаясь обратно. Как раз в это время лучи рефлектора погасли, ревущая Иматра мгновенно погрузилась в черную тьму.
— Что означает слово «Иматра»? — помолчав, спросила Наташа.
— Мачеха. Или, кажется, — теща! — засмеялся Ва лерьян. — А по-моему — это сама жизнь!
— У меня голова закружилась.
— Действительно, шумная музыка! Все-таки она прекрасна в ярости своей.
Придя в свою комнату, они долго сидели перед пылающим камином. Наташа сидела, обхватив колени и смотря на угасающие угли. Ее глаза были неподвижно устремлены на огонь, и в них отражались красные точки углей, медленно покрывавшихся пеплом. Она как будто отсутствовала, не замечая подле себя Валерьяна.
Он не решался прерывать ее молчания, удивленный позой и чуждым, застывшим лицом. Любимая девушка была теперь еще более непонятной. Казалось диким, что через неделю она станет его женой.
— Наташа!.. — словно выдохнул он дрожащим тихим голосом
Она медленно повернула к нему лицо свое, которое казалось ему теперь особенно дорогим.
- Любите ли вы меня? Подумайте, спросите себя, пока не поздно. Через неделю наша свадьба, а между тем... - Голос его оборвался.
- Да, люблю, — просто ответила она.
- За то, что вы меня любите. Вы не обманете. Вы столько лет меня любили! Вы единственный человек, который любит меня! Больше я никем не любима. Как же мне?
Они, недоговорив, замолчала.
- А еще мне кажется, что вы по-детски любите, еще знаете любви, не пробудились для нее. Кто знает, меня , будете любить, когда любовь проснется? Ведь она, цветок, может расцвести — или завянуть. Я что-то предчувствую, от чего-то страдаю, что-то между не то, не так...
Наташа с удивлением взглянула на него.
- Наташа! — вскричал он, ринувшись к ней с жественным страданием в голосе и лице. — Откажитесь от меня! Я, должно быть, не стою любви.
Она, как и прежде, привлекла его голову к себе, с матринской нежностью покрывая его лоб и щеки мелкими маленькими поцелуйчиками, гладила его волосы.
- Валечка! Валечка! Ну, что вы мучаетесь? Из-за чего терзаетесь? Супруга у вас будет любящая, верная.
Эти наивные детские поцелуи яснее слов сказали Валерьяну, что Наташе неведома страсть, что она — или ребенок, или не oт мира сего.
Камин догорел и погас. В комнате было бы совсем темно, если бы в окно не светила взошедшая луна. При лунном свете лицо Наташи казалось призрачным.
Она ушла за разделявшую комнату на две половины плюшевую занавеску, где стояла ее кровать. Задернула за навес и легла в постель.
Валерьян долго не спал, тревожимый только что пережитой сценой, лунным светом и шумом водопада. Скоро он услышал ровное, спокойное дыхание заснувшей Наташи. Тяжелые, тревожные мысли не давали спать. Итак — свадьба решена. Он женится на обожаемой, горячо и давно любимой девушке, но не испытывает от этой мысли счастья. Какое-то необъяснимое, смутное предчувствие тяготило его. Чувствовал, что Наташа несчастна, но не мог понять — отчего. Наконец мысли его спутались, и он заснул.
Снился Валерьяну странный, грустный сон. Приснился знакомый, родной город на Волге, но город был полуразрушен войной. Слышался неумолкаемый гул пушечной канонады. Город брали штурмом. Валерьян бежал по улицам, отыскивая дом, в котором осталась Наташа: нужно спасти ее, вытащить, увезти из погибающего города. Он подходит к знакомому дому: двери и окна раскрыты настежь. Вбегает в обширные комнаты, но все они полны мертвых людей, лежащих один на другом. Увидал отца Наташи, братьев. Все были мертвы. Он ходил из комнаты в комнату, зная, что Наташа здесь, и наконец нашел ее: она лежала между скорченных трупов. Припал к ней, обнял, прижал к своей груди, приник устами к ее устам, она оживет, он это знает... «Проснись, Наташа, проснись же!» — кричит он и опять припадает к ней бесконечно долгим поцелуем: всю силу души, всю любовь, всю волю вкладывает он в этот поцелуй. Наташа открыла глаза и чуть слышно сказала: «Бегите отсюда! Война в этом городе, чума в этом доме!» Тут она снова упала, и голова ее бессильно повисла, как у мертвой птички. Пушки грохотали. Валерьян проснулся.
Шумела Иматра. В окно светила заря.
Валерьян сел на кровати, закурил папироску, нащупал ногами туфли, тихонько встал и подошел к окну. Сердце все еще бурно колотилось. Страшный сон стоял перед глазами. За занавеской слышалось тихое, ровное дыхание спящей. Валерьян долго смотрел на белый поток Иматры, уносившийся к далекому лесу. Сосновый бор стоял на горизонте, высокий с одного края и постепенно понижаясь к другому, похожий на гигантскую арфу с золотистыми соснами вместо струн. В лесу отдавался далеким аккордом гармоничный шум водопада.
Венчание было назначено в последнее воскресенье перед масленицей. Это событие совпало с получением Семовым высшей премии (поездка за границу) за его новую картину, выставленную на последней выставке в Перербурге.
Решено было, что молодые сейчас же после венчания отправятся в деревню, к родителям Наташи, а оттуда в свадебное путешествие.
- Поезайте в Италию, в Неаполь! — говорила Семову Варвара. — Пусть она ахнет, когда увидит такую красоту: лазурное море, Везувий! По крайней мере, впечатление на всю жизнь останется. Кстати, используете казеную заграничную поездку.
— Прокачусь и я с вами! — заявил Митя. — Доктора меня за границу посылают, да одному ехать - языка не знаю. А тут Наташа выручит: по-французски смыслит малую толику.
Свадьбу собирались отпраздновать интимно и скромно. После венчания, по желанию Наташи, заехать всей родней в фотографию, а оттуда в гостиницу, где их будет ждать свадебный ужин.
В это утро Валерьян ненадолго заехал повидать Наташу. В доме был обычный в таких случаях беспорядок: наряжали к венцу невесту. Наташа стояла перед трюмо в белом подвенечном платье, портниха ползала у ее ног на коленях. Приехавшие к свадьбе Елена и Варвара собирали белыми цветами ее густые каштановые волосы.
В жизни Наташи совершалось событие, возлагавшее на Валерьяна серьезную ответственность: от него зависело сделать ее счастливой или несчастливой. Казалось, были все условия для счастливого брака: взаимная любовь, молодость, здоровье, красота, богатство и даже слава.
Чего же желать, за что опасаться? Молодой, талантливый художник в зените успеха женится на богатой красавице по любви!
А между тем при взгляде на торжественные приготовления сердце Валерьяна невольно сжималось от безотчетного чувства жалости и страха. Было страшно, что ему с такой трогательной доверчивостью вверяется чужая жизнь. Свою любовь он считал исключительной, а союз с Наташей роковым и неразрывным на всю жизнь. Жребий брошен, выбор сделан, впереди новая, еще не изведанная жизнь вдвоем. От прежних увлечений в душе остался горький осадок, Счастья взаимной любви не испытывал он прежде; будет ли теперь оно это счастье, или судьба готовит ему новую и уже окончательную западню?
Он молча стоял у двери и пытливыми глазами смотрел на свою невесту. Заметив его взгляд, она ответила ему грациозной, шутливо-капризной гримаской.
Вмешалась Варвара.
— Ну, не надоедайте ей и не мешайте нам! Все ли готово у вас?
— Осталось только заехать к моему посажёному отцу.
— Вот и поезжайте! По правилу вы все должны быть в церкви раньше невесты.
Валерьян поехал к старику-художнику, своему учителю, у которого еще до сих пор висели его первые, юношеские работы. Старик жил один, давно разошедшись с женой и взрослыми детьми.
Застал у него знакомую «даму из общества», очень красивую. Старый учитель, весь седой, с длинной, густой гривой до плеч и живыми, насмешливыми глазами, встретил его весело.
— Ну, вот и жених! За мной?
— Да! Напомнить. Поедемте вместе в церковь.
— Неужели вы женитесь? — игриво спросила дама.
— Женюсь! — вскричал Валерьян, хватаясь за голову и бегая по комнате. — И радостно, и страшно!
— Конечно, страшно, — согласился старик. — И грустно: женитьба — это похороны таланта! Еду сего дня хоронить талант моего молодого друга.
- Не говорите так! Вы — известный мизантроп, смеясь, возразила дама. — Не слушайте его! Женитесь, и если жена будет любить вас, вы дадите нам еще лучшие творения. Вспомните Рафаэля, который написал свою Мадонну с собственной жены!.. Ваша невеста красива?
— Очень.
— Поздравляю вас! Кстати, в такой радостный для вас день позвольте обратиться к вам с маленькой просьбой: пожертвуйте благотворительному базару какую- нибудь вашу вещицу!
Валерьян снял со стены небольшой этюд — свою старую, юношескую работу.
— Хотите?
— Буду благодарна, я в восторге! — залепетала дама, протягивая руки к картине.
Но художник спрятал ее за спину.
— Только не даром, но и не за деньги, зa что же?
— За ваш поцелуй. Сейчас же, сию минуту — и картина ваша!
Дама смутилась. Старик засмеялся.
- Это мне нравится. Покупайте! Картина стоит того. Это его последний свободный поцелуй. Через два часа он будет раб, умрет для свободы, погибнет для искусства.
- Но если мой муж узнает, он убьет меня!
- Как хотите. Тогда я не дам картины.
— Ну, была — не была! Целуйте, только давайте картину!
Валерьян, смеясь, протянул ей рисунок. Дама, взявшись одной рукой за картину, подставила губы, сидя в кресле, но в момент поцелуя быстро повернула голову, и художник еле успел коснуться губами ее губ.
— Это обман! Вы дали ненастоящий поцелуй!
— Но ведь картина маленькая. Довольно с вас! Ох, уж эти мужчины! В день свадьбы продал картину за поцелуй!
— Прекрасно! — смеялся старый художник. — Я понимаю такое настроение — перед прыжком в неизвестное, которое почти всегда оказывается печальным.
— Ах, господа, поймите хоть вы меня, потому что я сам себя не понимаю! Я женюсь, люблю и любим, и все-таки чувствую себя так, как будто с колокольни прыгнул и падаю вниз головой.
Валерьян говорил это шутливым тоном, но было заметно его тревожное, взбудораженное настроение, толкавшее его на странные, эксцентричные выходки.
В два часа он вместе с посажёным отцом приехал в церковь. Компания друзей и братья Наташи в парадных костюмах встретили их у входа.
На клиросе стоял хор. Подошел дьякон в облачении и басом предложил Валерьяну расписаться в книге. Друзья окружили жениха и, отпуская остроты, встали кучкой около колонны. Как всегда в таких случаях, от- куда-то набралась толпа любопытных.
В широко раскрытые двери храма входила Наташа с открытой головой, в белом платье и белых цветах. Ее сопровождали Варвара и Елена. Начался обряд...
Опомнились молодые супруги уже в закрытой шестиместной карете, в которую битком набилась веселая, смешливая компания. Шумели, галдели, острили,..
Весело мелькали пушистые снежинки. Зимний петербургский день уже смеркался. На улицах и в гостинице горели огни. Вся компания вошла в приготовленный отдельный кабинет из двух смежных комнат, с пианино в одной и накрытым столом в другой.
Все чувствовали себя отлично, даже посажёный отец, сидевший рядом с молодыми, не порицал более женитьбу художника.
Разглагольствовал известный трагик, оказавшийся самым веселым из всей компании. Композитор сел за пианино и с необыкновенным искусством заиграл бравурную арию.
— А ну-ка, сколько нас за столом? не тринадцать, надеюсь? — балагурил веселый трагик.
Вдруг в первую комнату, где играл пианист, вошел новый гость; это был доктор Зорин, которого Валерьян не звал на свадьбу, но позвала Варвара.
Появление доктора напомнило Валерьяну сцену в театре.
Поздно ночью разъехались по домам. Наташа уехала с сестрой, а Валерьян в свою холостую квартиру, как будто была не свадьба его, а прощальная пирушка с друзьями. Странная печаль охватила его, и не верилось, что он женился.
В его одинокой мастерской все оставалось по-прежнему: неоконченные эскизы и гипсовые фигуры мудрецов и богинь встретили своего творца и друга молчаливой знакомой толпой и, казалось, смотрели иронически...
III
Вечером н последний день масленицы все окна в имении Силы Гордеича были ярко освещены. Утром только что приехали из Петербурга молодожены. Из города по этому случаю ожидались гости.
Настасья Васильевна разговаривала в столовой с Варварой.
- Я ведь. постылая дочь у отца, — криво усмехаясь, говорила Варвара. — Меня он наверно и в завещании наследства лишит.
— Ну, что написано в завещании, про то даже я не знаю, один Кронид посвящен. Да, небось, не останешься: не допущу я этого! Завещание он уже не один раз переделывал. Этого еще не доставало, чтобы после нас из-за наследства потасовка пошла?
— Жаль мне вас, мамаша. Всю-то жизнь вы мучаетесь! Замученный вы человек!
- Я исполняю свой долг. Вот хотя бы и Наташу взять: что от меня зависит — все сделаю для нее. Капитала при жизни отца она, конечно, не получит: будет получать проценты. Ну, а там уж как хотят, так и живут. Сама себе муженька выбирала, не на кого пенять. Чтобы с домом Черновых породниться, надо что-нибудь иметь за собой. Думала я, не состоится эта свадьба. Ведь им год дали на размышление, а они через месяц окрутились!
— Ничего не вышло, мамаша; были у них недоразумения, да от этого только скорее обвенчались.
— Сухота одна мне с вами! Теперь вот новое сватовство начинается. У Блиновых-то два миллиона считается, единственная дочь! То-то бы хорошо Митю пристроить!
— А как же Елена-то, мамаша?
Старуха жестко засмеялась.
— Не понимаю, о чем ты говоришь. У Блиновой два миллиона, а у Елены что? Да и родство близкое: двоюродные ведь!
У двора глухо зазвенели бубенчики. Варвара подняла голову.
Вошла горничная Катя, хорошенькая, румяная, в белом переднике.
— Ряженые приехали на тройке...
— Ну, это, вероятно, свои. — Старуха встала, голова ее чуть заметно тряслась. — Я пойду распорядиться, а ты встреть их. Да братьев предупреди!
Властно кинула Кате:
— Самовар готов?
— Готов.
— Приготовь чай в столовой да закуски подавай! Поживей вы там поворачивайтесь, сама на кухню приду!.. Ох, не люблю я с гостями возиться, да делать нечего, приходится! Шуму-то, небось, сколько будет! Скажи Косте, чтобы отца разбудили! Сам Блинов, наверное, приехал.
Настасья Васильевна вышла из комнаты.
В передней слышались голоса и смех приехавших гостей.
Варвара пошла в гостиную, где Митя и Костя играли в шахматы, Кронид в новом пиджаке и крахмальной рубашке ходил из угла в угол, заплетая свою веревочку а бледная Елена в пышной прическе и лиловом гладком платье грустно сидела на диване.
— Гости приехали! — заявила Варвара.
— Слышим, слышим, — отозвались игроки.
— Эх, маленько игру не докончили!
— Костя, пойди папашу разбуди, мамаша велела!
В гостиную вошли четверо. Приземистый, широкоплечий старик с длинной седой бородой, с волосами в скобку, в сюртуке и высоких сапогах — купец старинного типа; молодой человек в мешковатом костюме и сам мешковатый, с маленькими черными усами, остриженный ежиком — купчик Федор Мельников, давно вздыхавший по Елене. Об этом было известно в семье Черновых. Федор знал, что Елена имеет чувства к своему двоюродному брату, и поэтому бывал у них редко, только по делам, но теперь почему-то приехал с Блиновым. За ними вошли две девушки в маскарадных костюмах и масках. Одна была в дорогом наряде русской боярышни, в кокошнике и светло-голубом атласном сарафане, другая — в ярком цыганском костюме. В первой все сразу узнали дочь Блинова, но цыганку не могли угадать.
Варвара с деланной улыбкой поплыла навстречу гостям и оговорила громко, нараспев:
— Милости просим, гости дорогие! Не забыли нас в деревенской глуши. Хорошо ли доехали? Озябли, чай?
— Как на крыльях летели к вам, — возразил старик, зорко озирая комнату: — на тройке и двух часов не ехали, гладкая дорога!
Боярышня шутливо поклонилась по-старинному в пояс Варваре и Мите, мрачно стоявшему в своей черной студенческой рубашке, подпоясанной узким кавказским ремешком.
- Здравствуйте, молодые хозяева, приютите нас!
- Милости просим, боярышня!
- Здравствуй, хозяйка! — смело низким альтом сказала другая маска. — Угости цыганку, цыганка тебе поворожит!
- Что уж мне ворожить? Ворожи кавалерам молодым да холостым!
В дверях появился Костя, усмехаясь и кланяясь.
- Дорогие гости, очаровательные маски! милости просим в столовую, обогреться с дороги.
С шутливой развязностью он предложил мнимой цыганке руку. Митя неуклюже и серьезно взял под руку барышню, и все гуськом перешли в столовую, где уже на длинном столе самовар, стояли вина и закуски.
- Как здравствуете, Варвара Силовна? Дома ли поели-то ваши? — говорил, присаживаясь к столу, старый купец.
- Благодарю вас, дома все: ждали вас!
- Дома! дома! — раздался гремучий бас Силы Гордеича: он стоял в дверях и, улыбаясь характерной мм него лисьей улыбкой, смотрел на гостей поверх очков.
Блинов подошел к нему, раскрывая объятия.
—Кого я вижу! — рычал Сила, троекратно целуясь приятелем. — Наконец-то!
— Здравствуй, здравствуй, Сила Гордеич, как здоров?
— Да все вашими молитвами, как шестами, подпираемся!
— А я гляжу тебя по всем комнатам: народу молодого много, только главного хозяина нету.
— Здесь я, не иголка, не пропаду! Ну вот, большое спасибо, что пожаловал! Чайку не угодно ли?
— Чайку можно и после. Пущай тут молодежь обзнакомится, а мы с тобой покалякаем покудова!
— И это можно. Пойдем-ка, друг!
Сила Гордеич увлек гостя в кабинет, плотно притворив двери за собой.
- Садись-ка, брат! Нам с тобой есть о чем поговорить!
— И то бы! — подтвердил гость, присаживаясь и приглаживая сивую длинную бороду. — Дело, сам знаешь, сурьезное. С тем и приехал, а то рази стал бы я с молодежью путаться? Другое время бы нашел.
— Дело важное! — согласился, садясь рядом, Сила. — Семь раз примерь, один раз отрежь! Что ж, потолкуем. Да не выпить ли водочки сначала?
— Успеем: разговор-то будет недолгий!
Купен погладил колени, вздохнул, помолчал и сказал, понижая голос:
— Уж я решил, Сила Гордеич!
Сила посмотрел на него пытливо, поверх очков.
— Значит, по рукам?
Блинов протянул ему короткую, толстую, поросшую седыми волосами руку.
— По рукам! У нас — товар, у вас — купец, как говорится.
Сила Гордеич молча и торжественно пожал протянутую руку.
— Ну и слава богу! Век мы с тобой друзьями были, не грех и породниться. В час добрый!
Оба встали.
— Дай бог!
Друзья обнялись, троекратно поцеловались, потом опять сели.
— Значит, принципиально вопрос можно считать решенным, — совсем другим, более спокойным тоном сказал Сила. — Остается деловая сторона. — Он крякнул, пожевал губами. — Могу сообщить, что Дмитрий получаем вот это имение!
— И мы не с пустыми руками дочь отдаем! — Гость тоже помолчал, сдвинув седые косматые брови, побарабанил пальцами. — Сто тысяч за ней... покудова,„ а там... Ведь одна она у нас! С собой в могилу денег все равно не возьмешь.
— Что верно, то верно. Конечно, оформим все это промежду себя.
— Само собой! В руки больших денег молодым людям давать не годится.
— Как можно? Ведь им еще жить хочется. Как раз и проживут! Я Дмитрию на имение документа выдавать не буду, а так — пускай живут.
Блинов искоса взглянул на Чернова.
— Гм! это самое лучшее. Вот именно, что им еще хочется. Я тоже капитала в руки не дам, а будет дочь, получать ежемесячно, что полагается...
Сила насторожился, посмотрел на друга из-под очков, помолчал. Собираясь не давать своим детям ничего кроме подачек по своему усмотрению, купцы смотрели друг друга, ибо на свадьбу детей смотрели как на коммерческую сделку, в которой оба держали ухо востро.
— Как вы, так и мы! — неопределенно ответил Сила и затем перешел в благодушный тон. — Ну-с, сватушка, с окончанием такого дела не грех бы и выпить, пожалуй. Хе-хе! большое дело порешили: два капитала, две фирмы соединили узами родства и дружбы. Такое будет дело — золотое дно, одно слово! Пойдем-ка спрыснем нареченных, да и в картишки. Чего время терять?
— Хе-хе, правильно! Теперь и я выпью.
Два свата встали и, тяжело шагая, вышли в столовую, крепко затворив кабинет за собой.
В это время из-за портьеры другой двери, соединявшей кабинет с зимним садом, неслышно выскользнула Елена.
Бледная, взволнованная, ломая пальцы белых тоник рук, она некоторое время смотрела вслед ушедшим, потом, как птица в западне, закружилась по комнате; она металась по ней, то подходя к дверям, то возвращаясь, и наконец, грустно поникнув, села на диван.
Безвольного Митю просватали за богатую невесту, не считаясь с его чувствами и чувствами Елены. Не такой человек Митя, чтобы бороться, да и она бессильна, Для отцов на первом плане — деньги, а детей засасывает, ломает и тянет вниз это денежное болото — золотое дно.
Ей хотелось плакать, рвать на себе волосы, разорвать шелковое платье, упасть на ковер и биться головой о пол.
Ну, что с того, что она с детства привыкла считать Митю своим женихом, что оба они любят друг друга, а близкое родство не считают помехой? Их воспитывали в имении, вдали от посторонних людей, которых они привыкли дичиться, а детская привязанность друг к другу естественно перешла в любовь. Кого еще, кроме нее, мог полюбить ипохондрик Митя, больной, страдающий заиканием и, как все люди с физическими недостатками, самолюбивый, мнительный, никогда ни с кем не имевший возможности сблизиться, кроме нее. Племянница миллионера, она росла в его доме сиротой-бесприданницей, людей, как и вся семья Силы, не видала в этой золотой клетке. О ком же ей было мечтать, кроме своего двоюродного брата, которого она привыкла любить и жалеть за его беспомощность и одиночество?
Бедный Митя, что он может поделать против железной воли отца-деспота? Уйти вместе с Еленой, обвенчаться без его согласия — немыслимо: отец тогда не даст ему ни копейки, а зарабатывать Митя неспособен. Неспособна и она: так их всех воспитали. Ужас положения детей Силы в том, что все они должны смотреть в отцовский карман. К борьбе за существование никто из них не годится. За стенами этого дома шумит неизвестная, страшная для них жизнь, в которой они тотчас же погибнут, как выброшенные в реку слепые котята. Митю насильно женят, за Костей охотятся невесты, но что же делать Елене? Не сидеть же до старости на чужой шее? Пожалуй, прикажут выйти замуж, за кого найдут нужным. Так уж лучше за Федора Мельникова: он сегодня неспроста приехал, учуял, чем пахнет. Что ж, теперь ей все равно: Федя — так Федя! Может, так оно и лучше будет: он давно любит ее, а за Федора, пожалуй, и дядя не прочь выдать племянницу, стало быть, даст и приданое какое-нибудь. Да и любила ли она по-настояшему Митю? Пожалуй, что прав был дядя рос ли вместе, привыкли, вот и вся любовь. Только жалела его всегда. А если жалела, то и теперь пожалеет не уходить же ему от отца из-за нее на нужду и погибель, когда ему дают жену покрасивее, да еще с миллионами!
В столовой задвигали стульями, слышно, как все пошли все в гостиную.
Вдруг в кабинет вошел Федя Мельников и остановился, притворяя за собою дверь.
— Елена Ивановна, вы здесь? Что с вами?
Елена улыбнулась.
- Ничего особенного.
- Как ничего? — Федор подошел, сел на диван лицом к Елене на почтительном от нее расстоянии. — вы сегодня задумчивые: сидите одни и к гостям не идете. Не рады, что ль?
- Что вы, Федя! Я всегда рада вас видеть. А гости не ко мне приехали, я и сама-то здесь чужая.
— Вот тебе и раз! — Федор рассмеялся тонким смешком. — Почему чужая? и как это не ваши гости? Что касается меня, то ведь вы знаете из-за кого сюда езжу!
Елена потупилась.
- Нет, не знаю.
- Знаете, да только никакого внимания не обращаете. Все смеетесь, а мне не до смеху!
Федор вздохнул.
— Я не смеюсь, — серьезно сказала Елена.
— Эх, Елена Ивановна, простой я человек, необразованный, пренебрегаете вы мной! И о чувствах моих,— Федя ударил себя в грудь, — конечно, знаете, только никогда мне прямо не говорите, всегда уклоняетесь. Измучился я! — Большие мужицкие руки Федора дрожали, голос оборвался. — Сейчас у меня такое на душе: ибо пан, либо пропал! Не могу больше, скажите мне прямо!.. — Он слегка придвинулся к Елене.
— Что вам сказать?
— Ну, скажите, чтобы я отвязался, исчез!
— Что вы, Федя!
— Измучился! Жизнь не мила! Провалиться мне, что ли, куда-нибудь? Елена Ивановна! я и ехать-то сюда не хотел, но пущай уж один конец! Все равно мне! Не мастер я говорить, но за вас, Елена Ивановна, жизнь отдам: то есть, ежели она вам нужна на что-нибудь — возьмите!
Елена молча смотрела на него глубоким, говорящим взглядом. Она не была красива, но большие серые, выразительные глаза в этот момент были прекрасны.
— Я согласна, Федя, — тихо сказала она.
Федор вскочил.
— Как?! Что?! — закричал он радостно. — Елена Ивановна! Господи! вы что-то сказали, или я с ума сошел?
— Я согласна быть вашей женой, внятно и раздельно, с застывшим лицом сказала Елена. — Так и передайте дяде!
Вскочила, быстро прошла через кабинет в столовую, оставив дверь открытой.
Федор стоял с разинутым ртом и растопыренными руками: у него словно отнялся язык. Кинулся за ней, но ее платье уже мелькало по лестнице наверх.
Из гостиной доносилось пение Варвары:
Гайда, тройка! Снег пушистый, Ночь морозная кругом!..
— Елена Ивановна! — жалобно взывал на лестнице тонкий, срывающийся голос Федора, заглушаемый музыкой и пением Варвары....
Из гостиной молодежь перекочевала в обширную комнату зимнего сада. Доносились молодые голоса, пение и взрывы смеха.
В гостиной остались только старики.
Горничная Катя раздвинула ломберный стол, крытый зеленым сукном, положила нераспечатанную колоду карт, приготовляла мелки.
— Ну, карты на столе, пора и за дело! Э-хе-хе!
Блинов благодушно улыбался.
— А что ж время терять? В преферансик, что ли, по маленькой?
— Я только и умею, что в преферанс, — вздыхала Настасья Васильевна.
— И я тоже эту игру предпочитаю. Игра умственная, головным шарикам упражнение, не то, что стуколка, не дай бог азартная игра! А преферанс игра благородная, знай шарики работают! — Блинов постучал себя по лбу.
Знаем мы эти шарики, — возразил Сила. — В прошлый раз разъехались перед заседанием на часок, а просидели до утра, заседание отменили, лошадей отослали насилу через сутки жены по домам развезли!
Всяко бывает. По совести говоря, я бы тыщу рублев дал ворожее, чтобы от карт отворотило, но не могу отстать. Тянет, хоть ты что!
— Азартные вы оба, а я этого вашего азарту совсем не понимаю: сыграю игру-две, и скучно станет. Только тогда и играю, когда гости соберутся.
— Какая ты картежница! — с пренебрежением возразил Сила. – Что с тобой играть, что с болваном — все видно. Астрономия у тебя в голове-то.
Настасья Васильевна насупилась.
- Да, астрономия — страсть моя. Когда посмотришь в трубу на звезды — вся наша жизнь пустяками кажется.
- Ну, не все же на небо смотреть, Настасья Васильевна, иногда и до нас, грешных, с облаков спуститесь.
- Я и сама грешница. Небо-то высоко, до звезд далеко, готово, что ли? — спросила она Катю.
— А четвертого-то партнера и нету! — рычал Сила.— Где же Федор?
— Они с Еленой Ивановной наверх пошли, — ответи л а Катя.
— Подь, позови его!
Сила Гордеич, Блинов и Настасья Васильевна сели за карточный стол.
Из зимнего сада, смеясь и галдя, вернулась вся компания: Варвара, барышни, Митя, Костя и Кронид.
— Что же будем петь, господа?
— Тройку!
Все запели разрозненным, нестройным хором:
Гайда, тройка! Снег пушистый...
В дверях появился Федор с сияющим от счастливой улыбки лицом и заорал не в тон:
Ночь мор-роз-ная кругом!
Все засмеялись.
— Замолчи ты! — закричал Костя. — Песню расстроил! Медведь на ухо тебе наступил!
— Федор! — зычно, делая вид, что сердится, крикнул из-за стола Сила: — где ты там пропадаешь? Сидим, ждем его, как путного, а он...
— Сила Гордеич! — с беспричинной радостью раскрывая объятия и смеясь, с возбужденным видом отвечал Федор, подходя к столу: — вот я, здесь! «Не брани меня, родная!» Ха-ха! В ударе я нынче, вроде как без вина пьян, ей-богу! Счастливый нынче день у меня! Берегись, душа, потоп будет!
Он сел на свое место и, сделав широкий жест, заявил:
— Играю сегодня без проигрыша!
Сила Гордеич засмеялся, взглянув поверх очков:
— Ну, это еще бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет! Что-то уж больно весел ты. Не хватил ли за галстук? Сдавай-ка!
Блинов постучал себя по большому лысому лбу.
— Ну, шарики, работайте! Рра-бо-тай-те, шша-рри-ки!
Варвара заиграла вальс. Костя закружился с маской в цыганском костюме, Митя — с боярышней.
В длинные венецианские окна старинного дома смотрели ветки акаций, покрытых снегом, светила зимняя луна, освещавшая безмолвные снежные поля, печально уходившие в безграничную даль.
Блинов проигрывал, горячился, стучал себя по лбу костяшками пальцев и, замахиваясь картой, прежде чем бросить ее, кричал о шариках.
Везло Мельникову: на игорном столе уже лежало перед ним с пригоршню мелкого серебра.
Сила смеялся.
— Везет ему сегодня, как незаконнорожденному!
— Значит, в любви не везет, — шутила Настасья Васильевна.
— Не могу и этого сказать. Когда человеку везет, то уже везет во всем!
— Ой ли?
— Да уж верно!
— Ну, дай бог нашему теляти волка поймати!
— Я сам норовлю, как бы у чужого дяди овечку сманить.
— Ты, я вижу, молодец, да только на овец, а на доброго молодца сам овца! Hv-ка, сдавай, нечего зубы заговаривать!
- »х, шарики, р-работайте! — волновался Блинов, держа карты веером.
Молодежь все время танцевала. Костюмированные гостьи не снимали масок. Костя танцевал с цыганкой.
В перерыве ганцев она сказала, обмахиваясь веером:
— Жарко здесь. Пойдем в сад!
Комната зимнего сада, заставленная широкими пальмами, магнолиями и другими растениями, сверху освещалась матовым шаром, дававшим иллюзию лунного света.
- Очаровательная цыганка, не пора ли снять маску? — насмешливо спросил молодой человек.
- Ах, нет! Ни за что! — играя веером, жеманно смеялась маска.
Сними, ведь жарко!
Нет, нет!
— Но почему же?
— Который из вас Дмитрий?
- Ах, ты не знаешь даже, который из нас Дмитрий? Я Дмитрий! Я разговаривал с тобою раз пять по телефону.
Маска звонко засмеялась.
— Почему ты знаешь, что именно со мной разговаривал?
— Да по голосу! Твой чудный голос звучит в моем сердце.
— Ах, какой! — кокетливо воскликнула маска.
Костя был очень красив с раскрасневшимся-, смуглым лицом, с черными густыми волосами и маленьким» усиками.
— Ну, что же я тебе говорила?
— Гм! Да ведь мы много с тобой рассуждали, много раз! Почти что любовь закрутили.
— Ах, ха-ха! Ах ты, купчик-голубчик! Вот какой ты хорошенький! Ты теперь лучше говоришь, по телефону все заикался!
— Пустяки! Это телефон у нас такой, заикающийся. Сними же маску! Ведь ты обещала мне приехать на пот вечер с тем, чтобы открыть свое имя.
— Ой, страшно! Снять-то я сниму, только не сейчас. Я пить хочу. Угости лимонадом!
— Пожалуйста! Только для этого лучше в столовую пойти.
— Идем!
Едва они вышли, как из гостиной явилась и села на ту же скамейку новая пара: Митя с другой маской.
— Ну, угадайте! — кокетничала боярышня.
— Угадать не трудно, — заикаясь, ответил Митя. — Вы Аня Блинова!
Блинова сняла маску. У нее оказалось хорошенькое, миловидное личико с мягкими чертами и серыми глазами.
— Мы с вами знакомы немножко, — дружеским гоном сказала она.
— Да! встречались когда-то. Я вас по голосу сразу узнал.
— А вот цыганку эту ни за что не узнаете.
— Потому что, вероятно, и совсем ее не знаю.
— Нет, вы разговаривали с ней по телефону. Мне все известно.
Митя покраснел.
— Ах, вон что! Действительно, меня за последнее время интриговала по телефону какая-то незнакомка. Так это она?
— Она.
— Странно: интриговала меня, а ухаживает за моим братом!
Анна расхохоталась.
— Я думаю, что она перепутала: никогда не видала ни вас, ни вашего брата.
— Тем лучше.
— Почему?
— Потому что я другую люблю.
— Разве? — смущенно спросила девушка.
— Между прочим, кто она, эта цыганка?
— Спросите ее сами. Могу только сказать, что она дворянка из небогатой семьи, ищет себе богатого жениха.
— Ах, мой бедный брат!
— Нет, он не бедный, он богатый жених. Как раз то, что ей нужно.
— Насколько я знаю, брат и не думает о женитьбе.
— Вот это всего опаснее, когда не думают. Тут-то и попадают в ловушку. А я бы хотела видеть ту, о которой вы думаете.
А вы думаете замуж выходить?
— Конечно. Выйти замуж — это значит освободиться от роди Кольского гнета. Ведь мои родители еще потяжелее ваших! Если бы мне сделал предложение один человек, который мне нравится... выйду с удовольствием.
— А кто он?
— Много будете знать — скоро состаритесь!
Из гостиной послышался дружный смех игроков.
— Ну, шша-ри-ки, рра-ботайте! Вы-ручай-те! — азартно кричал Блинов.
— Ваша карта бита! Хи-хи-хи! — тонким смехом длился Федор.
— Вот тебе и шарики! — рычал Сила.
— Идемте танцевать! — сказала Анна, вставая.
Наверху, при лампе с красным абажуром, в ярко
освещенной комнате художник писал портрет своей жены. В уголке молча сидела Елена.
— Кто там приехал? — спросила Наташа.
— Блинов с дочерью, Федя Мельников да еще какая-то таинственная незнакомка. На Костю насела. Обе ряженые, в масках.
Вошел Кронид.
— Бросайте ваше дело, Валерьян Иваныч! Там староста пришел с мужиками и бабами: хотят вам хлеб - соль поднести. Да и гостям безусловно надо показаться. Неловко же! Поздравлять вас приехали, а вы тут словно как спрятались.
— Как мужики-то узнали? — удивилась Наташа.
— Не беспокойся, вся деревня знает, без телефона. Это, конечно, делается не для вас, а для дяди.
Валерьян поморщился, складывая кисти и палитру.
— Не люблю я помпы!
— Что вам? — ухмыльнулся Кронид. — Выйдите к ним, скажите речь! Гы-гы!
— Никаких речей! — отмахнулся художник.
— Непременно надо мужиков принять, — сказала Наташа.
— Они в кухне ждут, я им сейчас скажу. Елена Ивановна, пойдемте и вы, — посмотрим.
Все четверо спустились вниз, в столовую. Кронид пошел на кухню и тотчас же вернулся. За ним, теснясь, вошло несколько мужиков, баб и девок. Впереди всех был степенный мужик средних лет в дубленом полушубке, с умным лицом. На деревянном резном блюде с вышитым полотенцем он держал серый хлеб с солью в деревянной солонке.
— Здравствуйте, дорогой наш гостюшка, Валерьян Иваныч! — певуче заговорил он, низко кланяясь. — Дозвольте нам, крестьянам здешней деревни, поздравить вас с приездом! Не обессудьте на нас! Хлебом живем, хлебом и подносим!
Мужик передал блюдо Валерьяну и еще раз низко поклонился.
а5
Художник взял хлеб и покраснел, не зная, что делать.
— Благодарю вас! — пробормотал он.
— С приездом поздравляем! С приездом! хором закричали остальные, улыбаясь и кивая головами.
Кронид взял у Семова хлеб, поставил на стол, вынул из буфета большой графин с, водкой, штоф с наливкой, закуску и орехи на тарелке.
— Поздравляем и вас, Наталья Силовна, с приездом в родительское гнездо, — продолжал мужик, обращаясь к Наташе. — Дай бог вам счастья и всего лучшего!
Кронид налил чайный стакан водки и поднес ему, держа наготове закуску. Староста выпил единым духом, крякнул, возвратил стакан и сказал, кланяясь на обе стороны:
— Покорно благодарим на угощении! Валерьян Иваныч! Наталья Силовна! будьте здоровы!
Кронид стал обносить водкой, наливками и орехами всех остальных.
Валерьян, Наташа и Елена вошли в гостиную, Игроки все еще сидели за картами. Молодежь, собравшись в кружок, чему-то смеялась. Цыганка оказалась уже без маски.
— Вот, позвольте представить! — сказал Сила Блинову. — Мой зять!
Блинов встал и торжественно пожал руку Валерьяну.
- Очень рад познакомиться! Поздравляю вас и Наталью Силовну! Значит, все мы теперь породнились.
- Именно все, — подтвердил Федор. — Елена Ивановна, пожалуйте сюда!
Елена подошла.
- Сила Гордеич! — с внезапным волнением продолжал Мельников, вставая: — я прошу руки вашей племянницы Елены!
Митя вскочил с места.
— Елена! пробормотал он побелевшими губами.
— Что ж, дело доброе, — благодушно ответил Сила, не замечая волнения Мити. — Я давно ждал. Елена, я надеюсь, ты уже дала свое согласие?
— Да, — опуская глаза, тихо прошептала она.
Ужас отобразился на помертвевшем лице Мити.
Елена быстро пошла к двери, но он нагнал ее, загородив. Губы его дрожали.
- Митя, не волнуйся! — звенящим голосом сказала Елена. — Все кончено! Так будет для всех нас лучше, милый мой.
Слезы текли по ее щекам.
Сила большими шагами подошел к сыну, крепко взял за руку, стиснул ее, как в железных тисках, зарокотал низким гулом:
— Дмитрий, не срами отца! Все уже решено и подписано.
Митя отшатнулся, вырывая руку.
— Папа, что вы делаете со мной?
Отец повелительно сдвинул седые брови.
— Молчи! После! Ты слышал, что сказала Елена?
Митя вырвался и, шатаясь, ринулся в дверь, больно ударившись плечом о косяк.
Елена выбежала в столовую, где Кронид все еще угощал мужиков и баб. Вслед за ней вышел сияющий Федор, выгреб из кармана полную горсть мелкого серебра, широко размахнулся и бросил в толпу.
IV
IV
Поезд двигался к западу. Из окна вагона виднелись поля с быстро таявшим снегом, журчавшими снеговыми ручейками под теплыми лучами пригревавшего солнца. Конечной целью путешествия был Неаполь.
В Венеции они задержались на неделю. И хотя была холодная, хмурая погода, несколько портившая впечатление от этого фантастического города с каналами вместо улиц, тем не менее строгие старые дворцы и знаменитый дворец дожей произвели на них сильное впечатление.
Валерьян рассказывал Наташе и Мите историю замечательных картин Микеланджело и Леонардо. Он готов был остаться на целый месяц в этом удивительном городе, стоявшем на лоне моря, как великолепный памятник давно умершей жизни, но Наташа, с интересом слушавшая рассказы художника, плохо понимала достоинства потемневших картин. Ее больше радовали голуби на площади святого Марка и черные, легкие гондолы, скользившие по неподвижной глади Гранд-канала, с гондольерами в оригинальных костюмах, правившими гондолой стоя, одним веслом. Венеция была малолюдна, пустынна, тиха и почти безжизненна. Когда же проехались в гондоле по второстепенным, узким и грязным каналам, то увидали бедные кварталы Венеции, ее задворки с развешанным для просушки бельем и жизнь венецианской бедноты. Не верилось, что это и есть знаменитая Венеция, о которой до сих пор приходилось только читать и слышать. А тут еще холодная погода с облачным, серым, совсем не итальянским небом. Через несколько дней мокрая, сырая Венеция с ее облезлыми, почерневшими от времени, мрачными и, казалось, необитаемыми дворцами наскучила путешественникам, и они поехали дальше.
Но как же было проехать мимо Рима, «вечного города», о котором было столько читано и слыхано, не посмотреть Ватикан, собор святого Петра и, может быть, римского папу?
Рим оказался современным европейские городом, шумным, людным, но не таким уж громадным, каким, по описаниям, был он в древние времена. Тибр — не широкая, довольно обыкновенная река: куда ему до матушки-Волги.
Между узких улиц с заурядными современными домами, где по тротуарам бежала самая обыкновенная городская толпа, случайно увидели полуразвалившиеся колонны древнего римского Форума, но, задавленный стенами высоких домов, с кипевшей кругом современной уличной жизнью, Форум показался маленьким и жалким, чем-то лишним и мешающим. Бежавшие кругом люди не обращали на него никакого внимания. Видели развалины Колизея. Правда, это и теперь нечто громадное, но до такой степени разрушенное, грозившее обратиться в колоссальную груду мусора, что нужно иметь большое воображение, чтобы представить себе былую роскошь этого знаменитого здания во времена цезарей и Нерона. Человек, не знающий истории Рима, вероятно, посмотрел бы на Колизей довольно равнодушно и даже, пожалуй, с неудовольствием, как на неубранный мусор или труп, лишенный погребения. Развалины великого прошлого скорее вносили дисгармонию в звучавшую кругом новую, живую жизнь, и нужно было
быть антикваром, историком или художником, как Валерьян, чтобы подолгу стоять перед этой картиной смерти и разрушения, воображая на ее месте давно ушедшую жизнь.
Видели Аппиеву дорогу, выстланную большими каменными плитами, между которыми, как символ неистребимости жизни, пробивалась зеленеющая травка. Подивились прочности этого сооружения, уцелевшего на продолжении тысячелетий и никому теперь не нужного. Побывали за городом, в катакомбах первых христиан. Впечатление осталось такое кладбищенское, что поскорее вернулись в город. Зато отдохнули душой в залах Ватикана и соборе Петра. Перед картиной страшного суда Микеланджело долго стояли, пораженные титанической силой, которой все еще дышало неувядающее творение гениального таланта. В соборе приковала внимание могучая статуя Моисея, металлический монумент Петра с мизинцем ноги, стертым поцелуями верующих. Да и самый храм — непревзойденное чудо зодчества — вместе с колоссальностью размеров оставил впечатление света, тепла, легкости благодаря изумительному устройству широкого, светлого купола.
Художник с увлечением рассказывал своим спутникам историю постройки собора гениальными людьми прошлого Италии, о статуе Моисея и печальной судьбе Микеланджело.
Слушая его, можно было подумать, что прежнюю Италию создавали и населяли титаны: какая история, какое искусство, какие были гении и герои!
Великое прошлое Италии до сих пор как бы заслоняет и подавляет Италию современную: полубожественный Леонардо и печальный Анджело остались жить в веках, но давно уже не имеют ни преемников, ни продолжателей.
По выходе из собора увидели громадную толпу, шумящую на площади, запрудившую собою прилегающие улицы и переулки. В толпе виднелись конные полицейские в касках с черными перьями: они наступали на толпу, но она свистала, смеялась, выла, бросала в них гнилыми фруктами.
Это была забастовка — обычное явление в обстановке «свободы», завоеванной рабочими европейских городов.
Подлинная, живая современная жизнь спугнула романтическое настроение туристов, и они уехали из Рима в этот же день.
В Неаполь приехали рано утром, когда еще город спал, а над морем всходило солнце.
Здесь было совсем тепло, как летом.
Остановились в мрачной старой гостинице на набережной Когда отдохнули, переоделись и напились кофе, позвали гида и решили в его сопровождении пройтись по городу.
У гида было ярко выраженное мошенническое лицо, заросшее синей щетиной. По-русски он говорил только два слова «все равно», которыми неизменно и невозмутимо отвечал на все вопросы, да и эти единственные слова звучали у него малопонятно: «соромоно». Тем не менее путники вручили ему свою судьбу, ибо не знали итальянского языка.
Вышли на набережную и, следуя за гидом, с любопытством смотрели по сторонам. Все в Неаполе показалось им удивительным. Море было такого же цвета, как и небо, а у берега походило на разведенную синьку. Оно тихо плескалось и сверкало, уходя в бесконечную даль, сливаясь там с таким же нежно-лазурным, безоблачным небом.
Город раскинулся амфитеатром по берегу полукруглого, как серп, Неаполитанского залива, а на одном конце серпа вдали стоял голубым шатром дымящийся Везувий.
С набережной видно было лодочную и пароходную пристань: множество лодок стояло у отлогого песчаного берега, дымил небольшой пароход.
Море чуть-чуть дышало, слабыми волнами набегая на мелкие камешки гравия, шуршало ими и плескало на лежавших около волн оборванных, загорелых людей — «лаццарони».
Гид повернул к пароходу, купил билеты и, не говоря ни слова, сделал своим хозяевам выразительный знак, чтобы они садились. Путники не успели опомниться, как неожиданно поплыли на пароходике к маленькому острову, который, как призрак, едва виднелся на горизонте. В утреннем тумане моря он казался прозрачным голубым кувшином, лежащим на лазурных волнах.
- Куда мы едем? — спросил гида художник.
- Соромоно! — весело ответил гид и, махнув рукой в сторону острова, добавил: — Капри!
На переполненной палубе, прикрытой от солнца брезентовой кровлей, для увеселения публики ехали уличные певцы и музыканты: гитара, скрипка и мандолина. Кругом парохода шумело и пенилось лазурное мре , а они играли, пели и представляли в липах какую-то веселую музыкальную сцену. «Ямпа! ямпа!» то и дело припевали они, раскачиваясь, ударяя в струны и слегка приплясывая. Трое музыкантов являлись оркестром и хором одновременно, а перед ними на палубе выступали два актера-певца в потертых, грязных костюмах: один в картузе с прямым козырьком, другой в фасном вязаном берете, свисавшем ему на плечо. Они изображали певучий комический диалог, причем тот, что был в берете, играл женскую роль. Он юлил выпяченным задом, строил рожи, иногда пел женским голосом и смешил публику. Его партнер — низенький, толстый баритон с ярко-красным, давно не бритым лицом — как бы возражал под звуки струнных инструментов, а тот, игравший, по-видимому, неверную жену, изгибался и комично врал. Наконец на последнюю, раскатистую ноту баритона он уже ничего не нашелся ответить и только в такт музыке вилял.
— Ямпа! ямпа! — с ужимками запел он женским голосом, а хор, терзая струны и делая свирепые лица, громко подхватил этот странный, бравурный припев.
Кругом звенели нежно-лазурные волны, пенились под винтом парохода. Неаполь был уже далеко позади, певцы, не умолкая, пели, а перед глазами, словно со дна моря, поднимался и вырастал скалистый высокий остров.
Часа через два пароход остановился в нескольких саженях от крутого берега, где туристов ожидала целая стая крохотных лодчонок; в каждой из них сидел гребец в матросской рубашке. Окружив пароход, лодочники подняли гвалт, — каждому хотелось поскорее получить пассажира. Лодки были так малы, что в них могло поместиться не больше двух или трех человек. Те, кто успел спуститься по трапу в лодку, ложились ничком на дно ее. Лодка подплывала близко к берегу, а затем исчезала в какой-то дыре, которой сначала никто было не заметил. Ее то и дело закрывало волнами: нужно было уметь проскочить в промежуток времени между приливом и отливом волны. В дыру, как пчела в улей, пролезла и исчезла сперва одна лодка, потом другая, третья, а остальные ждали их возвращения, качаясь на волнах. Лодки, как живые существа, то влезали в дыру, то вылезали.
Наконец дошла очередь и до молодоженов с их мрачным спутником. По примеру других они легли ничком, лодочник сильно ударил в весла, набежавшая волна толкнула лодку в корму, и в одно мгновение она проскочила куда-то. Когда они подняли головы, то увидели, что плывут по маленькому голубому озеру в высоком сталактитовом гроте. Вода в темноте светилась под веслами ярко-голубым фосфорическим светом, освещая сталактитовые своды и причудливые колонны, которые поддерживали этот маленький подземный коридор. Свет воды отражался на стенах и высоких сводах, и от этого они казались сделанными из яшмы или малахита. Путники осторожно заняли свои прежние места в лодке, медленно скользившей по голубому пламени воды. Гребец беззвучно погружал в нее свои весла, и с них, как алмазы, падали сверкающие искры.
Двое нагих, загорелых ребятишек купались между плавающих лодок, и тела их казались лиловыми в прозрачном, синем огне. Они плескались, как рыбы, и, выскакивая из воды, пронзительно кричали, протягивая к туристам сложенные ковшичком ладони:
— Синьоро! Лира, синьоро!
Они просили денег за свое купанье.
— Не правда ли, фантастичные краски? — сказал художник, бросая ребятишкам лиру, за которой они тотчас же нырнули.
— Словно детская сказка! — тихо воскликнула Наташа. — Гномы!
— Черти лиловые! — ухмыляясь в бороду, сказал Митя.
Лодочник повернул лодку обратно к едва заметной щели, в которую проникал дневной свет, и сделал знак, чтобы все легли.
Через момент яркий солнечный свет ослепил их; лазурное море, залитое солнцем, плескалось гибкой зыбью, покачивая пароход, терпеливо ожидавший возвращения туристов. Когда все они забрались на палубу, пароходишко хлопотливо побежал вдоль отвесного, высокого берега к маленькой уютной пристани. Толпа хлынула на берег и рассыпалась в разные стороны. У берега стояло несколько беленьких домиков; от них на высокую гору, зеленую от виноградников, спиралью поднималась шоссейная дорога, а на верху горы, на страшной высоте, белел крохотный, словно игрушечный, городок. Русские туристы не успели хорошенько осмотреться, как на них набросились обладатели оседланных ослов, давно уже с нетерпением ожидавшие туристов, как пауки в тенетах ожидают мух. Ослы имели чрезвычайно симпатичный, смиренный вид и были так заманчиво оседланы, что Наташа не выдержала искушения.
— Ах! какие ослики милые! Поедемте в город на ослах!
—- Непременно! — подтвердил художник. — Только вам, Наташа, я сам выберу самого смирного.
Он долго рассматривал ослов, и выбор его пал на серого ослика с белой отметиной на лбу, с таким кротким выражением агатовых глаз и нежно-розовых, словно бархатных, ноздрей, что Наташа принялась гладить осла, приговаривая:
— Ослик, миленький, добренький, не урони меня!
— Не осел, а просто хвостатый ангел, — шутил Митя, не изменяя мрачной мины.
— Да, у него такой вид, как будто его сейчас за добродетель возьмут живым на небо.
— Садитесь, Наташа! Уж я-то понимаю толк в ослах! — самоуверенно разглагольствовал Валерьян. — Это самый кроткий, самый умный, самый любимый мой осел. На других ослов не надеюсь, но на этого — как на каменную гору!
Длинному Мите пришлось так согнуть ноги, что, сидя на осле, он походил на большого кузнечика.
Поехали по каменистой дорожке в гору. Сзади каждого осла шел его хозяин и, держа осла за хвост, погонял его прутиком.
Ослу, на котором сидела Наташа, все это, по-видимому, давно уже надоело. Вероятно, он всю жизнь таскал на себе туристов, скрепя сердце позволяя хозяину тыкать себе палкой в хвост, но ослиное терпение лопнуло как раз в этот день и час, когда на осла посадили такую особу, которая никогда никому не внушала страха. Осел то и дело останавливался, не желая сдвинуться с места, а когда на него сыпались крики и удары его хозяина, он делал вид, что это не имеет к нему никакого отношения. Другие два осла, на которых ехали Валерьян и Митя, вели себя примерно, терпеливо и спокойно останавливались во время забастовок своего переднего товарища. Вдруг он начал брыкаться, скакать на одном месте, оборвал узду и упал на колени. Все это было им сделано злостно, с явной целью, чтобы наездница упала через его голову. Седло съехало на бок, и если бы хозяин осла вовремя не подхватил Наташу, она бы непременно упала. Валерьян и Митя соскочили с седел, в тревоге подбежали к Наташе.
— Ну, как хотите, а мы дальше не поедем! — сказала она, смущенно улыбаясь, и продолжала, обращаясь к ослу, который с прежним обманчивым смирением стоял на дороге, пока его хозяин поправлял съехавшее на бок седло: — А еще самый умный!
— Он чувствовал, кто на нем едет! — серьезно сказал брат.
— А я-то на него надеялся! — развел руками художник. — Вы не ушиблись, Наташа?
— Нет, только рассердилась!
Оно и видно! Я думаю, придется сделать остановку.
Все это случилось напротив «траттории», маленького придорожного трактирчика с открытой террасой на втором этаже, прямо над морем.
Расплатишись с погонщиками ослов, компания поднялась на тeppacy и разместилась за столом. Спросили вина и устриц. Мужчины, аппетитно покрякивая, глотали устриц, минная ароматным красным вином, но Наташа боялась даже таких безвредных созданий, как устрицы она со страхом смотрела, как муж и брат глотали их живьем, и морщилась вместо них.
— Отчаянные! — сказала она, всплеснув руками. — Закажите мне что-нибудь, только не этих ужасных ракушек!
Внизу под балконом раздались звуки струн, и кто-то пел: «Ямпа! ямпа!»
Эта проклятая «ямпа», неумолкаемо звучащая в воздухе Неаполя, всюду преследовала туристов.
Музыка и пение гармонировали здесь с безоблачным небом, ярким солнцем и лазурными волнами.
— О, мио каро! о, каро мио! — запел вдруг невидимый певец, ударяя в поющие, вибрирующие струны. Это был истинный голос итальянца: жгучий, металлический, сильный тенор. В нем было столько палящего южного солнца, он словно обжигал каждым звуком, проникал в грудь, разливаясь по жилам.
Наташа облокотилась на перила и с любопытством взглянула вниз, закинув голову кверху, с мандолиной в руках, играл и пел уличный певец. Он был высокий, в широкополой шляпе, смуглый, с небольшими черными усами. Пел и улыбался. Из-под черных усов сверкали белые ровные зубы, а голос распускался и благоухал, как цветок, обращенный лепестками к солнцу.
Солнце закатывалось. Спускался весенний, стланный, волшебный вечер на берегу Неаполитанского залива: голубой отблеск моря отражался в воздухе, и вечерний воздух казался густым голубым туманом. Фигуры людей, дома, камни, лодки и паруса над морем — все было голубое.
Вдали чуть виднелся Неаполь, освещенный вдоль берега двумя рядами брильянтовых огней, и сквозь голубую мглу было видно, как Везувий через каждую минуту показывал красный огненный язык темнеющему небу.
На самой вершине острова, словно ласточкино гнездо, прилепился крохотный беленький городок. Все в нем до смешного миниатюрно: узенькие, кривые уловки, которые можно обойти в десять минут, маленькая старая ратуша и вымощенная истертыми старыми плитами площадь не больше сцены Большого театра — все было как бы ненастоящее. От площади шла вниз отлогая тропинка, постепенно приводящая к берегу моря. Берег походил на застывшую ноздреватую морскую пену или на вычурное кружево, тонко вырезанное из камня. Этот как бы искусственно сделанный берег, с живописными скалами, арками, гротами и художественными очертаниями, казался одним сплошным изваянием. Лизали его ярко-голубые волны, прозрачные, блестящие, пронизанные теплым золотом солнечного света. Пряно и приторно становилось от кричащей яркости красок неба и моря, от роскошной вычурности и затейливости, театральной красивости всего окружающего.
Путешественники поселились в маленьком отельчике «Фаралион», стоявшем почти на вершине острова, при спуске вниз из городка. Хозяин отеля оказался немцем, а Наташа знала немецкий язык и в необходимых случаях объяснялась с ним за всех троих.
Они заняли наверху две комнаты с открытой верандой, откуда видны были весь остров и могучее море, голубым гигантским удавом свернувшееся вокруг.
По утрам художник работал на балконе: писал пейзаж, открывавшийся с высоты «Фаралиона».
На самом высоком месте острова, еще выше городка, над отвесным обрывом берега, видны были художественно-красивые развалины дворца императора Тиберия, когда-то жившего на Капри.
По вечерам, когда спадала жара, отправлялись гулять по острову, всякий раз в различном направлении, и наконец решили осмотреть вблизи живописные развалины.
Долго шли гуськом по каменистой тропинке, пока не подошли к ним близко. На высоте дул сильный теплый ветер. Приходилось придерживать шляпы рукой. На страшной, пустынной вершине, где ветер, должно быть, бушует вечно, печально стояли перед ними мрачные развалины, когда-то бывшие дворцом императора, увековечившего свое имя тем, что он был тираном и совершал преступления.
Ветер яростно выл и бился среди полуразрушенных, обвалившихся стен. В нескольких шагах над самым обрывом стояла католическая часовня с колоколом на столбе.
Валерьян подошел и дернул за веревку. Ветер на лету подхватил печальные медные звуки и унес их в море. Затем художник подошел к самому краю обрыва, отшатнулся назад и махнул рукой остальным, стоявшим в отдалении.
— Посмотрите, Наташа! — громко сказал он, крепко взяв ее под руку и заглушая вой ветра, свистевшего в ушах.
Под ногами их была бездна. Глубоко внизу синело море, так глубоко, что не доходил до слуха шум его, а морские волны казались мелкой рябью. Как мотыльки, летали внизу стаи белых птиц, а еще ниже белели паруса, и казались они меньше птичьих крыльев. Наташа побледнела и отшатнулась.
— Какой ужас! — прошептала она. — Пойдемте скорее назад! Тянет броситься в море!
— Больше не будем, — решил Валерьян. — Пойдемте, отдохнем на развалинах!
Сели на остатках фундамента за уцелевшей стеной, защищавшей от ветра.
Внутри была глубокая яма, засыпанная мусором и щебнем, с полуразрушенными сводами подвала. Площадь, занимаемая бывшим дворцом, была невелика, но, вероятно, большая часть его прежде состояла из террас, портиков и галерей на открытом воздухе.
— Когда-то была здесь роскошь, — со вздохом сказал Валерьян, раскрывая свой альбом и набрасывая рисунок, — происходили оргии, звенели арфы, плясали обнаженные красавицы, лилось вино... и кровь!
Когда они возвращались в городок, на площади обратили внимание на картинную фигуру итальянца в национальном рыбацком костюме: в полосатой фуфайке с открытой шеей и в красном вязаном берете, небрежно свешенном на плечо. Это был красавец с окладистой, черной бородой, чуть перевитой серебром седины. Скрестивши руки на груди, он держал в них четырех маленьких щенят. Шерсть на них была черная, с лоском, лапки и мордочки каштановые, и на каждом вместо ошейника — розовая ленточка. При виде столь умилительных щенят Наташа всплеснула руками. Итальянец заметил это и, показывая своих собак, начал что-то говорить. Не поняв у него ни слова, туристы все-таки догадались, что он предлагает купить их.
— Терьер! — многозначительно повторял он и показал, что у самого большого из них есть уже зубы.
— Ах, — сказала Наташа, — это очень редкая порода черных терьеров! Они очень умные, веселые и умеют ловить мышей.
— Шелли! — отозвался итальянец, поглаживая щенка.
— Шелли?— спросил Митя. — Как будто нехорошо звать собаку именем великого поэта?
— Это ничего! Ведь зовут же собак и лошадей именами героев.
— Кванто коста? — решительно спросил Валерьян.
Итальянец стал показывать на пальцах какую-то цифру: выходило не то двадцать пять, не то в пять раз более.
— Неужели сто двадцать пять лир за щенка? — удивился Митя. — Бросьте, да и куда возить вам с собою собаку?
— За такую породу и больше можно дать, — серьезно возразила Наташа.
— Но куда мы ее денем? Она свяжет нас! — раздумывал вслух художник.
— Повезем с собой в Россию, привезем в деревню и там подарим.
Видя, что Наташа очень хочет иметь итальянскую собаку, Валерьян вынул бумажку, в сто лир и подал итальянцу.
К общему удивлению, рыбак сдал сдачи семьдесят пять лир. Всем показалось, что покупка сделана очень дешево.
Наташа взяла щенка на руки и прижала его к своей груди. Всей компанией возвратились в отель.
Поставив собаку на пол, присели около нее на корточки. Щенок был так еще мал, что едва ползал на своих коротеньких лапках. Уши его были умело обрезаны и хвост обрублен около самого корня.
- Назовем его Шелькой! — шепотом сказала Наташа, счастливо улыбаясь.
Все согласились. Шелька ползал, тыкаясь носом, и наконец начал тонко скулить.
— Он просит есть. Дадим ему молока!
Шелька с жадностью набросился на еду, вылакал полное блюдечко молока и залез в посуду передними лапами. Ему дали еще, и он лакал до тех пор, пока не раздулся, как пузырь. Лапы его окончательно разъехались, он беспомощно лежал на брюхе и стонал поел, еды еще более жалобно, чем до еды.
— Бедный Шелька! — сидя над ним, вздыхала Наташа. — Обожрался, несчастный! Куда бы его положить?
Она обвела глазами комнату, и взор ее упал на широкополую шляпу художника.
— Он будет жить в вашей шляпе! — решила она,
— А как же я ее потом буду носить? Ведь он опоганит ее.
Наташа изумилась.
— Как?! такая собака? эта невинная зверушка?
Мужчины засмеялись и не стали возражать. Шляпа была положена на пол в углу комнаты, и в ней расположился Шелька. Скоро он перестал стонать и заснул.
— Не правда ли, — сказала Наташа шепотом, — как похож он теперь на спящего льва?
— Совершеннейший лев! — лицемерно подтвердил Валерьян.
Вошел хозяин гостиницы и объяснил по-немецки, что сегодня в городе праздник: ежегодно в этот день празднуется основание городка. Действительно, с утра было что-то вроде крестного хода вокруг всего города. На колокольне ратуши звонили в колокола, залпом стреляли из ружей холостыми выстрелами. Жители городка, разодетые по-праздничному, ничего не делая, толпились на крохотной площади. В узеньких, как щели, уличках распевали бродячие певцы.
Под балконом «Фаралиона» раздались гулкие звуки гитары, вторившие флейте. Что-то странное было в этой музыке: казалось, что играют пьяные, что пальцы музыкантов плохо повинуются им. Потом кто-то запел дрожащим, шатающимся голосом, и в песне упоминалось имя Гарибальди.
Хозяин, показывая рукой в сторону пения, объяснил, что это поют старые гарибальдийцы только раз в год, в этот день.
Внизу, под окнами, играли и пели два высоких старика с длинными, седыми бородами. То странное, что было в их игре и пении, что напоминало пьяных, происходило от старости: пальцы не могли уже проворно бегать по струнам и флейте, но вид этих стариков был очень почтенный, внушительный. Это были герои, сподвижники Гарибальди, борцы за Италию. Казалось, что когда-то они были красавцами, эти старые великаны, и должно быть прежде хорошо владели не только струнами, но и мечом. Гитара была огромная, старая, флейта — времен Гарибальди; редко за них брались старики своими дрожащими, старыми руками, но ради торжественного дня взяли свои инструменты и вышли к людям пропеть свою старую боевую песню о подвигах Гарибальди. Казалось, что старые голоса пели: «Празднуйте, веселитесь, люди: Италия едина! Но помните Гарибальди! Помните Гарибальди и нас, последних гарибальдийцев, сражавшихся за свободу!»
Вечером принесли письмо на имя Дмитрия. Оно было написано корявым почерком.
— От папы! — сказал Дмитрий, торопливо просматривая корявые строки.
Наташа с тревогой взглянула на брата: худые щеки Дмитрия то бледнели, то краснели по мере чтения. Прочитав письмо, он протянул его сестре.
— Неприятно, черт побери-то! Не знаю, что и делать. Ехать придется!
— Случилось что-нибудь? — спросил Валерьян.
Митя вместо ответа встал, вынул из комода бутылку с коньяком и налил две рюмки.
— Выпьем, Валерьян Иваныч, па прощанье! Завтра уезжаю!
Наташа прочитала письмо.
- Елена вышла замуж! Ну что ж, ведь это было решено! Сломала себя из-за денег!
- Теперь мне все равно, — мрачно бормотал Митя, - а вот родитель требует приезда моего. Там уж, должно или, без меня меня женили. Не все по любви женятся, женюсь-ка и я без любви!
На глазах его навернулись слезы, и руки дрожали, когда он снова наливал себе коньяку.
- Митя, не пей много! — с жалостью сказала Наташа.
— Ничего, легче будет! Одиноки мы все и никому-то не нужны нигде! Зачем сюда заехали — не известно. С какой стати мы здесь? Не обессудьте, напьюсь я сегодня!
— Да кто же тебя насильно принуждает жениться? Послал бы всех к черту! — горячился Валерьян.
— Судьба! возразил Митя. — Папаша давит нас. Ну, довольно об этом! Решено: завтра еду и Шельку возьму с собой.
До поздней ночи сидели они на террасе. Город и весь остров горели разноцветными огнями. На черном фоне безлунной южной ночи то и дело с треском взлетали фейерверки. Золотыми цветами рассыпались они высоко над морем и гасли в черном бархатном небе. Из тьмы неслись веселые голоса, звучали аккорды гитар и трепетно дрожащие струны мандолины.
V
Сила Гордеич сидел на скамейке в саду своего дома. Дом его стоял на главной улице в ряду других купеческих и дворянских домов. Почти все купеческие дома в городе принадлежали прежде дворянам и помещикам, но помещики давно уже приходили в упадок, один за другим разорялись, запутывались в долгах, а дома и имения их за бесценок переходили в руки купечества. Некоторые, наиболее крупные дворянские фамилии еще держались, их особняки торчали тоненькой прослойкой между купеческими особняками; но обитатели дворянских домов жили замкнуто, нигде не показываясь и не играя никакой роли в городе и губернии. Купцы давно уже были владельцами многих дворянских хором в городе и родовых имений в уезде, верховодили в земстве, заседали в городской думе, хозяйничали в банках. Сила Гордеич директорствовал во Взаимном кредите и председательствовал в биржевом комитете. Имя его было окружено всеобщим почетом и уважением, не столько за миллионное состояние — были люди в городе и побогаче его, — сколько за то влиятельное положение, которое он занимал благодаря большому уму, энергии и деятельной натуре. Бывшую свою хлебную торговлю, которой он удачно нажил состояние, Сила Гордеич счел за лучшее прекратить. По его мнению, уже не те были времена: хлебное дело стало рискованным. Он крепко зажал свой миллион, почти не пуская его в оборот, продавал только тот хлеб, который давало имение.
Мечтой Силы Гордеича была выгодная скупка прогоравших дворянских имений. Это дело он считал своевременным, но проводил его с выдержкой, терпеливо выжидая выгодные случаи. Многие дворяне были у него в долгу, как в тенетах, и он, как паук, все больше запутывал в них свои жертвы. В любое время Сила Гордеич мог оказаться владельцем нескольких больших имений — целого удельного княжества на Волге, но не спешил с этим делом, не подавал ко взысканиям по закладным, ждал, когда помещичьи усадьбы сами свалятся к нему в руки, как созревший плод.
Дворяне естественным путем шли к уничтожению, на /мену им уже и теперь выдвигалось купечество. Этот неотвратимый жизненный процесс совершался на глазах Силы Гордеича, а себя и других ему подобных купцов он считал полезными для будущего России, настоящими добрыми хозяевами русской земли. Сила Гордеич готовил жестокую участь легкомысленным, беспомощным людям, заложившим ему свои имения, и не только не чувствовал угрызений совести, но и считал себя в праве ненавидеть этих безнадежно неделовых, бестолковых и недальновидных людей.
Готовясь сделаться в будущем родоначальником крупнейших землевладельцев в России, он стоял теперь во главе коммерческого сословия в богатейшей части государства и в качестве банкира руководил коммерческой жизнью края. Этот маленький, с виду хилый старичок, ежедневно ездивший на старой лошадке в общественный банк, где объединились миллионы местного купечества, одним росчерком пера решал большие банковецкие дела, неизменно проводившие переход помещичьей земли в руки купечества и отчасти кулачества. Такова была жизненная задача этого человека. Революционное движение, издавна существовавшее в России, он ненавидел столько же, сколько и дворянское сословие, но думал, что, когда завершится процесс перехода земли к капиталистам и крестьянским обществам, тогда и революцию можно будет обойти, бросив кусок крестьянину. В своем имении он так и сделал: помог кучке мужиков выгодно купить землю в частную собственность, и богатеи относились к нему с несомненным уважением.
Вообще Сила Гордеич считался хорошим человеком, либеральным, нового образца купцом, равнодушным к религии и духовенству, но и ничего не имевшим против них, врагом дворянства, но другом капитала, желавшим
политических свобод исключительно для его преуспеяния. Властный, честолюбивый, но не любивший ничего показного, ненавидевший роскошь и расточительство, он чувствовал превосходство своего природного ума над многими окружавшими его людьми. Основной мыслью его была мысль о соединении капитала с землевладением и таким образом выдвижение капиталистов на первое место в государстве. Банкирскую и биржевую деятельность он любил, уважал и искренно считал общественно-государственным делом.
Свою личную и семейную жизнь стремился согласовать и даже использовать сообразно общим своим взглядам. На сегодня назначена свадьба его сына с дочерью Блинова.
Блинов, подобно Силе Гордеичу, у всех на памяти превратился из ничтожества в миллионера. Пожилые люди еще помнили крикливую торговку на базаре, потом хозяйку магазина с красным товаром, на которой женился Блинов, ее приказчик. Дела быстро шли в гору, и теперь бывшая торговка превратилась в необыкновенной толщины купчиху, которую словно раздуло от спеси и чванства.
Купили бывший дворянский каменный дом – дворец с зеркальными окнами, двухсветным залом для балов и концертов, с высокими потолками, расписанными итальянскими художниками, с зимним садом и с примыкающим к дому огромным парком, выходившим на противоположную сторону квартала. В этом доме, созданном во времена крепостного права, когда-то жили «культурные» рабовладельцы, понимавшие толк в пышности и комфорте. В свое время тут шла широкая жизнь старого барства. Рабы давали средства на многолюдные балы и приемы, когда в двухсветном зале гремел крепостной оркестр и танцевала нарядная толпа в кринолинах и фижмах, в блестящих военных мундирах. Потом уезжали в столицы, делали карьеры, путешествовали по европейским странам, прожигали состояние и наконец, лишившись рабов, выродились и частью вымерли. Доконали их выходцы из «низов», бывшие мужики, торговцы, лавочники, трактирщики, а теперь первой и второй гильдии купцы, вроде Блинова с Черновым, пришедшие на смену старому дворянству.
Бывшая базарная торговка, поселившись в зеркальном дворце, оставалась прежней неграмотной бабой, но зазнавшейся от миллионов, напоминая старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Бывший приказчик оставался все тем же длиннобородым мужиком, потребности его оставались прежними, дворец казался ненужным, а венецианские зеркала и художественная мебель ни к чему. На этой мебели сидели люди в нечищенном платье, в грубых сапогах и не знали, что им теперь делать. Блиновы никогда не собирали у себя гостей, да и гости были все такие же, как хозяева, разве только еще проще. «Ну их, гостей-то! — говаривала старуха Блинова. — Какой толк? Только насорят да полы натопчут!»
Сам Блинов находится у нее в подчинении, ибо капиталы принадлежат ей. Живут одиноко и скучно, в огромном безлюдном дворце, похожие больше на сторожей этого великолепия, чем на хозяев его.
Два дома Силы Гордеича оказались как раз рядом с дворцом Блиновых, оба старинные, дворянские, деревянной постройки. Один большой, с венецианскими окнами, с антресолями во втором этаже, другой — поменьше, по другую сторону решетчатых дугообразных железных ворот с висящим над ними, никогда не зажигающимся матовым шаром. Двор общий для обоих домов, широкий, с каменными службами в стиле стародворянской усадьбы; в глубине двора за деревянной изгородью дремлет обширный тенистый, сильно запущенный парк, смежный с парком Блиновых.
Когда сватовство состоялось, в заборе, разделявшем парки соседей, в знак предстоящих родственных отношений была сделана калитка для удобства сообщения.
«Ну, только вряд ли с Блиновой долго надружим: невыносимая баба!» До свадьбы сына Сила Гордеич малый дом, или «тот дом», как принято было его называть, сдавал квартирантам, но теперь дом заново отделали для «молодых». Мебель, зеркала и все убранство дома выписано и до Москвы, из лучших магазинов, и уже месяц как с вокзала то и дело привозят запакованные ящики. Теперь все готово: в простенках между окон от пола до потолка стоя? литые зеркала без рам, заключенные в тонкую резьбу, резные стулья из грушевого и сливового дерева, на которые страшно садиться толстым купцам и купчихам; поставлены зеркальные шкафы, никелевые кровати, развешаны ковры, гардины, стоит зеркальная горка для драгоценной посуды, где уже красуются подарки будущим супругам: массивный серебряный самовар, подстаканники, чаши, бокалы, кувшины — всякое серебро. В столовой над ореховым обеденным столом — художественная электрическая арматура.
На этот раз ввиду торжественности события Сила Гордеич не пожалел денег на обстановку дома. Это требуется для общественного мнения вследствие видного положения двух миллионеров в городе. Недаром он и купил сразу два смежных дома: для обоих своих сыновей. Одно нехорошо: имение Силы с тысячью десятин чернозема, с паровой мельницей и конным заводом отныне отдано во владение старшему сыну на правах первородства и по случаю выгодной женитьбы.
Но в этом обида для младшего, который до этого управлял имением, трудился, не вылезая из деревни. Теперь его приходится отстранить.
Старик огляделся кругом. Ворота растворены настежь: в доме ждут свадебный поезд. Прислушался. Нет! еще не слышно, чтобы ехали. Жара спала. От громадных старых деревьев, еще помнящих времена крепостного права и дворянских балов в этом саду и доме, падали длинные, прохладные тени. Ветви деревьев таинственно шелестели что-то многозначительное, мудрое, примиряющее — о жизни и судьбе людской.
Все проходит. Были дворяне, пожили, насладились жизнью. Теперь черед новых сильных людей, черед Черновых и Блиновых. Они сильные люди, иначе бы и не создали капитала. А дети? Взять хотя бы Дмитрия: больной, неприспособленный; дают ему Блинову, конечно, только потому, что он — Чернов. Покуда деньги есть, будут жить, как прежние дворяне жили. Вот только больших денег не надо в руки давать: тогда, может быть, приспособятся. Молодуха-то с характером, в мать, копейку зажмет. А дела по имению по-прежнему Кронид будет вести, собаку съел на этом.
У Блинова, кроме дочери, сын еще есть, Михаила. Никчемный человек. Образования совершенно никакого не дали. Он и вырос балбесом. Наследник миллионов, а компания ему — его же приказчики да шоферы. Только и делает, что на автомобиле пьяный катается. Намедни прямо из ворот на чужой забор наехал. Как напьется отца лезет бить: зачем образования не дал? Вот каковы дети-то пошли! Какая будет смена старым купцам?
От этих тяжелых дум сухое, морщинистое лицо Силы становилось все мрачнее и печальнее. Вдруг зазвенели бубенчики. Сила встал и быстрыми, молодыми ногами пошел к подъезду. Там с лукошком в руках, в старинном штофном платье, с кружевной наколкой на волосах стояла Настасья Васильевна.
— Куда вы пропали? — укоризненно сказала она, передавая ему лукошко с насыпанными зернами хмеля. — Едут уж, встречать надо!
Во двор въехала коляска, запряженная парой вороных рысаков, за ними въехали другие экипажи с поезжанами свадьбы.
Из коляски вышли «молодые»: Дмитрий — во фраке и белом галстуке и Анна — в подвенечном наряде. Они приблизились к старикам и тут же, на крыльце, поклонились им в ноги.
Сила Гордеич всхлипнул, глубоко задышал и осыпал их двумя горстями хмеля по старинному народному обряду, которого придерживалось старое купечество.
Вечером в доме шел пир горой.
Парадный зал освещался сверху матовой электрической люстрой и отделялся от гостиной широкой аркой с двумя белыми колоннами с каждой стороны, а между колонн стояли на тумбах две гипсовые богини; как их звали, никто не знал и не интересовался: дом был куплен вместе с богинями.
В смежном зале, за аркой, за длинным столом во всю комнату, как бы ломившимся от всевозможных кушаний ин бутылок, сидело человек пятьдесят гостей. В центре молодые» и их родители: Сила с женой, длиннобородый Блинов с монументальной своей супругой и Мельников с Еленой.
Официальная часть пира миновала, ужин близился к концу Громадный разварной осетр на серебряном блюде был наполовину съеден.
Прислуживали клубные лакеи в белых перчатках и фраках. Собравшиеся за столом гости представляли местные торговые фирмы, миллионные капиталы: собрались крупные хлеботорговцы, пароходчики, фабриканты, —
нее именитое купечество города. Была и молодежь из купеческого круга: два или три студента, дамы, барышни, и между ними Варвара, чувствовавшая себя чужой в этом обществе, так как давно отвыкла от него. Костя, с белым бантом шафера в петлице, беспрестанно подливавший гостям в рюмки, иронически улыбался. Сын Блинова, Михаил, молодой, еще безусый юноша в казакине синего сукна, с бледным, застенчивым лицом и кудрявой головой, мрачно молчал, смущенно улыбаясь в общем говоре веселой компании. Душой общества оказался хлеботорговец Кузин, молодецкая фигура в поддевке и с чуть заметной сединой в бороде; церковный староста, кутила и любитель певчих, был он «на третьем взводе» и ввертывал остроумные словечки, вызывавшие общий смех. Сын его, сидевший рядом с ним, плотный здоровяк лет тридцати, отличался от басистого отца только тем, что говорил вкрадчивым, сладким тенорком.
Выделялся из всего собрания купец-помещик и хлеботорговец Крюков своею богатырской наружностью и необычайною живостью темперамента; среднего роста, с небольшой окладистой бородой, весь выпуклый, словно сбитый на наковальне, он славился как силач и неоспоимый пьяница.
Организатором пира, как всегда, был Кронид, имевший в этом деле долголетний опыт. В конце ужина, когда гости перешли на легкие вина и за столом все усиливался веселый говор вразнобой, Кронид встал, постучал вилкой по тарелке, требуя внимания, и сказал, поднимая в руке бокал шампанского:
— Безусловно пью здоровье молодых! Пусть их жизнь будет так же весела, искриста и приятна, как это вино! Пусть будет она так же светла, как светятся эти огни, и пущай весь их жизненный путь сопровождает удача и счастье! Сегодня они отправляются в путешествие по родимой нашей реке: пусть дорога их жизни течет так же спокойно, как течет матушка-Волга! И пусть не сбиваются с этого пути их молодые резвые ножки!
— Топтать отцовские дорожки! — густым басом рявкнул старший Кузин.
— Пущай, — продолжал Кронид, — в жизненном плаваньи им сопутствует попутный ветер, пусть держатся они поближе к родным берегам и пусть помнят, что всех нас создала и возвеличила Волга! Вот она, здесь — волжская сила, именитое купечество наше! Волга на своих волнах взлелеяла отцов наших, и она же потребует к себе и детей их. Пью за молодость, за будущее наше, которое безусловно зависит от нас! Пусть дом Черновых стоит долго и твердо, и никакие бури не повалят его! Пью за новых детей Волги, за молодых!
— Горько! — закричали всей толпой именитые гости. — Подсластить надо Кронидову речь!
Все потянулись чокаться к «молодым». Анна первая повернула лицо к мужу для поцелуя. Митя смущенно и растерянно поцеловал ее. Потом они, переглянувшись между собой, встали из-за стола и, выйдя из комнаты, поднялись по внутренней лестнице наверх.
Наверху, в большом кабинете с низкими потолками Анна остановилась у стола и тотчас же стала снимать вуаль и искусственные цветы с головы. Дмитрий старательно, но неловко ей помогал.
— Не позвать ли Катю? — заикаясь, спросил он.
— Нет, Митя, не нужно. Сама переоденусь. Спать не стоит: скоро, чай, на пароход?
— Часа через два.
— У тебя все готово?
— Вещи уложены давно, вот только переодеться мне... Да не в этом дело!
— А в чем же?
— Никак папу изловить не могу. Деньги получить! Только заведешь разговор, а он отмахнется, или кто-нибудь помешает...
— Может, забыл?
- Забудет он! Так, комедию ломает. Чтобы до последнего момента довести и поменьше дать. Знаю я его тактику!
- Как же мы без денег-то поедем? Ведь на Кавказ ехать.
- Теребить придется. Тоже, родители называются, что твои, что мои!
— Обмишулили они нас, Митя!
— А что?
— Обвенчали, а денег, как и прежде, опять каждый раз проси да кланяйся!
— Такая у них привычка. Впрочем, я только сейчас переоденусь и опять пойду его ловить.
Он вошел в дверь соседней комнаты. Анна стала снимать с себя подвенечный наряд и вынула из шкафа дорожное платье. Фигурка у нее была небольшая, худенькая, но изящная. Оставшись в нижней юбке и корсете, с обнаженными руками и грудью, она лукаво оглянулась на дверь, ожидая, что муж догадается приотворить ее: хотелось, чтобы он вернулся, обнял и приласкал ее, но Мите ничего подобного и в голову не приходило. Она зевнула и стала одевать глухое суконное платье «бордо» с длинными рукавами.
Через несколько минут Митя постучал в дверь.
— Можно?
— Конечно!
Митя вошел в обычном, любимом своем костюме: в черной косоворотке, подпоясанной серебряным пояском. Высокий, с тонкой талией и широкими плечами, Митя в этом костюме, скрывавшем его худобу, казался красивее и походил на студента. Анна приняла томную позу; повернувшись к нему в профиль и как бы не глядя на него, ждала, что теперь он обнимет. Но Митя пошел к выходной двери, равнодушно оглянулся и, слегка улыбаясь, пошутил:
— Фу ты, ну ты! Подумаешь, принцесса какая! Приходи вниз, а я иду родителя ловить!
Снизу доносились звуки рояля и гул веселых голосов. Молодежь танцевала, а у стариков пошло разливанное море.
Митя спустился по лестнице. В зале кружились танцующие пары. Из-за стола все уже вышли, слышались голоса в саду, а в гостиной за круглым столом продолжала пить пьяная компания: Крюков, младший Кузин и молодой Блинов. Шел спор о физической силе.
— Бороться я ни с кем из вас не стану, — оживленно говорил то тому, то другому Крюков: — боюсь, как бы нечаянно не зашибить. А вот, если хотите, лягу на ковер: ложись на меня любой из вас, и я обязательно исподнизу вывернусь!
— Не вывернешься! — пьяно ухмыляясь, возразил Михаил Блинов. — Из моих рук не уйдешь!
Крюков быстро сбросил поддевку, оставшись в голубой косоворотке, лег на ковер вверх лицом, раскинув руки.
- Да будет вам! — тоненьким голоском тянул Кузин. — Завели волынку!
Блинов тоже снял поддевку и, покачиваясь, засучил рукава шелковой рубахи. Красивое, нежное лицо его, застенчивое в трезвом виде, имело теперь зверское выражение.
Митя махнул рукой и вышел. Отца нигде в комнатах не было: наверно, в саду, при фонарях в карты играет. Он вышел в сад. Прохладный предутренний ветерок шевелил ветвями старых деревьев, пахло акацией и свежей, сырой землей.
В ярко освещенной беседке за двумя карточными столами сидели картежники, но Силы и там не было. Молодежь прогуливалась по тенистым аллеям, слышался здоровый смех.
Странно как-то все вышло! Женился. Что за жена у него — он и сам хорошенько не знает. Ни любви, ни романа — ничего такого не было: женили на богатой, да и все тут. Сам он тоже считается богатым, то есть — отцы у них богатые, а у него пока в кармане денег ни копейки.
Одиноко прошла по аллее Варвара, мрачная и загадочная, как всегда. Знает он, что у нее на душе: всю жизнь прожила в нужде от богатого отца. Что толку, что отец богатый? Скряга, больших денег при своей жизни никому не даст. С голоду не уморит, а так — кланяйся за каждый грош!
Вдруг за поворотом аллеи он услышал рыкающий голос отца:
— Что за ералашь? Куда тебя отпустить?
— Куда угодно, — возразил молодой голос, в котором Митя узнал голос брата, — а только куда же мне деваться? Без деревни я жить не могу. Работал, запущенное имение на ноги поставил, завод и мельницу устроил, а вы все в приданое брату отдали! Куда же мне идти? С берега да в Волгу?
- Брось дурить! Старшему брату по закону так пола! Ну, что же, что работал? Я тоже работал, и все заработанное берегу для детей. Для меня вы все равны. Придет время, женишься, будет и у тебя имение. Я даже одно имею в виду, скоро будет продаваться. Вот ты бы съездил, посмотрел, да и купил бы. Так нет! Все быком на отца глядишь.
Константин горько засмеялся.
— Но не могу же я, папа, только для того жениться, чтобы имение получить!
— Э, да мне черт с вами! Знаю я, есть одна бедная дворянка... хе-хе-хе!
— Фу, черт! — проворчал Дмитрий, останавливаясь. — Как тут подойдешь денег просить? Момент не подходящий!
Он вышел из-за аллеи, увидел отца и брата, сидящими на скамейке, и темную фигуру сестры, стоящую за кустом: Варвара подслушивала.
Заметив подходящего Митю, она медленно пошла в дом, и вскоре оттуда запел ее сильный грудной голос;
То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит —
То мое...
Мое сердечко стонет!..
Ворвался в ее пение бас старшего Кузина, и все затянули хором очень печальную песню, совсем не подходившую к веселому свадебному пиру:
Расступись, земля сырая!..
Весь хмельной хор с звенящими женскими голосами дружно пел этот щемящий, похоронный напев.
Пение прервал неожиданный грохот, раздавшийся в доме, как пушечный выстрел: словно упала какая-то тяжесть.
Из сада бегом все побежали в комнаты. Побежал и Митя.
В зале около колонны лежала разбитая статуя, превращенная в груду мусора. В комнате стоял гвалт. Младший Кузин и Крюков держали за руки яростно рвавшегося Михаила Блинова.
— Задушу! — ревел он, отчаянно вырываясь и стараясь достать ногой стоявшего за колонной старика Блинова.
Купец был бледен и смотрел на сына злобным, сверкающим взглядом. Дамы убегали к выходу. Толстуха Блинова лежала на диване и, задыхаясь, стонала:
— Осрамил, родимые! Больной он у нас, припадочный!
— Больной? — кричал Михаил, упираясь в дверях, куда его с трудом проталкивали. — А кто виноват? Мы не знали ласки, не знали привета. Вы нас учили всех презирать, кто денег не имеет. Вам только деньги дороги, будьте вы прокляты с вашими' деньгами! Изуродовали, изломали нас! Чучелом сделали меня, а сестру продали! Деньги к деньгам! А вот она и не любит его. Да и у него-то нет души. Ведь вам наплевать на душу! Не свадьба это, публичный дом!
Его наконец вытолкнули в коридор и куда-то потащили. Слышалась возня, пыхтение, топот тяжелых ног. Последние слова Михаила доносились уже издали:
— Милые родители! Проклинаю вас!
Гости стали разъезжаться по домам. Некоторые, приехавшие из имений, остались ночевать.
Светало.
Новобрачных провожали на пристань компанией в несколько экипажей. Долго спускались с гигантской горы, на которой красовался златоглавыми церквами старинный город. На Волге у пристани дымился розовый «Самолет», освещенный первыми лучами восходящего солнца. Все провожающие были нетрезвы, Но Сила Гордеич трезвее всех.
Только здесь Митя удосужился наконец попросить у него денег на дорогу.
Сила Гордеич удивленно поднял брови, улыбнулся всем известной лисьей улыбкой и всплеснул руками.
- Что же ты дома-то мне не напомнил? Ну, хорошо, что я случайно бумажник с собой захватил!
И он с видом любящего и доброго отца дал сыну триста рублей.
- Та ведь далеко едем, папа! — укоризненно возразил сын.
- Ну и что же? Доедете до места — телеграфируйте: вышлю.
Как пароход отвалил, Сила Гордеич долго махал картузом сыну и невестке, стоявшим на палубе.
VI
Лаптевка - село степное, скучное, на открытом, ровном месте среди хлебов, лугов и пашен, на берегу небольшой, извилистой реки.
Дом Крюкова — бревенчатый, в два этажа, с тесовыми воротами, крытыми соломой сараем и навесами, выглядит серо, похож не на помещичий дом, а скорее на кулацкий. Крюкову уже тридцать пять, а он все еще холост и живет один, как медведь в берлоге.
К воротам подкатила бричка, запряженная парой серых черновских лошадей с широкоплечим Василием на козлах и хилым старичком в плоском картузике, дымчатых очках, сгорбленно сидевшим в рессорной бричке.
Ворота отворил сам Крюков в ситцевой рубахе навыпуск, в широких шароварах и высоких сапогах.
— Милости просим, Сила Гордеич! А я тут как тут, на дворе случился.
— Да не надо во двор-то! — замахал руками Сила.— Я — мимоездом: к своим в имение еду.
— Ну, как не надо? Самовар на столе, позавтракаем!
Сила махнул рукой и покорился: все равно не отделаешься, только лишние разговоры.
Он, кряхтя, вылез из коляски, и Крюков потряс своей медвежьей лапой его старческую руку со сведенными от давнишнего ревматизма пальцами. Вошли через крыльцо со двора в нижний этаж, состоявший из трех маленьких комнат. Из коридора шла узкая, крутая лестница наверх.
— Наверх пойдем! — проворно забегая вперед, кричал Крюков. — Внизу-то у меня черная половина.
Наверху были две парадные комнаты: большая, светлая столовая с длинным обеденным столом посредине, венские стулья вдоль потемневших бревенчатых стен, и маленькая гостиная рядом. На столе кипел самовар, стояли закуски.
— Давно я здесь не бывал, Василий Николаевич. Почернел у тебя дом-то, — сказал, присаживаясь, Сила. — Хоть бы шпалерами, что ли, оклеил.
— Еще отец строил! Мне — что?.. Жениться не собираюсь!
— А надо бы! Что живешь бобылем?
— Некогда, Сила Гордеич, совершенно времени нет! Разве как-нибудь между делом?
— Ну, чего слыхать?
— Да вот все разговоры: будет в России не то конституция, не то революция. Ежели только конституция, то это будет наруку нам, купцам. А вот ежели революция придет, о которой даже дочь ваша Варвара Силовна мечтает, вот тогда-то что? Перевернется русская земля, перейдет в другие руки. Потому из-за земли весь сыр-бор загорится, против помещиков все пойдет! А ведь и мы с вами — помещики!
Сила Гордеич сердито махнул рукой.
— Ну, понес ахинею! Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет! Дворяне и без того зачахли, а мы не дураки, чтобы до революции дело доводить. Да к чему ты это все? — Сила Гордеич насмешливо улыбнулся.
— Як примеру говорю. Коли двадцать лет про революцию говорят, и не только говорят, но и действуют, и заметьте — при всеобщем сочувствии: есть даже и купцы такие, на революцию деньги жертвуют, — значит, когда-нибудь да будет же она?
Сила Гордеич отмахнулся.
— Я так и знал, что заговоришь ты меня до полусмерти! Дай хоть чаю-то напиться!
— А водочки, Сила Гордеич, неужто не выпьем?
— Что ты?! С утра-то?! И думать не моги! Вот погляжу у тебя хозяйство твое, да и двину дальше,.. Завел ты о детях, разбередил меня, — продолжал, вздыхая. Сила. — Не знаю — как кто, а я на своих мало надеюсь. Если наследственного лишатся, своего не наживут. Разве что внуки, да это долга песня! Кстати, можешь поздравить: дочка моя Наташа уже годовалого сына имеет!
- Слыхом слыхал. Поздравляю! Никак уж года два после свадьбы-то прошло?
— Побольше.
— Где они теперь свое жительство имеют?
— В Петербурге. Как воротились тогда из-за границы, с тех пор и живут. Был я у них зимой, ничего, живут хорошо. — Сила Гордеич усмехнулся. — Вот зятя имею известного художника; к лицу ли оно купцу? А все-таки я доволен. Главное для меня — внук, эта кип большеголовый, глазастый, оригинальный какой-то хе-хе-хе! Гляжу на него и думаю: что из тебя выйдет? Может, после нас, когда переменятся времена, на тебя вся надежда будет? Как знать! — Ведь от любимой дочери, Василии Николаевич. Вот и жду, не народится ли новый человек в нашей фамилии, чтобы не выродилась наша-то порода, как ты говоришь, хищных-то духом.
— Не хищных, а сильных!
— Ну, это все равно: кто хищен, тот и законы пишет.
— А пожалуй, что и так оно. Вот я — бобыль. Кажись, куда бы мне богатство? А хочу, Сила Гордеям, при капитале быть: вольготнее при нем. Про вас и говорить нечего: семя у вас сильное, детей много, и внука пошли, всех надо определить. Я такого мнения, Сила Гордеич, что по нынешним временам от крупных имений надо воздерживаться, лучше заводить по мелочи, в разных уездах и даже в разных губерниях. Вот вы не любите, когда я про революцию будущую напоминаю, а ведь надо и об этом подумать: с мелкими землевладениями спокойнее будет! Я вот в разных уездах еще два хутора имею, и здесь недавно в трех верстах хуторок приспособил. Советую и вам эту систему. При вашей-то мощности и уме, Сила Гордеич, можно всю Волгу, как сетью, покрыть!
Сила рассмеялся.
— Хе-хе-хе! Выдумщик! Революцию какую-то сочинил! Люди — ни сном, ни духом, а он уж Волгу сетью ловить собирается. Хе-хе! Ну, ладно, иди, показывай, какой ты еще хутор завел!
Они встали из-за стола, спустились вниз за ворота.
— Доедем, что ли? — спросил Крюков.
— Ну, чего лошадей маять? Пройдемся!
Вышли на широкий степной бугор, возвышавшийся на берегу реки, которая, сверкая под солнцем, спиралью вилась пр лугам. Над безграничной степью сияло торжественное утро. За рекою в высоких камышах и оса«е крякали и плескались дикие утки. Вдали виднелись высокие ветлы с какими-то постройками около них.
Приятели стояли рядом на бугре — один в рубахе, богатырского вида, с широкой бородой, развевавшейся по ветру, другой — старый, хилый, сухой, как мумия, с крючковатым носом над седыми, коротко постриженными усами.
— Вот, — радостно крикнул Крюков, протягивая руку к ветлам, — новый-то мой хутор! Называется — Беркутиное».
Из-за ветел в это время поднялись две большие и птицы, медленно взмахивая длинными крыльями, взмыли над рекой, потом плавными кругами проплыли близко от бугра, сверкая на солнце золотистым отблеском коричневых перьев.
— Беркуты! — сказал Крюков, следя за ними глазами. — Гнезда у них в этих местах.
Сила Гордеич с улыбкой посмотрел на стервятников.
— Ведь вот — хищники! Уничтожать бы надо! Между прочим жалко: гордая птица!
Крюков помолчал и, провожая взглядом удалявшихся хищников, добавил:
— Живучие они! Говорят, подолгу живут!
К позднему обеду Сила Гордеич подъезжал к Волчьему Логову.
Экипаж поравнялся с высокой четырехэтажной мельницей, стоявшей у плотины, на обрывистом берегу реки, поросшем густым тальником. На пригорке виднелся угрюмый дом Силы Гордеича, окруженный старыми акациями, с садом и высохшим бассейном.
От реки бежали ребятишки и бабы, а из ворот мельницы выскочило несколько парней с дубинами и кольями в руках.
При виде коляски они сняли картузы и поклонились хозяину. Сила Гордеич остановил лошадей.
— Что у вас тут такое?
— Да волк пробежал, Сила Гордеич! Из тальника выскочил средь бела дня. Не иначе — шальной! Логово, что ли, тут у него?
— Вон он, вон! — закричали другие, показывая пальцами по направлению к дому.
Серое пятно мелькнуло за изгородью сада и пропало из глаз.
- Что за чудеса! — поднял брови Сила Гордеич: — летом волк? Неслыханно!
- Волк как оборотень, — сказал, ухмыляясь, белобрысым парень в кумачовой рубахе. Сила не довольно махнул рукой.
— Да не овчарка ли от пастухов сбежала? Что зря шумите!
— Нет, Сила Гордеич, — волк: мы близко видали.
Кучер тронул лошадей, и купец, пожав плечами, въехал в растворенные ворота усадьбы.
На крыльцо быстрыми шагами вышел Кронид.
Усмехаясь в рыжую бороду — клином вперед, — помог дяде вылезти из коляски.
— Что у вас тут за волк бегает?
Кронид рассмеялся.
— Гы-гы! Безусловно, волк! Мы все сидим на террасе, а он как махнет через перила да црямо к нам. Оказалось — Белый Клык. Повадился, окаянный, в усадьбу к обеду приходить. Как сядем обедать, он тут как тут! Накормят его — и опять драла в лес! Прямо — чудо.
— Да ведь народ пугается. Удавили бы, что ли,
— Я и хотел.
— Где же он?
— На балконе, кость грызет.
— Черт вас знает, что у вас тут всегда делается! С волками дружбу завели! Куда же мне-то? Я боюсь!
— Гы-гы! Да уж я распорядился: на цепь его по- прежнему посадят.
— Ив дом не войду, покудова эту гадость не уберут! Лошадей еще перепугает.
— Василий, убери лошадей в конюшню, да отведите волка в амбарушку!
Василий распря! лошадей и ничего не сказал, только презрительно отвернулся.
На крыльцо вышел Дмитрий. Молча пожал руку отца, потом спросил:
— Хорошо ли доехали, папа?
— Доехал! Хе-хе! вот и я к вам.
Сила Гордеич юмористически ласково улыбнулся, пожимая руку сына, но неподвижное, мрачное лицо Дмитрии не отразило никакого чувства при встрече с отцом.
Кронид, наблюдавший обоих, молча усмехнулся. Ему невольно стало жаль старика: что за бесчувственный человек — Дмитрий! Никого не любит и не может любить, никаких чувств ни к кому не имеет, сам не замечает своей душевной сухости. Таков уж он от природы, да и Настасья Васильевна всех детей так воспитала: с детства осмеивались всякие чувства. Все и привыкли сдерживаться; скрытные дети у Силы!
Отчуждения детей Сила Гордеич как будто не замечал: его душа тоже давно покрылась слоем черствости, только иногда, когда это было нужно из тактичности, или в подпитии, Сила Гордеич становился прежним самим собою — благодушным, душевным человеком, не переставая быть в то же время себе на уме. Дети всегда опасались отца, не верили в прочность его добродушия; стоило коснуться денег, как все кратковременное благодушие Силы словно ветром сдувало.
Дети невольно побаивались его, видя, как все кругом сгибалось перед этим волевым человеком, как он давил всех и в том числе их самих. По привычке давить — он задавил и собственную семью. Им казалось, что Сила Гордеич эгоистище и деспот, каких поискать! Дмитрий уважал его именно за эти качества, но всегда боялся, никогда не любил и не верил ему даже в добрые минуты откровенности за выпивкой.
Сила Гордеич в сопровождении сына вошел в дом через парадное крыльцо. Кронид, насмешливо улыбаясь, послушал, как они поднялись по лестнице наверх, в апартаменты Настасьи Васильевны. Татарское лицо его выражало добродушное лукавство при мысли, какую ругань, наверное, сейчас поднимет Сила Гордеич. Предвкушая шумную семейную сцену, Кронид гыгыкнул, потом вынул из кармана свою веревочку и глубокомысленно начал заплетать и расплетать ее.
На крыльцо вышел Константин. По его печальному лицу было видно, что он расстроен,
— Ну, что? — насмешливо спросил Кронид, пряча веревочку.
— Папа приехал! — в тон ему ответил Константин,
— Знаю, сейчас его встретил. Я не про то, а — как ты решил?
— Как решил? Уйду на все лето, а может, насовсем.
Кронид улыбнулся язвительно.
— Гы-гы! Где уж, чай, совсем-то? Свобода-то ведь только издали хороша, а с непривычки она — что темный лес. Побегаешь-побегаешь, а как подведет бока — небось, опять назад воротишься. Вон Варвара — бегала от отца, а что вышло? Нет, уж видно, воля-то не всякому впрок, а только тем, кто сызмальства ею дышит. Воспитали вас в золотой клетке, так теперь уж поздно улетать. Ничего не будет! Заклюют вас на воле-то!
Константин вызывающе улыбнулся, губы его задрожали.
— Будет тебе каркать-то, ворон старый! Каркаешь тут! Не меньше тебя я все это знаю!
Он повел плечами в чесучевой поддевке и тряхнул черными волосами.
— Безусловно зря бунтуешь насупротив отца, — хихикнул Кронид.
— Да уж решено. Чего еще подвызыкиваешь? Надоело мне на привязи быть.
С черного хода на двор вышла целая группа людей: толстая кухарка, две горничных, Варвара с детьми и жена Дмитрия.
Все они с любопытством смотрели, как Василий на веревке тащил волка в амбарушку.
Кронид тоже смотрел, подбоченившись и гыгыкая.
— Гы-гы! испортили волка воспитанием! Не может он теперь по-волчьему жить. Свои-то, видно, не принимают, а к людям привык. Живет с волками, а обедать к нам, как в ресторан, ходит. Нет уж, это не волк, а одно несчастье!
Константин отчужденно смотрел на всю сцену издали, задумчивый и грустный, прислонившись плечом к столбу.
Около Настасьи Васильевны вертелся черный терьер Шелька. Породистый пес сделался любимцем старухи и считал себя главным лицом в доме, сопровождая ее в путешествиях по хозяйству. Теперь она кормила собаку из рук маленькими кусочками печенья. Шелька с необычайной ловкостью ловил кусочки на лету, подскакивая на пружинистых, легких ногах.
Вдруг он насторожился, поднял уши и деловито побежал к двери: на лестнице послышались шаги.
- Шелька, на место! — строго сказала старуха.
Пес неохотно повиновался и лег у ее ног, чуть-чуть ворча, настороженно поднимая подрезанные уши.
В комнату вошли Сила Гордеич и Дмитрий.
Шелька вскочил, еще не решив, лаять или подождать: Дмитрия он любил и но ночам спал у его ног на кровати, никого не подпуская к нему утром, пока не проснется, но только что приехавшего старика видел в первый раз и, не решаясь залаять, слегка зарычала. Сила, посмотрев на пса, выразительно сказал своим рыкающим голосом:
— Какая скверная собака!
— Р-р! — злобно ответил ему Шелька с дыбом поднявшейся шерстью на хребте.
— Вы не очень-то! — сказала старуха, протягивая мужу руку. — Он ведь понимает русский язык, даром что итальянец. Умный пес!
— Умней другого человека-то! — подтвердил Дмитрий.
Шелька продолжал рычать.
— Экую гадость завели! — шутливо сказал Сила.
— Р-р-р! — опять яростно отозвался Шелька. Шерсть его все еще стояла дыбом. Злющий пес готов был броситься на незнакомца, не подозревая, что он-то и есть главный хозяин дома.
Сила Гордеич хотел подразнить собаку в шутку, но„ встретив столь лютую злобу, сам начал злиться.
— Ну, ты! Смотри у меня, а то я как начну бить...
Настасья Васильевна засмеялась, затягиваясь папиросой.
— Этого еще недоставало! Да бросьте вы ссориться с собакой. Митя, уведи пса, — подерутся еще! Кстати, нам с отцом о делах поговорить надо.
Дмитрий встал и, подойдя к двери, поманил собаку.
— Пойдем! — дружески сказал он Шельке.
Пес охотно, пружинистой иноходью отправился за ним, и они вышли, оба не доверяющие шуткам и ласкам Силы Гордеича.
— Слышали новость? — дымя папироской, спросила Настасья Васильевна. — У Наташи к осени второй ребенок ожидается. Торопятся они с этим делом!
Сила Гордеич поднял брови.
— Нет, этого не знал. Беречь теперь ее надо! Вот бы им сюда приехать! До осени и прожить у своих!
— Где тут! Не хотят! Дачу сняли под Питером.
— Напрасно! На даче-то лучше, что ли, чем здесь?
— Ну, это как кому! Только ввиду такого дела мало ли что может случиться? Зовут меня погостить.
Сила опять вопросительно поднял брови.
— Не знаю, будет ли от вас на это разрешение, а только думаю, что надо бы на первое время побывать у них.
Сила Гордеич пожевал губами.
- Что ж, поезжай! Ничего не имею против. Это правильно, присмотреть не мешает.
— Только одна я не поеду: Варвару еще хочу взять с детьми, да и Костя просится поехать.
Сила крякнул и махнул рукой.
— Это зачем еще Варваре тащиться на чухонскую- то дачу? Уж чего бы лучше здесь!
— Вы все по себе судите, а ведь она еще не старуха, как я. Мне бы здесь век доживать — и то еду, а ей, небось, на людей поглядеть хочется. Обидно остаться будет, и тоска — одной. Осенью ребятишек в школу пора. Вот, коли благополучно разрешится Наташа, устрою их всех на зиму в Питере; у Наташи будут двое, да у разводки двое сирот, пускай вместе и живут там. Все равно, Варваре не житье здесь: отрезанный ломоть! А там как знать? На людях, может, опять замуж выйдет.
Сила Гордеич вскочил и с юношеской легкостью забегал по комнате. Настасья Васильевна закурила новую папиросу, спокойно следя за ним глазами.
— Я и слушать-то ничего не хочу про Варвару, — прорычал он наконец, остановившись перед женой и крепко стиснув руки за спиной. — Все, что угодно, только не это! Знаю я ее! Все ее штуки! Ты и ехать-то хочешь для нее, а не для Натальи. Не замечаешь, видно, что все твои желания она тебе в уши напевает. Вертит тобой, как хочет, а куда ей замуж, во второй раз, разводке в тридцать-то лет, да с парой детей? Кто ее возьмет? А если и найдется какой, так — из-за моих денег. А денег ей сто рублей в месяц, больше никогда не мм, — революцию-то разводить? Так она пускай и знает!
Старик опять прошелся по комнате и вновь остановился
- Это одно. А другое — где Варвара, там и смута всегда, знаю я ее характер! Наташа-то все ей отдаст, последнюю рубашку: такой уж она человек — ни в мать, ни и отца, ни в прохожего молодца. Варвара-то, бывало, и в детстве все игрушки у нее выманит.
Настасья Васильевна рассмеялась.
— Смейся, смейся! Не пришлось бы плакать потом. Я вперед знаю, что у них там будет. Наташа — как была куропаткой, такой и осталась. Муж у нее не деловой, одно слово—художник! Деньги-то и пойдут черт знает куда! Ты и знать-то ничего не будешь: так она вас всех обкрутит.
— Послушать вас, так хоть одна дочь у вас коммерсанта, вам на радость!
—- Какая тут радость? Она только себя и любит, другие-то для нее — навоз и больше ничего!
— Не любите вы ее.
— А ты младшую не любишь. Разделили детей на любимчиков да на постылых, а это хуже всего! Мне что Варвара? Моя же кровь, как и другие дети, а только она сама врагом моим стала. Ты ничего не видишь, а мне ее насквозь видать... Впрочем, делайте как знаете, а только я тебя предупреждаю: вляпает она всех вас в политику какую-нибудь! Время теперь тревожное, все ждут чего-то, сами не знают чего, вот и хочется Варваре фигуру из себя изобразить.
— Наташе-то от нее вместо пользы одно страдание будет. Запрячет ее Варвара на задний стол к музыкантам!
Сказавши так, Сила Гордеич мелкими, но твердыми шагами, с заложенными за спину руками вышел из ком¬наты, крепко захлопнув двери за собой. Слышно было, как он быстро, по-молодому спускался с лестницы.
Внизу послышался его рыкающий, гневный голос: кто-то, видно, подвернулся под сердитую руку.
Старуха осталась неподвижной, сидя в своем глубоком кожаном кресле. Лицо ее тоже было неподвижно, только голова чуть-чуть тряслась, да руки дрожали, когда она закуривала новую папиросу. Облокотясь на свою длинную руку, она вздохнула и скорбно задумалась. Энергичный протест нисколько не удивил и не обескуражил ее. Настасья Васильевна была убеждена в своем превосходстве над мужем: пошумев, он уступит. Так всегда бывало. Она — единственный человек, которому уступает Сила Гордеич не по недостатку характера, а по какой-то непонятной слабости к ней. Должно быть любил ее когда-то, и воспоминание об этом чувстве обезоруживало его...
Сама же она никогда не любила и, состарившись, так и не узнала, что за любовь бывает на свете. Муж давно внушал ей презрение и отвращение. Других чувств у нее к нему не было. Вышла за него не то что по расчету, а как-то равнодушно. Отец ее был управляющим имением, но ничего не оставил единственной дочери, кроме большой библиотеки. Училась в институте, да так и осталась институткой до старости. Любила чтение, но читала беспорядочно, бестолково, упиваясь чтением так же, как курением табаку. В свое время занималась нигилизмом и народничеством, а мужиковатого, совсем еще тогда серого, но уже зашибавшего деньгу Силу вздумала «возвысить до себя». Так свысока она и до сих пор к нему относилась. Не любя мужа, всю свою энергию вложила в воспитание детей. Все они получили, правда, среднее образование: к высшему никто не оказался способным, у всех обнаружилась какая-то наследственная нервная болезнь. После первых родов Настасья Васильевна заболела горячкой и некоторое время была в психиатрической больнице; с тех пор в характере ее остались последствия болезни: глухота, странности, напоминавшие манию величия, мрачная замкнутость и отвращение к мужу. В младших детях определенно чувствовалась наследственность. Дмитрий страдал глухотой, заиканием, бессонницей, ипохондрией, равнодушием ко всему. Младший сын — неуравновешенный фантазер и неврастеник. Но страннее всех Наташа. Как бы наперекор всем свойствам эгоистов-родителей и суровой системе воспитания, как бы в отместку за все стяжательные чувства отца и матери, за их черствость и бессердечие, Наташа была олицетворением болезненного милосердия к людям. Сестру и братьев любила до само-пожертвования. Мужа любила сострадательной любовью; да и любила ли по-настоящему? Может быть, и она, подобно матери, не была способна к живой, деятельной любви. Что-то во всей ее натуре было пониженное, даже в наружности, при выдающейся ее красоте и с виду цветущем здоровье, не было жизнерадостности, свойственной ее возрасту.
Здоровее всех Варвара, но у этой жизнь не удалась. Десять лет была несчастна в замужестве. Доходил до Настасьи Васильевны темный слух, что Варя тогда было другого нашла, подходящего, из крупных революционеров, красавца и писателя, видную роль игравшего. Обещался он на Варе жениться, а как только она мужа прогнала, взял да и одночасье и помер от неизвестной причины. Выл слух, что будто помер не своею смертью, от какого-то отравления, а правда ли это, так и осталось тайной. Замяли дело. Варвара же к отцу воротилась. Совсем лица на ней не было. Темное что-то с тех пор у нее на душе. Уж не она ли на душу грех взяла? Тот, может, только поиграть думал, да и спятился, а она — всерьез. Шутки плохи с Варварой при этаком характере. Ее не согнешь, да и не скоро сломишь. Родной отец — уж на что деспот в семье, а и тот не столько ненавидит ее, сколько боится. Она чего захочет — поставит на своем. И он вроде как на цепь в этом логове хочет ее посадить! Да куда! Все равно вырвется, опять убежит, либо удавится здесь же.
Глубокие раздумья старухи прервала Варвара. Настасья Васильевна не слыхала ее шагов и, только подняв голову, увидала дочь перед собой. Со своим плоским, татарским лицом и выдающимся большим подбородком она стояла перед матерью, неестественно улыбаясь тонкими, крепко сжатыми губами. Рядом с нею стояла ее дочурка лет десяти, с таким же фамильным подбородком и распущенными по спине рыжеваты¬ми волосами.
— Задумались, мамаша? — прозвучал глубокий голос Варвары.
Старуха вздохнула, и вдруг глаза ее наполнились слезами.
— Да, все о вас всех думаю.
— А там, внизу, папа разбушевался. На Константина напал. Мы от греха сюда убежали. Что у вас тут вышло?
— Да ничего! Не хочет, чтобы ты со мной на дачу поехала. Ну, да пускай прокричится, обмякнет потом!
Варвара взяла девочку за руку, привлекла к себе и опустилась вместе с нею на диван. Тут они обнялись, склонивши голову друг к другу. Из глаз Варвары текли слезы, девочка тоже плакала, уткнувшись лицом в плечо матери. Всем казалось, что они жестоко и несправедливо обижены.
VII
Жизнь в Финляндии сразу же сложилась очень печально для художника: причиной была Варвара. До женитьбы Валерьян был очень дружен с ней. Она изображала тогда салонную львицу губернского города и первая отметила вниманием безвестного, начинающего художника, оценила еще не признанный талант и даже покровительствовала ему.
Теперь роли их переменились: Варвару везде принимали только как родственницу известного художника. Но таково было отношение посторонних. В своей же семье Валерьян и Наташа оказались на положении второстепенном: на первом — была Настасья Васильевна и Варвара в качестве ее наперсницы. Наташа всегда была у матери нелюбимой дочерью, тем более оказался нелюбимым ее простодушный муж, не замечавший женских интриг в собственной семье. Занятый своей работой, делами и общением со своими коллегами, он долго не чувствовал домашних уколов, не придавая им значения.
Валерьян не обращал внимания на высокомерный тон старухи и ядовитые словечки Варвары, с какими относились к нему родственницы, но его иногда раздражала невнимательность их к беременной Наташе: о ней все как будто забыли в доме; по этому поводу с Варварой у него происходили пререкания, но он все же не понимал, почему старая приятельница так изменилась к нему. Колкости ее создавали грустное настроение, он не мог успешно работать- начатая картина не удавалась, и это приводило художника в отчаяние. Случайно художественная экспедиция пригласила его в поездку на полгода, и он чуть было не уехал, но в последний момент отказался: перевернулось сердце при взгляде на беременную жену, ни одним словом не противоречившею его жестокому намерению. Он сам опомнился и не смог оставить ее в опасном положении на попечение странной матери и себялюбивой сестры.
Между тем приближалось время родов. Валерьян напоил, чтобы на дачу заблаговременно пригласили акушерку. Акушерка поселилась в верхнем этаже дачи вместе с роженицей.
В один предосенний день, в конце августа, с утра начались родимые схватки. Акушерка затворилась с Наташей наверху, муж и вся семья собрались внизу в напряженном состоянии. К своему удивлению, Валерьян не замечал в себе волнения и страха за жену: рождение первого ребенка произошло благополучно в родильном доме.
Теперь наверху было тихо. Варвара на цыпочках пошла послушать у двери, но на лестнице ее встретила акушерка с довольным, спокойным лицом.
— Все благополучно! Разрешилась! Войдите!
Варвара поднялась вслед за ней и через несколько минут вернулась оживленная, с радостным видом.
— Слава богу, все хорошо! Девочка родилась! Такая хорошая! Ногами сучит, кулаки сосет!
Валерьян другого исхода не ждал и очень удивился, когда суровая теща молча заплакала, вытирая платком покрасневшие глаза. Внутри все у него дрожало от ра¬дости и оживления, но именно этот радостный вид раздражал тещу и Варвару.
Наконец разрешено было ему подняться наверх к роженице и новорожденной дочери. Он вошел в спальню в сопровождении тещи и Варвары. Наташа полулежала на постели. Ее роскошные каштановые волосы ярко вы-делялись на белизне высоких подушек, прекрасное, нежно-смуглое лицо при появлении Валерьяна вспыхнуло и озарилось счастливой улыбкой, а глаза... Нет, Валерьян никогда еще не видал такого выражения Наташиных глаз: громадные, синие, цвета морской воды, с длинными черными ресницами, они были исключительно красивы всегда, но теперь в них сияло какое-то особенное, прекрасное выражение.
Акушерка развернула беленький узелочек и поднесла ей ребенка, тихо лежавшего в простынках. Наташа улыбнулась счастливой улыбкой, от которой у всех стало светло на душе. Валерьян со страхом и удивлением наклонился к ребенку: это было крохотное, красненькое, беспомощное существо с черными волосиками, уже заметными на голове, и хорошеньким личиком, напоминавшим Наташу. Валерьян почувствовал необычайный прилив нежности к маленькому живому узелку. Акушерка ловко завернула младенца и дала отцу подержать на руках. Валерьян неуклюже, с недоумением взял на руки драгоценный легкий узелок.
Ребенок спал. Валерьян с улыбкой посмотрел на это спящее личико, потом взглянул на жену и испугался, увидев, как глаза ее вдруг блеснули фосфорическим светом, словно глаза тигрицы: это Наташа боялась, как бы он не уронил ее сокровище. Он поскорее отдал его акушерке. Ребенок проснулся, открыл синенькие глазки, но не плакал и не кричал.
— Отчего она не плачет? — удивленно спросил счастливый отец. — Может быть, слабенькая?
— Отличнейший, здоровый ребенок! — деловито ответила акушерка. — Крепыш на двенадцать фунтов!
— Молчаливая, вся в мамашу! — иронически сказала Варвара. — И волосы будут густые, как у матери. Мы хотим сейчас вымыть голову особым составом, чтобы кудрявая была, а вы уходите пока, не ползайте тут под ногами!
— Я не червяк, чтобы ползать! — добродушно возразил Валерьян.
— Чувства-то у вас червячьи! — усмехнулась Варвара.
Почувствовав яд в этих словах, зять огорчился.
— Я на чердак от вас уйду, — сумрачно ответил он.
— Что ж, вам там хорошо будет! — подтвердила теща.
Валерьян, сам не зная, что ему теперь делать, с кем делиться не то радостью, не то обидой, спустился вниз и вышел на крыльцо. Насмешки Варвары отравляли ему каждую радость.
Дача стояла в еловом лесу, на пригорке. Вся местность кругом была песчаная; сквозь корявые, низкорослые ели виднелись песчаные бугры и прибрежные дюны, просвечивало бледное море. Выйдя на берег, он сел на песок и долго смотрел на бесцветное финское море. Вдоль песчаного берега виднелись однообразные здания дачного поселка, стоявшего на прибрежных песках; мелкорослый хвойный лес тоже вылезал из песков. Низкое, северное, по-осеннему светившееся солнце казалось бессильным согреть эту бездарную природу; казалось, что солнце светит изо всей мочи, но ничего путного из этого не выходит: не вызывает оно производительных, творческих сил из бесплодной почвы; кривые, узловатые березки свидетельствовали о бессилии солнца этой чужой, бедной страны. Да и весь однообразный, скучный поселок, лишенный красоты и фантазии, построенный на сыпучих песках, казался чем-то непрочным, временным: если подует буря, какая бывает иногда у настоящей природы , то от всей этой беспочвенной жизни ничего не останется.
А между тем буря надвигается откуда-то, где-то шумят ее отдаленные звуки, уже достигают до замкнувшеюся в себе художника, строящего свое счастье на песках. Когда он брал Наташу в жены, то звал ее за собой в этот петербургский мир, где чудилась ему кипучая творческая жизнь. Наташа тоже верила в этот заманчивый мир, стремясь вырваться туда из «темного царства», в котором родилась и выросла без тепла и солнца любви, но за ней потянулись корни и водоросли глубокого «золотого дна», откуда извлек ее Валерьян, Что-то есть мертвое, холодное, болотное во всех ее родных. Солнце его любви оказывается бессильным против их холодного дыхания.
Он, отец двоих ее детей, уже связан с этим миром, откуда, как ему казалось, он вытащил Наташу, но водоросли все крепче и крепче обвивают его шаги,
Валерьян впервые почувствовал откровенное недоброжелательство в словах Варвары, но не угадывал, чем оно вызвано. Ведь он любил ее как друга, и Наташа ее любила; за что же холодная злоба, которую он чувствует с ее стороны в каждом слове, во всех мелочах совместной жизни? (А еще предстоит поселиться с нею в одной квартире в Петербурге на всю зиму!) Или ему так кажется? Может быть, это только пустячные домашние дрязги?
Послышались чьи-то шаги по песку. Валерьян обернулся. Перед ним стояла Варвара, высокая, в черном платье, с бледным, зловещим лицом. Тонкие губы ее дрожали и, в серых глазах сверкали зеленые огоньки.
Некоторое время они смотрели друг на друга молча: Валерьян — с недоумением, Варвара — с дрожащими губами.
- Ненавижу! — вдруг сказала она вибрирующим от бешенства голосом. — И вас и вашего ребенка, всех ненавижу!
- Что с вами? — бледнея, пролепетал художник.
- Я давно хотела вам сказать... Вы думаете, что тогда прежде вы увлекались, я любила вас? Никогда, вы ненавистны мне! Не хочу быть родственницей знаменитости, нянькой его детей!.. Я сама...
Она не договорила, задохнулась. Мускулы ее бескровного лица задрожали, оно перекосилось от сдерживаемых рыданий. Варвара глубоко перевела дух, как бы чем-то захлебываясь, потом повернулась и быстро пошла прочь вдоль берега по рыхлому, сухому песку.
Валерьян с ужасом и болью, еще не совсем поняв, но всем существом почувствовав открывшийся провал, горестно и долго смотрел ей вслед.
Поселившись на зиму в Петербурге, на Песках, в большой и хорошей квартире, семья сразу и бесповоротно раскололась на две, чуждых одна другой половины.
Еще в самом начале совместной жизни двух семей Варвара стала просить Валерьяна передавать матери только двести рублей, а триста оставлять в распоряжении Наташи, чтобы не выпрашивать у матери каждый грош, как это заведено было в доме Черновых. Валерьян согласился, передавал деньги жене, а Наташа тотчас их отдавала в распоряжение любимой сестры. Семова мало интересовало, как она их расходует, но после установления такого порядка отношение тещи к зятю, и без того высокомерное, заметно ухудшилось. По купеческой привычке расценивать людей на деньги богатая теща стала явно третировать зятя, дающего «в дом» так мало. Варвара знала, что Настасья Васильевна не только сама учтет мнимую бедность или скупость зятя, но напишет мужу. Только Валерьян и Наташа не думали об этом. Когда им нужно было что-нибудь купить, они обращались за деньгами к Варваре, но не знали, что она, тотчас же передавая эти просьбы матери, брала для них деньги у нее. Маленькие финансовые операции Варвары имели, однако, двойную, обдуманную цель: распоряжаться и чипами и унизить Валерьяна в глазах родителей его жены если бы Валерьян имел время и желание подумал об отношениях к нему Варвары, то легко мог бы ионии., что ею руководит не только затаенное чувство зависти к сестре, но и оскорбленное женское самолюбие. Теперь Варвара ненавидела их обоих более, чем сама думала Ненавидела скрыто, под личиной родственных чувств, и никто из них не догадывался, что происходит в ее душе.
После сцены на даче, когда у Варвары вырвалось слово «ненавижу», Валерьян заподозрил, что она в прошлом имела на него какие-то виды, но так как это было давно и прошло незамеченным, то по свойственному всем мужчинам эгоизму он считал естественным этих чувств, едва ли даже бывших. Отчасти жалел Варвару искренне, желая восстановления с нею прежних дружеских отношений. Но, живя теперь под одной крышей они часто начали сталкиваться, как враги. Все в доме шло кое-как: Наташе нездоровилось, а Варвара днями и вечерами куда-то уходила, возобновляя и заводя знакомства, бывала с кем-то на концертах и театрах, жила своей, обособленной жизнью. Вообще тон всему задавала Варвара.
Но ее просьбе Валерьян начал устраивать у себя по субботам домашние вечеринки. Собирались художники, писатели, артисты, политические деятели. Варвара кичилась перед ними своими талантами, совершенно заслоняя Наташу, уходившую от шумной толпы гостей в свою комнату. Смысл этих вечеров скоро стал понятен даже рассеянному художнику: Варвара искала себе жениха.
В числе гостей, собиравшихся к ним по субботам, у них стал появляться один интересный молодой человек, которого Варвара отрекомендовала как своего студентом. Наташа тоже знала его еще студентом. К нему, по словам Варвары, имел в прошлом основание ревновать ее муж. Теперь они снова встретились.
Наружность и манеры невольно выделяли его. Гордо посаденной головой, большим лбом и энергичным профилем казался он похожим на Лассаля. хотя родом был им, с Волги, в то же время тип жителей волжских пристаней. Еще студентом уехал он в Германию, кончил там университет, потом работал простым рабочим на заводах. Теперь вследствие изменившихся политических настроений вернулся в Россию и что-то делал в рабочих организациях. Видно было, что Пирогов и здесь играл политическую роль.
На вечеринках он обращал на себя общее внимание, как блестящий оратор, наблюдательный, остроумный рассказчик и несомненно талантливый человек, по-видимому видавший заграницей всякие виды.
Пирогов стал приходить запросто, ежедневно оставаясь обедать. Приходя, приносил Варваре единственную свежую розу на длинном стебле и вообще выглядел почти женихом.
Варвара недаром всегда тяготела к политике, или скорее — к ее сколько-нибудь заметным деятелям; будучи вполне буржуазной дамой и отнюдь не расположенная возиться с рабочими, она стремилась попасть в политические верхи, чтобы там найти себе спутника, могущего сделать заметную карьеру: сказывался наследственный склад ума ее дальновидного, расчетливого папаши. В эту зиму как раз происходили выборы в первую Государственную думу, и кто же знал, какие до сих пор безвестные люди могли попасть туда? В случае револю¬ции они могли приблизиться к настоящей власти, которой жаждала душа Варвары: прицепиться к удачнику было ее давнишней мечтой. Пирогов, рассуждая о предстоящей Государственной думе, часто шутил, что если б ему удалось попасть в депутаты, то после революции, которая несомненно скоро будет в России, ничего не желал бы более, как получить в свое распоряжение... Туркестан! Он бы чувствовал себя там совершенно самостоятельной властью.
Все, кроме Варвары, смеялись остротам этого веселого, красноречивого человека, которому — кто знает? — могла улыбнуться капризная фортуна в обстановке тех крайностей, какими была полна вся русская жизнь. Но Варвара не смеялась; она пронизывала своего поклонника глубоким, проницательным, без слов говорящим взглядом, и видно было, что провинциальная салонная львица что-то знает о честолюбивых планах Пирогова, что между ними существует какой-то таинственный уговор. Вскоре Пирогов внезапно уехал на Волгу, в тот город, откуда незримо протягивалась над всей семьей властная рука главы ее, Силы Гордеича Чернова.
Варвара почти каждый день получала от Пирогова письма, телеграмму и наконец открыла Наташе и матери свою свою сердечную тайну: Пирогов поехал баллотироваться и депутаты от их родного города, и Сила Гордеич оказал ему содействие. Если ее друг окажется победителем на выборах, пройдет в депутаты, тогда в награду за победу получит сердце и руку Варвары. Если же будет побежден в этом турнире, то не видать ему своей дамы, как ушей и своих! Так он и условился с нею: победить или погибнуть! В этом романтическом настроении влюбленного рыцаря, выезжающего ломать копья во славу дамы сердца, Пирогов и отправился на Волгу.
Однажды после обычного получения одной из телеграмм Варвара убежала читать ее в свою комнату. Вся семья сочувственно сидела в гостиной и ждала ее возвращения с новостями о ходе отдаленной борьбы, так близко касавшейся интересов и чувств всей семьи.
Вдруг из Варвариной комнаты послышался дробный стук ее каблучков: Варвара, по-видимому, плясала, читая телеграмму; потом дверь быстро распахнулась, и в ней на момент остановилась Варвара, еще более бледная, как всегда, с раскрытой телеграммой в руке.
Черные волосы ее растрепались, глаза сверкали. С несвойственной для нее живостью, как девочка, пробежала она через всю комнату мимо Валерьяна и Наташи прямо к матери, сидевшей на широком диване с дымящейся папиросой в руке.
Варвара упала подле нее и обняла мать, уткнувшись лицом в ее костлявое плечо.
- Ну, что там еще такое? Что случилось? — встрепенулась Настасья Васильевна; голова ее затряслась.
- Прошел в депутаты... единогласно, — глухо прошептала Варвара.
Она откровенно, радостно заплакала; потом тряхнула головой, встала и, сделавшись чрезвычайно похожей на мать, сказала с новым, гордым оттенком в голосе:
- Ну, теперь и я попробую депутатины!
Ноздри ее тонкого носа плотоядно сплющились, взгляд холодно скользнул в сторону Валерьяна и Наташи.
- Как я рада за тебя! — радостно лепетала Наташа — Ну, а ты?
- Я?! — Варвара торжествующе засмеялась. — Вот теперь то уж всем покажу себя! Пришло мое время!
И совсем писем новой походкой вышла из комнаты.
После выхода исторического манифеста, 17 октября 1905г., Валерьян, захваченный общим тревожным настроением очутился на улице: зловещий манифест царя вызвал всеобщую тревогу не только в столице, но и во всей стране, возвещая начало реакции; говорили, что скоро начнет действовать «Союз русского народа», организованный специально для черносотенных погромов, которые ожидались в Петербурге немедленно, вслед за манифестом. Многие боялись оставаться в квартирах, выезжали в предместья или по крайней мере в гостиницы, где надеялись чувствовать себя безопаснее.
Варвара испугалась, боясь нападения на квартиру художника из-за пребывания в ней Пирогова и, прибежав откуда-то с тревожными вестями, настояла, чтобы зять сейчас же пошел в первоклассную гостиницу, на Морской, снять большой номер для всей семьи. Валерьян и Наташа не разделяли испуга Варвары, но для ее успокоения решили на несколько дней переехать в отель.
Валерьян шел по Невскому и размышлял о надвигавшихся событиях, становившихся все более тревожными.
Революция, собственно, началась с 9-го января, когда шествие рабочих к царю для мирных разговоров вызвало у перепуганного правительства панику и кровавую расправу с народом. Октябрьская Всероссийская стачка повергла правящие сферы в окончательную растерянность, а в массах вызвала необычайный подъем духа. Еще один такой удар — и, казалось, самодержавие будет свергнуто. Рабочие переживали настроение влюбленных: малограмотные люди вдруг обрели способность писать пламенные стихи о революции, с огром-ным успехом выступая с ними на митингах и публичных собраниях Бесчисленные ораторы из рабочих, неумевшие прежде связать двух слов, произносили зажигательные речи.
Октябрьская стачка показала рабочим их собственную мощь, перед которой затрепетали их вековые угнетатели. Но нужно было окончательно сломить врага...
Валерьян хотел было повернуть на Морскую, но увидел, что к Казанскому собору двигается по Невскому толпа, человек в триста, с нестройным и невнятным пением, с развевающимся трехцветным знаменем и чем- то вроде большой иконы, несомой впереди толпы, идущей с «обнаженными головами». Толпа шла медленно и торжественно. Пели гимн. Валерьян поравнялся с толпой, когда она внезапно остановилась на углу около сквера Казанского собора. Впереди ее, два плохо одетых человека, несли не икону, как он думал, а большой портрет царя в простой дубовой раме. Лица толпы наполовину состоявшей из оборванцев, дворников и лавочников, не оставляли сомнения в принадлежности ее к «Союзу русского народа».
Но из-за сквера навстречу шествию неожиданно появилась группа людей менее многочисленная, по виду состоящая из рабочих.
— Долой! — кричали встречные. Пение умолкло.
«Союзники» в замешательстве остановились, потом снова двинулись. Раздался выстрел.
Валерьян не успел ничего сообразить, как толпа, бросив портрет и знамя, брызнула в разные стороны, рассеявшись в одну минуту.
Рабочие, ругаясь, повернули за угол. На мостовой осталось несколько человек, пинавших изломанную раму с разорванным портретом царя.
Наконец, остался только один пожилой рабочий, долго и гневно топтавший трехцветное знамя с кусками изломанного древка.
На тротуаре собралось несколько прохожих, наблюдавших происшествие, но когда на мостовой остались только клочья и обломки, разошлись и они.
Валерьян, удивленный и обеспокоенный, поворотил на Морскую. Прерванное шествие с патриотическим гимном и царским портретом не предвещало ничего хорошего.
В этот же день вся семья с детьми переехала в гостиницу. Валерьян остался в квартире, продолжая работу над своей новой картиной, но работа плохо клеилась.
Прошло три дня. Семья Валерьяна мирно проживала в отеле, тревожное настроение в городе улеглось, и все беженцы понемногу возвратились по домам.
Зато из провинции шли слухи о кровавых расправах с трудовой учащейся молодежью и рабочими, о широких волнениях крестьян, усмиряемых военной силой.
Валерьян наконец убедился, что совершенно не в состоянии закончить свою новую большую картину, работая в Петербурге. Днем мешали посетители, приходившие не столько к нему, сколько к Варваре, сделавшейся невестой Пирогова, да и сам только что избранный депутат метался в хлопотах. В доме запахло смешанным запахом политики и сердечных дел. Часто являлись совершенно посторонние люди с просьбами к депутату, который только что не ночевал в квартире Валерьяна. По вечерам приходили какие-то люди, было шумно, говорили речи, а по субботам, во время открытых вечеров, и вовсе шел дым коромыслом. Собираясь замуж, Варвара думала, что делает блестящую партию, тем более, что депутат был молод, талантлив и питал надежды сделаться лидером.
Все это радовало Валерьяна и Наташу, обожавшую свою старшую сестру, но вносило столько шума и суеты, что у них буквально не оставалось места, где бы они могли отгородиться от шумной Варвариной карьеры, а сама она, почувствовав себя хозяйкой политического салона, взяла с ними новый, покровительственно-высокомерный тон.
Работа, начатая еще летом, не ладилась. Отдельные эскизы нужно было скомпановать и наконец перенести на одно большое полотно. Но Валерьяну стало казаться, что эскизы не удались, что он не в силах слить их в одно стройное целое и всю работу нужно начинать сначала.
Кто-то из художников посоветовал ему для окончания картины уехать из Петербурга в Сестрорецк: это всего около часа езды по железной дороге, но зимой там полное безлюдье. Жить можно в хорошем отеле, куда только по воскресеньям приезжает публика. Художники и писатели часто пользуются зимним безлюдьем летнего курорта. Валерьян ухватился за эту мысль и в самый разгар зимнего сезона поселился в отеле Сестрорецк в полном одиночестве.
Работа быстро наладилась. Его охватило воодушевление, которое до этого почему-то долго не приходило. Причина упадка настроения, оказавшегося временным, представлялась, ему в образе суетной и тщеславной Варвары Он жалел, почему связался на эту зиму с родственниклми жены, поселился с ними в большой квартире, в которой все же не оказалось угла для него. Жалел, почему не устроились более скромно и уединенно, когда весь этот шик и показная, публичная жизнь, необходимые Варваре, причиняли ему столько неприятно-стей, а для ею кроткой и робкой подруги являлись только молчаливой жертвой эгоизму старшей сестры.
Целый месяц работал Валерьян и в этот срок закончил картину. Это было бы немыслимо, если бы не оказалось, что предварительные эскизы не так уже плохи, как он находил их в минуты отчаяния и сомнений. Здесь он продумал свою работу, и на картине эскизы неожиданно ожили, слились в одно целое. Трудная задача была разрешена, художник воспрянул духом.
Радостно встречал он каждое воскресенье приезд Наташи с их двухлетним сынишкой, бутузиком с большими синими глазами, в забавном вязаном беленьком костюмчике.
Картину свою художник пока не показывал Наташе, но по его веселому, бодрому виду она чувствовала, что работа идет хорошо. В эти счастливые дни он отдавал все время разговорам с женой, прогулкам и игре с маленьким сыном. Катались на лыжах и салазках, кувыркались в снегу. Наташа с удивлением смотрела, как простодушно веселились эти два ребенка: большой и маленький. За три года супружества Наташа привыкла видеть в своем муже не творца знаменитых картин, о которых она читала в журналах и газетах глубокомысленные и непонятные статьи, но простодушного, наивного человека с беспечной, ребяческой душой, который в обыкновенной, будничной жизни часто оказывался непрактичным, уступчивым и даже беспомощным. Глядя на дурачества с ребенком, она почти не видела разницы между ними, часто думала, что знает и любит именно этого обыкновенного, доброго парня и совершенно не знает художника, живущего в нем. С удивлением встречала она каждую его новую картину, в которой открывалось зрению такое богатство красоты, что Наташа терялась и не знала, откуда все это бралось. Он невольно сравнивала его с доктором Зориным, давно не появлявшимся на их горизонте. У того такое содержательное лицо, столько чуткости в общении с женщинами что, казалось, он мог читать ее мысли. Наташа вспыхивала при этом воспоминании — вот кому было бы иметь талант художника или поэта! Жаль, что обыкновенный врач при его тонкой, аристократической натуре. Отчего Валерьян не таков? Отчего он многого не замечает ни кругом себя, ни в окружающих его людях, наделяя их собственными качествами, пребывая в облаках фантазии, постоянно ошибаясь и спотыкаясь на земле? Он весь мир видит в ложном освещении того теплого, ласкающего света, который светится в его детских близоруких глазах. Или, может быть, в этом-то и заключается талант? Может быть, таковы все талантливые люди? Тогда... Но на этом обрывались смутные мысли Наташи, и она сама не знала, что же именно следует за этим «тогда»...
Вспоминались ехидные насмешки Варвары: «Он, ко¬нечно, талантливый художник, но ужасный мещанин: сердится, когда забудут закрыть трубу в печке, и такой семейственный, что интересуется, где берут молоко для вашей маленькой Елены!»
Наташа не понимала, что значит в книжном смысле слово «мещанин». Знала только, что употребляется оно как брань, что мещанином быть нехорошо. Детей она и сама страстно любила, а Варвара о своих мало заботилась, была занята важными делами депутата. Наташа часто оставляла своего грудного ребенка, чтобы развлекать одиноких детей Варвары. Маленькую шестимесячную Елену Наташа не кормила грудью: доктора запретили ввиду слабости ее здоровья; а взять кормилицу она не захотела: по ее мнению, это значило отнять мать у какого-то другого ребенка. «Должно быть, эти мелкие чувства и есть мещанство, — думала она. — Другое дело — Варвара. До детей ли ей. У нее дела государственные!» Все-таки во время поездок к мужу Наташа поручала Варваре кормление дистиллированным молоком ее маленькой Елены.
В последний свой приезд Наташа сообщила новость: приехал Константин. Кажется, собирается жениться, есть невеста на примете, та самая, которая приезжала когда и) на масленице. Очень дружен с Пироговым. Оба ждут возвращения Валерьяна. Интересуются его новой картиной.
Валерьян отослал картину в студию, а сам вместе с Наташей возвратился в Петербург.
В дверях их встретили Пирогов и Костя. Они были знакомы еще со времени выборов и, пикируясь между собой, шутливо вспоминали «чествование» в доме Силы Гордеича.
— Если бы не он, не прошел бы я в депутаты! — признался Пирогов. — Покривил душой я немножко: обещал отстаивать в Думе интересы торгово-промышленного класса.
- А сам теперь громовые речи против этого класса говорит! — насмешливо заметил Костя. — Погодите, задаст вам за это дедушка! И дворян и купцов, как малых ребят, вокруг пальца обернул! Ну и было же у нас пьянство тогда!
— Да! — улыбаясь, подтвердил Пирогов. — Я вообще не пью, но тут перед заседанием так меня у дедушки напоили, что все перед глазами завертелось. В таком виде и поехал на собрание. Вышел говорить и чувствую: сейчас провалюсь! А как только это подумал, со страху и отрезвел. Потом на извозчике опять разобрало меня.
— Ха! — усмехнулся Костя. — Возил-возил извозчик его по городу, а седок ни папы, ни мамы не выговаривает!
— На Волге это со всяким может быть, — возразил Валерьян.
— Ну, где ваша картина?
— Отослал в академию.
— Удалось?
— Кажется.
— Поздравляем с появлением на свет вашей новой картины!
— Пусть она будет так же хороша, как ваша дочь!— смеясь, прибавил Пирогов.
Наташа пошла в детскую и долго не возвращалась. Вместо нее явилась Варвара с бледным, тревожным лицом.
— Ваша девочка захворала, — тихо сказала она Валерьяну. — Наташа зовет вас!
— Этакая-то здоровенная девчонка? — удивленно сказал художник. — Что с ней?
— Не знаю. Идите скорее!
В детской Наташа стояла на коленях перед кроваткой ребенка.
Девочку рвало. Только что выпитое молоко выливалось изо рта с необыкновенной силой.
— Я позову доктора, — хмуро сказала Варвара и пошла к телефону.
Приехал Зорин. Быстро прошел в детскую. Осмотрел ребенка.
- Всe признаки отравления, — сурово промолвил он. — Где брали молоко?
Варвара смутилась.
— В молочной, как всегда!
— Напрасно! В петербургских молочных брать для ребенка рискованно.
Зорин попросил всех выйти из комнаты, кроме Валерьяна.
— Сейчас мы впрыснем ей камфару. Это — последнее средство! Вы будете помогать мне.
Доктор раскрыл свой ридикюль и что-то стал приготовлять.
Валерьян затрепетал. Его как громом поразило. Растерянно смотрел то на доктора, то на ребенка.
Зорин снял с девочки рубашонку. Ребенок лежал без чувств, голенький, хорошенький, с остановившимися большими, синими, как бы неживыми глазами. Валерьян наклонился над кроватью и стал притворно улыбаться, кивая головой, ободряя дочь, а сам чуть не плакал. Вдруг почудилось, что ребенок смотрит на него укоризненно, понимающими глазами. Казалось, глаза говорили: «Ну, что ты смеешься? Ведь я же умираю!» Валерьян смутился: ребенок продолжал смотреть на него серьезными, совсем не детскими глазами. Волосы зашевелились на голове его, комната поплыла, зашаталась, и вместе с нею поплыли перед ним синие неподвижные глаза. Доктор крепко схватил его за руку, сильно встряхнул и сказал:
- Возьмите себя в руки! Выпейте вот это! Нет, вы не годитесь в помощники!
Валерьян покорно выпил поднесенное ему лекарство. Руки его дрожали, зубы стучали.
- Теперь уходите и подождите в соседней комнате! Я позову вас.
Валерьян не помнил, сколько времени сидел он в своей комнате. Наконец пришла Наташа, молча села рядом и вдруг, как сломленная былинка, припала ему на плечо. Без слов и слез они обнялись в безмолвном отчаянии. Валерьян понял все.
Сидели так долго, ничего не говоря друг другу и представляй как бы живое изваяние человеческого горя. Наконец Валерьян, дрожа всем телом, взял Наташу за руку и почти насилу повлек за собой в комнату ребенка.
В детской комнате, у кровати стояла черная тень Настасьи Васильевны. Лицо ее было сурово.
— Там ей лучше будет! — загадочно сказала старуха. В кроватке лежал обнаженный мертвый ребенок...
Новая картина Валерьяна имела выдающийся успех на петербургской выставке: о ней много писали в прессе, говорила публика, и еще до закрытия выставки картина была продана за крупную сумму. Многие завидовали славе, деньгам и счастливой жизни художника. Кроме славы и денег, у него была необыкновенно красивая жена! Правда, она вела себя затворницей. Что-то болезненное и страдальческое было в ее содержательном лице и вечно грустных глазах. В особенности стало этоо заметно после неожиданной смерти ребенка. Эта смерть потрясла Валерьяна, надломила Наташу. Она похудела, в глазах к прежней грусти прибавилось тревожное выражение подстреленной птицы. Но, как это иногда бывает у красивых людей, — безмолвное душевное страдание сделало ее еще красивее. Наташа теперь более, чем когда-либо, до странности напоминала картину Мурильо, висевшую в ее комнате. Многие по неведению принимали за портрет Наташи этот образ итальянской мадонны; быть может, сходство происходило от гениальной проникновенности великого художника, так идеально изобразившего материнскую скорбь.
Валерьян прежде и лучше всех заметил это усилившееся не только внешнее, но и психологическое сходство и тревогой следил за Наташей, таявшей от молчаливого, покорного страдания.
Смерть дочери Валерьян приписывал невнимательности Варвары, но иногда ему приходили в голову чудовищные мысли: не была ли эта преступная небрежность умышленной? Вспоминалась странная сцена с Варварой на берегу моря и загадочная смерть ее прежнего возлюбленного, для которого она прогнала мужа.
В своей жене Валерьян многого не понимал. Все ее странности, вроде боязни людей, не проходили, а заметно увеличивались. Казалось, была она создана лишь для того, чтобы жить под стеклянным колпаком уединенной семейной жизни. Много читала, а без посторонних замечательно хорошо играла на рояле; любила детей, и в их обществе сама становилась ребенком. После смерти дочери ни на минуту не расставалась с маленьким своим сыном, но и этого ей было мало: она еще любила детей Варвары. Видя, как мало занимается своими детьми Варвара, занятая новой любовью и политикой, как дети иногда плачут в ее отсутствии, Наташа вспоминала свое странно-сиротское детство, лишенное материнской любви. Теперь перед ее глазами Варвара так же забросила своих детей от нелюбимого мужа. Так когда-то росли заброшенными и дети Силы Гордеича.
Насколько Наташа мучилась переразвитием совести, чувством самопожертвования и собственной виновности перед людьми, настолько же Варвара одержима была беспричинной скрытой злобой к людям. Ее тайная ненависть к Валерьяну, которую она до сих пор наружно сдерживала, после того как она нашла себе выгодного жениха с перспективой известности и богатства в будущем, не только не умалилась, но как бы возросла и обнаружилась в полном объеме. Заранее торжествуя от предстоящей карьеры будущего супруга, Варвара более не сдерживалась и не пропускала ни одного случая, чтобы показать свое превосходство, пренебрежение и тайное злорадство.
К Наташе она теперь относилась покровительственно, а в качестве будущей подруги политического деятеля давала чувствовать, что сестра и муж сестры не могут быть посвящены в тайны руководящих политических кругов, куда, как казалось, попала она. Судя по простодушному и дружелюбному виду ее будущего супруга, действительно занявшего выдающееся положение в Государственной думе, Валерьян догадывался, что никаких особенных секретов не было, а просто Варвара возомнила о себе.
В таких тяжелых, гнетущих настроениях прожила эта семья нею всю зиму в Петербурге. Здоровье Наташи таяло; Валерьян почти не разговаривал с Варварой и тещей, находившимися как бы в заговоре против него. Костя хандрил, писал домой длинные письма, играл в тотализатор, целые дни пропадал на бегах.
Варвара редко бывала дома, отправляясь по вечерам куда-то с депутатом и возвращаясь лишь под утро.
Всеобщий надрыв и надлом, давно начавшийся, казалось, приближался к естественному концу; было ясно, что Варвара, выйдя замуж, порвет всякие отношения с родственниками. Костя уедет домой, а Валерьян и Наташа начнут наконец самостоятельную жизнь. Все сожительство этих людей, не выносившие друг друга, временно было устроено лишь только для того, чтобы выгодно выдать замуж Варвару: в этом и заключалась миссия матери, выбравшейся из имения на всю зиму в Петербург в первый и, вероятно, в последний раз в жизни. Старуха тоже томилась в четырех стенах столичной квартиры, вспоминая деревенское, уставала от шума гостей и деловых посетителей, но по своему обычаю думала, что исполняет тяжелый долг, пристраивая незадачливую дочь. После пасхи собралась, домой вместе с сыном, которого тоже надо бы устраивать.
Однажды в квартиру явилась незнакомая барышня в сопровождении одного из друзей Варвары. Валерьян, случайно вышедший в столовую, был представлен ей как родственник, а Варвара заявила, что барышне нужно дать приют на эту ночь. Из условного разговора он понял, что барышня совершила какой-то опасный поступок и теперь ее прячут от полиции. Девица была молоденькая, почти ребенок, похожая на курсистку или гимнастку, но держалась с таким видом, как будто ожидала похвал за что-то. Варвара поспешила подчеркнуть, что подвиг барышни держится в секрете именно от Валерьяна и его жены. Официальным хозяином квартиры считался Валерьян, в случае ареста неизвестной беглянки и ответственность за ее сокрытие падала на него, между тем ему дали понять, что не считают его заслуживающим доверия. Барышня благополучно ночевала и на другой день исчезла, но с этого дня Валерьян решил раз и навсегда порвать всякие отношения с Варварой. Было ясно, что и без того дело идет к разрыву.
Праздник пасхи встретили мрачно, печально. Варвара и Валерьян больше не разговаривали, а Наташу это угнетало.
На первый день праздника Варвара с утра ушла вместе с женихом, а покинутые дети ее — мальчик и девочка — плакали от одиночества.
Чтобы, чтобы развлечь детей, Наташа вздумала покатать их на пароходике по Неве, бабушка заперлась в своей комнате, а Валерьян, насупившись, просидел весь день один в пустой квартире. У него с утра болела голова, колотилось сердце.
К обеду вернулась Наташа с детьми, прозябшими на реке. День был сырой, холодный, ветреный.
— Мне нездоровится, — сказала она. — Такой холод, что мы все на пароходе около трубы грелись! Что- то мне дышать трудно, и голова болит.
Валерьян встревожился. Он сам едва держался на ногах от странной слабости и жара во всем теле, но тотчас же позвонил Зорину. По случаю праздника доктора не оказалось дома.
— Сходите сами к какому-нибудь врачу, — сказала Наташа. — Мне совсем плохо!
Валерьян, пересилив болезнь, оделся и через силу поплелся к ближайшему доктору, которого тоже не оказалось дома. Но прислуга попросила с полчаса подождать.
В пустой приемной не было никакой мебели, кроме стульев. От ходьбы Валерьян так ослаб, что не мог даже сидеть. С ужасом почувствовал, что и сам серьезно болен. Он лег на пол и так ждал, почти теряя сознание.
Вдруг раздался звонок. Больной поднялся с пола, прислуга открыла дверь, и вошел доктор.
- Помогите! - прошептал Валерьян прерывающимся голосом.
— Что с вами? Войдите в кабинет!
Валерьян, шатаясь, вошел вслед за доктором.
— Садитесь!
— Извините, доктор, но болен-то ведь не я, а моя жена. Не сможете ли вы поехать сейчас со мной?
Доктор взял его за руку и, пощупав пульс, сказал:
- Heт, вы больны! У вас наверно все сорок градусов, нам сейчас нужно в постели лежать, а вы ходите!
- Но, доктор, я даже не знал, что я болен. Я прибежал за вами: жена больна серьезно!
— Вы художник Семов? — спросил доктор.
— Да.
— Я вас знаю. Долгом почту сейчас помочь вашей жене и вам.
— Моя квартира всего за квартал от вашей.
— Тем лучше. Но пешком вы в таком состоянии не дойдете, возьмем извозчика!
Доктор захватил маленький чемоданчик, сунул в боковой карман какие-то инструменты, и поспешно вышел, поддерживая пациента.
Когда они приехали, Наташа лежала в постели. Варвара уже вернулась и сидела подле нее.
- Сейчас же разденьтесь и в постель! — скомандовал доктор. - А я пока займусь вашей супругой. Зачем вы допустили больного выходить из дома? — сурово спросил Варвару. — Неужели нельзя было послать прислугу?
Варвара смутилась.
- Никого не было дома, — пролепетал Валерьян,— и я пошел. Немножко нездоровится.
— Немножко! — ворчал доктор. — Сорок градусов, может быть — тиф, а он ходит, как ни в чем не бывало! Покажите мне больную!
Через четверть часа он вошел к Валерьяну, смирно лежавшему под одеялом.
— У вашей жены плеврит в очень острой форме. Немедленно вон из Петербурга! Самое лучшее — в Крым. Ну, теперь я вас исследую.
После всяких выстукиваний, выслушиваний и измерения температуры доктор успокоился.
— Опасного ничего. Просто гнилая петербургская лихорадка. Все-таки вам придется полежать недельки. Но вашу жену немедленно отправляйте в Крым!
Через два дня Наташу повезли в Крым. Сопровождала ее Варвара. Через две недели Валерьян, оправившись от болезни, уехал вслед за ними. Дома остались только бабушка, Константин и дети.
Варвара вскоре вернулась, как раз к разгону Государственной думы. В числе бежавших депутатов эмигрировал и Пирогов. Варвара уехала вместе с ним.
Костя остался ликвидировать квартиру, а Настасья Васильевна вместе с детьми спешно возвратилась в мрачное место Черновых.
Первого мая в ясное, светлое утро вышел Сила Гордеич дому прогуляться на «Венец». Так назывался край высокой горы, где стоял его родной город. На венце над зеленым обрывом были врыты в землю скамейки для гуляющей публики; дома стояли в одну линию и глядели с горы на Волгу. На одну из ска-меек сел Сила Гордеич, опираясь на вязовую палочку, загнутую клюкой.
Крутой откос горы был весь покрыт знаменитыми садами анисовых яблок, антоновки и хорошавки, которыми на всю Россию славился город. Промеж садов вилась разбитая ездой ухабистая шоссейная дорога — пятиверстный спуск с гигантской горы к Волге. Ниже, на берегу виднелись купеческие хлебные амбары и пристань — целый ряд пароходных конторок. Стоял тут на якоре и его собственный буксирный пароход «Редедя», за долги взятый: старье, а когда-то сильнейшим буксиром на всей Волге считался.
Сила Гордеич долго смотрел с горы вниз, где изумительно сверкала разлившаяся Волга под ярким весенним солнцем у подножия зеленой горы, возглавляемой белокаменным городом и пятью золотыми куполами старинного собора. Сила Гордеич смотрел, кряхтел и думал.
Небывалый разлив! Только что прошел ноздреватый, рыхлый камский лед — и пошло прибывать: чуть не по аршину в день! Все затопило, все поймы залило. Все островки и косы песчаные, луга, поля и перелески — все под водою очутилось, и разлилась матушка-Волга около старого, тихого города чуть не на тридцать верст. Как море, плещется она мутными желтыми волнами, пенится и хлещет в крутой зеленый берег, винтом винтится быстрина, и летит громадина без удержу куда-то в даль далекую, в море великое.
Вспомнил Сила Гордеич всю свою долгую жизнь, всю тяжелую, бедную молодость в родных приволжских местах. Вся жизнь прошла около Волги, и от юности до старости яркой лентой опоясывала эту жизнь Волга. Ярче всего вспоминались Силе волжские весенние разливы перво-наперво пассажирские пароходы пойдут, этакие белые, как лебеди, двухтрубные великаны, густыми протяженными голосами сразу в две ноты поют, красными колесами желтые пенные бугры подымают, к каждому городу, к каждому богатому селу, где только пристань стоит, с праздничным видом заворачивают, чалки на конторки закидывают — и тут что только поднимается на берегу! Суетня, беготня, толкотня, суматоха! Торговки со всякой волжской снедью сидят, пригото-вились, зазывают краснощекие толстухи звонкими, певучими голосами: говор у волжского народа протяжный, круглый, песенный говор.
Крючнико - оседланные люди — как муравьи, тащат тюки в три раза больше себя — и не видать за кладью людей. Пахнет новой рогожей, лесом, свежим тесом, дегтем да хлебом, — не разберешь! Всякую сячину в пароходное брюхо кидают. И нефть по деревянному желобу льется «ему» куда-то в ноздрю: ноздрей пьет! Крючники, известно, всегда с песней работают, без песни им невозможно, для работы она и поется. Одна песня у них, как у волка, — старая, вековечная бурлацкая:
Эх ты, матушка да Волга!
Ты широкая и долга!.,
С реки доносились голоса невидимого хора.
Ладно эта песня у них выходила. С виду будто бы утешаются ребята, играют десятипудовыми тюками, со стороны-то незаметно, как у них спины трещат, руки и ноги дрожат от напряжения: трудная, чертова работа, знает ее Сила Гордеич!
Вдалеке, где синяя равнина широкой реки сливалась том, показался дымок: сверху шел большой пассажирский пароход, быстро увеличиваясь в объеме. Через несколько минут к городу подплывала двухэтажная громада, сделала по реке полукруг, завернула и, подходя к пристани, затрубила двухголосым гулким ревом — «Меркурий» пришел.
На берегу, как мошкара, замельтешила чуть видная сверху толпа.
Сейчас же на конторку слепой гармонист придет с певцом-мальчишкой. Давно их знает Сила Гордеич. У слепого бритое, без бороды и усов, без возраста, безглазое да бесстрастное, застывшее лицо, как лицо судьбы, а мальчишка, веснушчатый, беловолосый крепыш, водит слепого за руку. На ремне у гармониста весит гармония, особенная какая-то — «саратовская», с серебрянными ладами, с колокольчиками и полутонами. Нащупает скамью слепой и, как только пристанет пароход, как грянет, растянувши мехи, что сразу весь пароходный шум покроет, а мальчишка трубным, густым альтом затянет: «Роковой час настает». Всегда они каждый пароход этой песней встречают. И откуда такой голосина у мальчишки веснушчатого?.. Чистая пароходная публика столпится на верхней палубе, кидает слепому пятаки, а то и гривенники, а мальчишка знай заливается...
Так и пойдет пароход, зашумят колеса, а ей, публике-то, долго еще будет слышен гармонный гром да мальчишкин трубный голос. К следующему пароходу выйдут опять.
На пароходе, когда идет он серединой неоглядной реки, тоже, конечно, музыка есть: это что, если в первом классе барыни на рояле молотят, а ихние кавалеры жидкими голосами подпевают! Пустяковина это. Нет, в четвертом классе, где тюки горами лежат, и грязно, и тесно, и неуютно кругом, и Волга — вот она! — рядом плещется, там на бочке дегтярной гусляр сидит и на гуслях играет: попадаются еще изредка гусляры на Волге! Денег за игру не собирает: для себя играет и для всего простого народу, которым битком набит четвертый класс; слушай, кто хочет, хоть из первого класса чистый господин приди, — не остановится и внимания не обратит. Мужик он самый обыкновенный, лядащий, в лаптях, в старой кумачовой рубашке, в казинетовом пиджаке, и бороденка мочалкой у него; забирает корявыми, грязными, заскорузлыми ручищами, водит крючковатыми нами по жильным струнам, а ни разу не ошибется — играет, да так забористо, что два мужика непременно выйдут на середину, плечами передергивают и пляской один другого перешибить норовят.
А то на корме вдруг простонародный хор запоет. Это - если жнецы, жнеи да косцы артелью на заработки едут, курские больше или тамбовские. Так поют, что вся чистая публика с верхнего этажа на них глядит...
Слушает волжские звуки Сила Гордеич, и вспоминается ему все, что слышал и видел он на Волге каждую весну, а за нею жизнь: бегут, поют пароходы бело-розовые с красными каймами на черных трубах, гусли звенят, гармонные лады ревом ревут, бурлацкая, крючническая песня плыв»: разливается, волны вешние шумят, и вся приволжская жить певучими звуками полна. Сколько их! Перепутались, слились, друг друга покрывают, никто никого не слушает: а если со стороны посмотреть да и послушать — хорошо выходит: засмотреться и заслушаться можно.
Расстилавшаяся внизу могучая река, великолепная в своем весеннем разливе, с плывущими там. и сям барками с целой гаммой красочных звуков, смягченно доносихшихся издалека, навеяла Силе Гордеичу какое-то никогда прежде не свойственное ему нежно-грустное настроение: жаль кончающейся жизни, в которой было все, кроме личного счастья. С необычайной яркостью вспоминалась теперь вся его кипучая, полная энергии, разнообразная жизнь, посвященная одной непреклонной идее: созданию капитала. И с каким-то небывалым прежде, мягким и грустным сожалением вспоминал он ее.
Да, был он и крючником, был водоливом на барже, был пастухом овец. Но никогда не оставляла его мысль — из пастуха сделаться миллионером.
Ну, и что же? Ну и сделался. Откуда же это сожаление, как будто вся жизнь была ошибкой?
Волга плыла перед ним во всем своем весеннем, юном блеске, ликующая в сознании своей силы и очарования своего. Силе Гордеичу казалось, что никогда не видал он такой красоты, как будто в первый раз видел родную реку. И внезапные, неожиданные, непонятные слезы выступили на его стариковских тусклых, печальных глазах.
Волжские разливы приносили ему золото, богатство. Но как знать — не придет ли такой разлив, который смоет все построенное им здание, унесет, размечет волнами? Вот пророчили революцию — и действительно, был девятьсот пятый год. Здание трещало, колебалось, но устояло. Пылали дворянские имения, а Волчье Логово уцелело: не потому, что мужики уважали Чернова,— в такое время уважение не поможет, — а просто он подогадливее других оказался: в ту зиму дал денег полимейстеру, купил триста пар валеных сапог — и триста солдат на его счет отправлены были охранять имение Силы Гордеича. Все и обошлось благополучно. Да что! Разве на этом окончится русский разлив? Вряд ли. Вода-то не убывает, а прибывает, и доберется же она когда-нибудь до устоев, на которых тысячу лет Россия стояла. Уже оползни поползли, не на чем стало укрепиться. Несется куда-то быстрина. Лиха беда от берега оторваться. Унесет всех нынешних хозяев жизни в гадкую прорву, что назад и не выберешься. Уж и так многое и многих унесло.
Дочь Варвара вышла было замуж за депутата, а теперь он не депутат, а эмигрант.
Жалко, опять промахнулась она с замужеством. Словно сама судьба издевается над ней, посылает вместо славы и богатства одни унижения да бедность. Но не покинула она своего депутата, разделяет с ним горькую судьбу. Пишет всегда сухо и сдержанно, без лишних жалоб, как и всегда писала; ну, да между строк видно, до какого бешенства ей деньги нужны. Все еще и за границей хочет роль играть. К братьям и сестре зависть ее разбирает; во всем, должно быть, отца винит. Чем же отец виноват? Не лезла бы в революцию!
Знает Сила Гордеич, зачем ей революция нужна: не для идеи, конечно, — поди-ка, наплевать ей на мужиков, она их и не видала никогда, никакого интереса к ним не имела. Так, честолюбие одно: министрихой думала быть. Золотые горы снились, а дело-то повернулось иначе. Теперь только тем и живут, что им Сила высылает. Да то ли еще будет? Не к лучшему, а к худшему дело идет. Кому в конце концов попадут в руки капиталы Силы Гордеича? Не разлетелось бы все прахом? Чем тогда будет оправдано их многолетнее собирание?
Костя женился, своим хозяйством живет. Сам толстовец, жену заядлую дворянку взял! В душе-то и получился сумбур, ходит хмурый да пасмурный. Эх, слабые дети у Силы Гордеича! Ни одного нет настоящего, который бы за себя постоял. Придет новая волна, и никто из детей не удержит в слабых руках наследственно ю капитала. Ненадежны его сыны, а о зятьях и гово¬рить нечего: интеллигенты! Чем бы за знаменитостями гоняться, взять бы в зятья Крюкова: этот изо всякой революции сух выйдет! Так нет, в интеллигенцию полезли — и вышло дело швах!
Boт уже два года, как лечится Наташа в Крыму, а все, видно, не поправляется. Пишет, что был плеврит, а теперь катар легких оказался. А что такое катар, как не чахотка? Доктора-то никогда правды не скажут.
Глубокую задумчивость старика внезапно прервал знакомый, веселый голос: как из земли вырос перед ним Крюков, легок на помине.
— Сила Гордеич! А ведь я вас ищу, ей-богу! Кузин новую моторную лодку купил, всю нашу компанию собрал. Лодку, значит, испытать хотим, по Волге прокатиться. Kстати, первое мая нынче. Но только без вас никак невозможно! Послали меня за вами, а вы — тут! Хорош денек нынче! Идемте, Сила Гордеич, все уже на пристани ждут!
Крюков шумливый, как всегда, в своей поддевке и красной рубахе, не говорил, а кричал, размахивал руками обычаю своему котлом кипел. Никогда не молчал этот шумный человек, не устает и не спит, должно быть никогда! А уж как пристанет, ни за что не отвяжется, до смерти заговорит!
Сила Гордеич мрачно посмотрел на него поверх очков, махнул рукой и улыбнулся: любил за что-то Крюкова.
- Так я с вами, с пьяницами, и поехал! — шутливо Причал он. — Нашли дурака! Знаю я вас: наберете всяких бутылок, напьетесь, а потом — тонуть. Слуга покорный!
Сила Гордеич встал со скамейки и поклонился. Потом сделал вид, что хочет уходить.
- Сила Гордеич! — взмолился Крюков, идя рядом с ним — вот те крест, вот те истинный — ни капли не возьмем! С какой стати? Ни боже мой! Все как стеклышко будем. Прокатимся тихо, смирно, по-хорошему. Боже, избави, чтобы что, а—либо еще что, а не то что!
Сила Гордеич засмеялся болтовне Крюкова, но продолжил шагать к своим хоромам.
Это ободрило озорника. В знак своей честности он даже перекрестился.
- Вот те крест, ничего спиртного! Да неужто же будем пить? Как стеклышко!
- Знаю я ваше стеклышко! А жаль! Кабы не пьянство ваше, поехал бы. День-то нынче! Я все любовался.
- Господи! — закрестился опять Крюков.
- Ну, ладно, вот придем, велю дрожки заложить, только ты смотри у меня, цыган! Чтобы ни-ни!
Когда пришли в дом и к подъезду поданы были вожжи Сила Гордеич сказал, надевая пальто:
- Не верю я тебе. Не надо бы мне, старику, связываться с вами, да у меня сегодня настроение какое-то особенное.
Он пошел вперед, а Крюков, следя за ним глазами, выхватил из буфета бутылку с коньяком, с быстротой молнии спрятал ее в карман поддевки и, садясь в пролетку, продолжал свои бесконечные уверения. Сила Гордеич недоверчиво качал головой.
Вверх по Волге, против течения, разрезала и пенила встречные волны острогрудая моторная лодка; она прочно и глубоко сидела в воде: не ее поднимали волны, а она резала их пополам и, как хищная большая рыба, смело мчалась вперед, одолевая быстрое течение, разбивая желтогривые певучие волны, Мчалась она, словно затерявшись среди водного раздолья: чуть виден был на высокой зеленой горе златоглавый старый город, а другой, луговой берег чуть-чуть маячил на горизонте.
В лодке сидели не кто-нибудь, а именитое купечество города, человек восемь, — все имена, все фирмы, силь-ные волжские воротилы, и уже не старое поколение, а молодое: сошли со сцены старики—кто в могилу, кто на одр болезни. Только один Сила Гордеич не отстал от молодежи — да еще какую марку держал! Уже никак десятую рюмку пил. Разошелся так, как давно не расходился. Уже не сердился, что его обманули: откровенно на самой середине лодки стол поставили, белой скатертью накрытый, а из погребца водку, и коньяк, и пиво, и всякую закусь вынули; столько там всего этого оказалось, словно собирались они плыть до Астрахани. Сам Белоусов, хозяин лучшего колониального магазина, за СТОЛОМ бутылки и закуски умеючи расставлял, в стаканы и рюмки всякое винное зелье с прибаутками и присказками разливал, зубы Силе Гордеичу заговаривал. На заглавном месте, у руля — Кузин, опасный на воде человек: только одного Крюкова переесть да перепить не может, а больше к нему никто не суйся — бочка бездонная и озорник. Еще на суше — так-сяк, а как на воду попал - пиши пропало: никто ему не указ! С виду таково сладко и вкрадчиво тенорком говорит, а на самом деле — как есть Чуркин-атаман! И отец его, что помер недавно от запоя, такой же был, царство ему небесное, заводила-мученик. Бывало, как закрутит, так уж недели на две без просыпу. Тот был церковный староста в соборе, и этот за свечным ящиком таково смиренно стоит.
Так никогда своих обещаний не выполнял, и этому вера, а особенно среди Волги: тут он царь и бог.
Наблюдательно посматривает на него зоркий Сила Гордеич как будто пока ничего, не дошел еще до точки; Так у самого от коньяка старая кровь по жилам заиграла.
Скучной показалась Силе Гордеичу вся его мудрая, осторожная, беспокойная жизнь, захотелось чего-то чудного, красивого, но ничего по этой части, кроме разгула и пьянства, ему не было известно.
- Эх, наливай, что ли! — сказал он Крюкову и махнул рукой. — Да хоть бы песню спели.
Выпили уже, пожалуй, по пятнадцатой рюмке, а за песней дело не стало. Кузин, певун, завел сладким Тенором:
Среди лесов дремучих Разбойнички идут И на руках могучих Товарища несут...
Л уж тут все хором подхватили.
Сила Гордеич, конечно, не пел: куда уж петь под семьдесят лет? Только слушал, улыбался и качал голомой: ведь вот и разбойничья песня, а хорошая!
— Пароход навстречу! — закричал Кузин. — Ни за что не сворочу! Шире дорогу!
Дошел, стало быть, до точки.
Действительно, прямо на них валило двухэтажное чудище полугрузовой системы, с одним громадным колесом позади кормы; такие пароходы очень большую волну подымают.
Сметил, видно, капитан, или знакомый был, но пароход своротил направо, дал дорогу маленькой моторной лодке: догадались там, что едут на ней не простые люди! И, а волжские купцы загулявшие.
Ух, какие горы воды поднял за собой пароход! По сажени каждая волна, вся в золотисто-серебряной пет
— Ходу!—крикнул разошедшийся Кузин и повернул лодку прямо на саженные волны.
В лодке все зароптали.
— Ну, зачем? Зачем?
— Утонуть-то не утонем, — ободрял всех Крюков, — да ведь вымочимся понапрасну.
— Уж и так намокли!
Сила Гордеич молча уцепился за края скамьи. «Ох, уж этот Кузин! Еще хуже Крюкова. И зачем только поехал? Ведь знает он их обычай: на тройке поедут пьяные — лошади разобьют, на лодке — обязательно тонуть начнут».
Лодка врезалась в водяной кипящий холм и, конечно, не поднялась на него, а разрезала его пополам. В лодку через головы всех со звоном бухнула сразу целая масса воды. Еще момент — и лодка врезалась во второй бугор: опять в нее хлопнулась с грохотом тяжелая, холодная волна.
Никто не двинулся, не крикнул: все словно замерли, облитые водопадом. Еще одна такая волна — и лодка, захлебнувшись, пошла бы на дно, но Кузин, отрезвев, успел свернуть в сторону от водяных холмов, оставленных могучим колесом парохода.
Поругали Кузина, но не очень: все были пьяны и не поняли миновавшей опасности. Не обратили внимания и на то, что, как заявил машинист, руль сломался. Черт с ним! Чини, коли сломался, а тут согреться да обсушиться надо: выпить-то есть!
И продолжали пить.
Незаметно наступила ночь, черная, весенняя, беззвездная. Волга стала тихой и недвижной, как зеркало. Берега, река и небо — все слилось в. одну бархатную, теплую тьму Мотор бездействовал. Казалось, что лодка остановилась и стоит посредине реки. Все чувствовали себя хорошо, коньяку и водки было еще много. Они галдели и, как все пьяные, говорили разом; каждому хотелось многое рассказать, а другие, не слушая, перебивали.
Сила Гордеич тоже был пьян и думал, что он повеселился, отдохнул душой от всех неприятностей, тяжелых мыслей и тревог своей жизни.
На самом же деле лодка не стояла на одном месте: быстрым весенним течением ее мчало бог весть куда.
Шоссе шло вдоль берега моря. Море как бы отсутствовало попало Силе Гордеичу, развернувшись бесконечной синей пеленой на несколько верст ниже дороги. Сла Гордеич с любопытством посматривал на эту густую яркую полосу. Она чуть-чуть шевелилась глубоко ниже скал, деревень, красивых дач и зеленых виноградников.
Татарин-извозчик изредка оборачивался и показывал кнутом на примечательные места и дачи.
Сила Гордеич сидел в пролетке согнувшись, маленький, в плоском картузике, опираясь на вязовую палочку, хмуро посматривая через дымчатые очки, иногда дремал, думал о больной дочери и зяте-художнике.
Где они поселились и какой дом выстроили — Сила Гордеич не знал. Писали, что далеко от моря, в глуши, в долине какой-то. Вот и едет Сила Гордеич навестить родных.
Перевалили горный хребет и, проехав какое-то татар¬ское село с мечетью, базаром и глинобитными кофейнями, свернули вправо, за околицу. Здесь пошла мягкая проселочная дорога. Перед глазами Силы Гордеича неожиданно предстала широкая, овального вида зеленая долина в несколько верст длиною, окаймленная голубыми горами, густо заросшими кудрявым лесом. Кругом была необыкновенная тишина. По краям долины, на склонах гор там и сям белели татарские деревушки, а по сторонам дороги зеленели всходы ржи и пшеницы.
Кое-где попадались одинокие приземистые, ветвистые Дубы. Похоже было немножко на приволжские поля, на дороги жигулевские. Сила Гордеич улыбнулся.
Стало легче на душе после крутых и скалистых гор, после громады пустынного моря, которое скрылось теперь позади, за перевалом; широкий простор долины ближе, приятнее его степному сердцу, да и жизнь здесь — настоящая деревенская, трудовая. Навстречу попадались татары с косами и граблями; татарчонок, ехавший шагом в телеге — «мажаре», запряженной парой белых волов с цветами на рогах, играл протяжный, жалобный мотив на самодельной дудке-жалейке.
Поперек долины, наискось, вилась малюсенькая извилистая речонка, вытекавшая от подножия гор в глубине равнины и уходившая в ущелье между зеленых, лесистых холмов. На выгоне паслось стадо коров, по оголенным склонам гор ползали овцы.
«Совсем как у нас!» — подумал Сила Гордеич, вспоминая свою пастушескую жизнь.
Дорога привела прямо к речке, которая, растекаясь в этом месте, струилась по камням прозрачным, мелким ручейком. Переправились вброд: по колено не было лошадям. Влево виднелось селеньице в одну улицу, с околицей, с деревянной церковкой, с приземистой каменной мечетью.
Здесь кончалась долина, упираясь в высокую, горбатую гору, покрытую лиственным лесом. У подножия горы был огорожен участок десятины в три, а у самого леса стоял двухэтажный дом из серого дикого камня. Окна были квадратные, саженного размера, наверху — крытый балкон с колоннами: этакая вилла! Удивился и неприятно поражен был Сила Гордеич: «Дворец выстроили! А зачем? Денег, чай, сколько ухлопано! Надо бы с маленького начинать, скромненько!»
От дома, стоявшего на пригорке около леса, выбежала навстречу большая рыжая собака, сенбернар, и густым, зычным лаем встретила коляску, шагом подъезжавшую к дому. С нижнего балкона, обвитого плющом, вышла Наташа с открытой головой, в белом платье, а за нею Валерьян с красной феской на голове, в каких-то широких штанах с кушаком: на татарина похож.
Коляска остановилась у террасы, и Сила Гордеич, улыбаясь своей лисьей улыбкой, с кряхтеньем вылез из экипажа. Собака громогласно гавкала на лошадей.
- Фальстаф, на место! — кричал на нее Валерьян.
Сила Гордеич пожал руку дочери и зятю, но не стал целоваться (целовался он только в пьяном виде, в трез-вом же был всегда сдержан).
- Эх вы, колонизаторы! — сказал он, качая головой. - Ну что, в какую глушь забрались?
— Да ведь здесь хорошо, папа, — возразила дочь, волнуясь.
— Не бранитесь, дедушка, — говорил Валерьян, беря его под руку. — Пойдемте-ка в дом! Как раз к обеду приехали!
— Дом, дом! — рычал Сила, шагая между ними и поднимаясь. на крыльцо террасы. — Экий домина! Моты! Бить-то вас некому!
Зорко поглядел на дочь: ничего, с виду будто не и худела, а Валерьян загорел.
Через стеклянные двери вошли в столовую. Большой стол уже был накрыт для обеда. Комнату украшал гроадный камин, сделанный из неотесанного камня розового цвета. Сила Гордеич высоко поднял брови.
- Это еще камин-то зачем? Каких, чай, денег стоило!
— Из местного камня, из нашей же горы ломали, совершенно бесплатно, а, между прочим, здешняя порода мягкого мрамора. Дешево и сердито!
— Ладно, заговаривай зубы! Хорошо-то оно хорошо, а тысяч пятнадцать, небось, ухлопали в дом? Будете ли тут жить — неизвестно, а сдавать некому. Ежели не сдавать и сами не будете жить, — значит, пропал капитал. Э-хе-хе!
Старик сел на диван, покрутил головой и опять сказал:
— Колонизаторы! А где внучонок-то? — вдруг спохватился Сила.
— В лесу, с нянькой гуляет, — сказала Наташа. — Сейчас позову: обедать пора.
Она вышла через стеклянную дверь на террасу. В квадратное окно столовой виднелась перед лесом небольшая поляна; лес поднимался в гору, и от этого деревья казались необычайно высокими. Между кустами вилась полузаросшая травою дорога.
— Ау! — послышался протяжный контральтовый голос Наташи, повторившийся эхом в зеленом кудрявом лесу.
— Ну, иди, Валерьян Иваныч, показывай дом-то! — примирительно сказал Сила Гордеич и добавил с ус-мешкой: — Строители! колонизаторы!
— А что ж, — возразил, улыбаясь, художник, — это — по моей части. Сам сочинил план дома и сам ру-ководил постройкой. Полгода жил в шалаше около леса... Люблю строить, Сила Гордеич. Приятно жить в шалаше, когда знаешь, что строишь дворец, когда собственный рисунок превращается в реальность, когда из диких камней, глины и дерева создаешь что-то художественное. Таким реальным творчеством я в первый раз занялся и, несмотря на тысячу неприятностей и трудностей всяких, строил с наслаждением. Вот посмотрите: дикое лесное место! С сотворения мира не было здесь ноги человека, земли этой не касались плуг, топор и лопата. А теперь вырос, как по волшебству, прекрасный дом, земля обработана, посажены культурные деревья! Меня такая работа увлекает и радует.
По широкой витой дубовой лестнице, освещенной громадным окном с разноцветными стеклами, они поднялись во второй этаж. Там было две комнаты: в одной помещалась мастерская художника, в другой, поменьше, выходившей на балкон, стоял шкаф с книгами, вделанный в стену.
С балкона открывался широкий вид на всю долину с голубыми горами на горизонте. Солнце спускалось к горам. Из-за гор ветер доносил морской соленый запах, смешанный с запахом ржи и полевых цветов. В зеленом просторе долины кое-где яркими пятнами горели крупные красные маки, словно кровью обрызгивая изумруды хлебных полей.
В необыкновенной тишине ясно слышались отдален¬ные горловые звуки заунывной татарской песни невиди¬мого восточного певца, скрип арбы, мелодичный звон колокольчиков пасущегося стада, чей-то далекий, но ясный разговор. Близкий лес шумел под теплым ветром.
— Здесь жили когда-то скифы, — продолжал Валерьян: — около деревни и кое-где в долине и посейчас стоял врытые в землю каменные «бабы»—скифские памятники, а от деревни через горный хребет есть доисто¬рическая дорога, высеченная в скалах, проложенная еще во времена переселения народов. Именно здесь, через эту долину, выливались они из Азии в Европу. Татары пользуются этой дорогой для вьючного пути в Ялту: она втрое сокращает расстояние; поэтому ее чинят и поддерживают. Я часто хожу по ней на Южный берег. С вершины горы приходится спускаться по циклопической каменной лестнице; называется она по-татарски «Шайтан-мердивенн» — Чертова лестница. Идешь и думаешь: вот тут много веков назад шли народы, а начиная с этой долины по крымским степям кочевали легендарные скифы.
Сила Гордеич слушал, смотрел через очки на долину и жевал сухими старческими губами.
- А какая разница? — возразил он. — Что скифы, ЧТО ТАТАРЫ наша мордва и черемисы, которые и посейчас МОЛЯТСЯ И кобылятину едят, — помоему все одно.
Сила Гордеич помолчал.
- Мечтатель вы, фантазер, Валерьян Иваныч! А я вот практический человек: летом здесь, действительно, красиво, привольно, ну, а зимой-то как? Ведь зимой здесь сибирка? Как жить будете? Вы-то, чай, не скифы?
Валерьян засмеялся.
- А мне и зимой здесь нравится. Жил я тут всю зиму, когда дом строили. Выйдешь из дому — лес шумит и не чувствуешь одиночества. Лес — он живой, я лесной язык понимаю! Вечером камин, бывало, затопишь, Иван, мой слуга, придет с разговорами, в столовой лампа горит, собака у огня лежит и к ночному ветру прислушивается. Хорошо!
- Это какой Иван?
- Да из вашего села, по прозвищу Царевич. Знаю я этого Ивана. Молодой парень, от отца длился, да и уехал. Из села Царевщины выходцы они.
- Ну, вот этот самый Иван Царевич с Волги и припер ко мне, да не один, а с женой вместе. Она — кухарка нас, а он — работником. Ничего, честные, работящие люди.
- Эго хорошо, что своих взяли, из наших мест. Ужо поговорю с ними. Как же все-таки думаете жить здесь? Я зимой-то вам, думаю, в столице надо быть?
— Что ж, буду ездить. Вся эта затея — для Наташи: доктора из Крыма ее не отпускают, — все еще легкие не в порядке, да и не любит она городскую жизнь, и ких людей боится, а вот деревня, природа, дети да домашние животные — это ее мир!
— Что поделаешь? Выросла в степи! Все мы, видно, скифы, Валерьян Иваныч.
Старик засмеялся низким, грудным смехом.
— А летом, — продолжал художник, — я здесь работать буду. Хочу, чтобы этот дом не для одних нас существовал, хочу собирать здесь на летний отдых знакомых художников, чтобы для них летний приют здесь был. Будут писать, работать, вдохновляться. Вот и общество будет у нас. Создам здесь этакий культурным
уголок.
— А из местных-то жителей никого, видно, нет знакомых?
— Есть и из местных. Вот рядом, в десяти минутах ходьбы, живет мой петербургский приятель; он мне и продал участок; отрезал от своего. У него тут хорошее хозяйство, сад и мельница. Есть еще за перевалом, верстах в десяти отсюда, на берегу моря — целая колония: артисты, писатели, художники; сообща купили землю, разбили на участки, и каждый себе домик построил. Все мои друзья и знакомцы. Вообще теперь в Крыму, действительно, идет колонизация! Этакая мелкая демократизация: всякий небогатый народ на землю потянулся. Даже актеры и художники — уж на что бездомный народ! — все стремятся свой клок земли иметь и хоть какой-нибудь угол. Есть здесь даже профессорский уголок...
— Это понятно: никто так не мечтает о земле, как те, у кого ее нет. Вот и вы тоже...
— Конечно! Ведь, в сущности, учредить Академию художеств в Петербурге, где и солнца-то почти нет ни¬когда, — нелепость! По-настоящему академия для художников должна быть там, где много солнца и света, где, как здесь вот, такая красочная природа. Но что поделаешь? Придется каждую зиму все-таки являться в столицу.
— Есть ли с чем являться-то? Пожалуй, эта возня с больной женой да с постройкой отзывается на работе-то?
Валерьян вздохнул.
- Пожалуй, — согласился он. — За последнее время было всяких треволнений, но я работал даже; постройки на воздухе. Хотите, покажу вам мои крымские работы?
- Пожалуйста! — Сила Гордеич улыбнулся, поль¬щенный Ценитель я никакой, а все-таки хорошее от плохого наверно сумею отличить. Хе-хе!
Смеясь, они пошли в мастерскую художника.
После обеда Сила Гордеич обошел все шесть комнат дома и вместе с Валерьяном пожелал осмотреть участок. Начали сверху, с леса, откуда слышались удары топора.
- Это Иван лес чистит, — сказал Валерьян: — очень уж зарос густо.
Поднимаясь в гору, шли по узенькой лесной дорожке на небольшую поляну. Среди кустов вылез высокий молодой парень в ситцевой рубахе, с топором в руках, воткнул топор в дерево, снял рваный картуз и поклонился, откинув белокурые волосы.
- Зжравствуйте, Сила Гордеич, с приездом вас!
Старик улыбнулся.
- Это ты, Иван?
- Я самый и есть. Помните, может, меня? Мы с отцом моим тожем работали у вас, тоже по лесной части.
- Помню, помню. Я и не знал, что ты сюда переселился. Что же ты бросил родную-то деревню?
Парень осклабился. Одна рука у него полезла в затылок, другая — за пояс. - На заработки отправился, Сила Гордеич. С отцом разделившись. Не у чего стало жить, — в земле утеснение. Ну и того... прямо к Валерьян Иванычу: все- таки, как бы сказать, не к чужим людям. Около дома Черновых кормимся, Сила Гордеич!
Сила Гордеич проницательно посмотрел на парня: Иван Царевич стоял в прежней позе, с одной рукой за затылком, а другой — в затылке, и смущенно улыбался. Ему было едва ли двадцать лет. На верхней губе бледного нервного лица с голубыми глазами чуть-чуть пробивался золотистый пушок.
- Ну, как? Лучше, что ли, здесь-то? Рыба ищет, где глыбже, а человек — где лучше, Сила Гордеич!
- Он правды ищет! — добродушно заметил Валерьян.
Сила Гордеич иронически усмехнулся.
- Правды? — протянул он, поднимая брови. — Ишь чего захотел! Что ж, ты ее с хлебом, что ли, есть будешь, правду-то?
Иван Царевич почесал в затылке.
- Раздери тому живот, кто неправдою живет, Сила Гордеич! — во все лицо улыбнулся он. — Нынче весь свет правду ищет, а она и не слышит!
- Ты знаешь, — строго сказал Сила Гордеич, — правда-то, говорят, в тюрьме сидит, а неправда по свету гуляет?
Иван радостно улыбнулся.
— Истинную правду изволили сказать, Сила Гордеич. Я потому и к Валерьяну Иванычу прилепился, что правильные они, за правду стоят. Чтобы, значит, всем уравнение!
Сила Гордеич нахмурился.
Иван опять почесал в затылке, собираясь что-то прибавить, но вдруг, обращаясь к Валерьяну, сказал, понижая голос:
— А что я вам скажу, Валерьян Иваныч: татары говорили мне — в поселке-то у писателей гости были вчерась. Гы!
— Какие гости?
— Известно, какие! С обыском которые. Говорят, скоро и здесь будут. Ждите гостей, Валерьян Иваныч!
— Что же они ищут? — недовольно спросил старик,
— Да не иначе, как правды, Сила Гордеич! — Иван широко улыбнулся.
— Вот не было печали, так черти накачали! А я-то думал — тихо здесь!
— Последняя туча рассеянной бури, — сказал Ва¬лерьян: — все еще после пятого года отрыжка идет. Ну, я спокоен: за мной ничего политического нет!
Сила Гордеич покрутил головой.
— Вот вам и культурный скит! — зарычал он, подымая брови. — Эх вы, цивилизаторы!
— А про вас, Сила Гордеич, — продолжал Иван, — уж вся долина говорит, татары языком причмокивают: старшая хозяина приехала, деньги-деньги много есть!
Иван опять почесал в затылке и, обращаясь к Валерьяну, заговорил деловито:
- Корову-то мы хорошую купили, Валерьян Иваныч. - Теперь беспременно с лошадью будут набиваться. Сеит- Мемед жеребца продает, а Мустафа кобылу; того гляди, оба придут.
— Мне-то что? — ответил Валерьян. — Придут — так сам и гляди! Я в лошадях толку не знаю, вот разве Силу Гордеича спросим.
— Мое дело тоже сторона, — насторожившись, отозвался старик Вам, чай, не рысака покупать?
— Знамо, не рысака, — хозяйственно отозвался Иван. — Нам, Валерьян Иваныч, лошадь надо крестьянскую, смирную, а жеребец — он для хозяйства не годится. Знаю я их: все умный, все хороший, да вдруг, с бухты-барахты, как зачнет озоровать! Одна склока с ними!
От дома послышался густой лай Фальстафа.
— Кто-то едет, — сказал Иван. — Пойду, погляжу.
Он взял топор и направился к дому.
— Вот оно, новое поколение мужиков! — сказал, глядя ему вслед, Сила Гордеич. — В пятом-то году, поди, мальчишкой был, а уж дух в нем новый. С отцами не уживаются. Не то что в земле утеснение, а взгляды изменились. Не хотят по-старому жить. Свободы хотят да правды какой-то.
Старик вздохнул и задумчиво стал чертить палочкой по земле.
— Эх, Россия!.. Что-то будет с ней через двадцать лет?
— Одна революция провалилась, теперь второй ждут, и так уверенно говорят, что только в сроке разногласие: одни ждут через пять лет, а другие — через двадцать пять. Но что она будет — в этом никто не сомневается!..
— А вы как думаете, Валерьян Иваныч?
— Я так думаю, что если ничего особенного не случится, ну, там войны какой-нибудь неудачной, — Россия лет сорок по-старому стоять будет, а больше как на сорок лет прежнего кафтана все равно не хватит: разлезается по швам.
Старик, шагая по тропинке рядом с Валерьяном, задумчиво жевал губами.
— Вот и вы, Валерьян Иваныч, как будто тоже второй революции желаете; а ведь ее не надо желать, — от нее ничего хорошего вам не будет: ведь при конституции-то мы, коммерсанты, вас, демократов, во как прижмем!.. — Сила сделал энергичный жест.
— Ну, значит, вам она на руку?
Сила Гордеич вздохнул.
— Кабы умные да сильные люди наверху, обошлась бы Россия без революции. И работник ваш, Иван Царевич этот, на новые земли пошел бы тоже: вижу я, о пол¬ной свободе на своем клочке мечтает. Забрались в глушь такую, колонизаторы! Что он у вас делает-то?
— Все. И землю пашет, и в садоводстве смыслит. Работник отменный! Он не из корысти, а по идее какой- то мужицкой предан мне: думает, что я из тех, которые за народ стоят и новые порядки заведут.
Сила Гордеич усмехнулся.
— Вижу, вижу! Одного вы духа — и хозяин и работник. Ну, только смотрите, как бы к вам в самом деле полиция не пожаловала! Мой совет — ежели есть кни¬жонки какие, припрячьте! У всех у вас сказки какие-то в головах. Художнику оно, может, так и надо, а ежели народ вместо правды в сказку верит, тут уж хорошего нечего ждать.
У крыльца стоял Иван и, прислонив козырьком ладонь к глазам, иронически смотрел на низ участка, к воротам.
Рано утром кто-то постучал в комнату Валерьяна.
— Валерьян Иваныч, вставайте! — послышался тихий шепот Ивана. — Гости пришли!
— Какие гости?
— Полиция!
Валерьян вскочил и выглянул в окно. Дом был окружен цепью солдат, вооруженных винтовками, а на парадное крыльцо взбирался пристав. Валерьян надел туфли, накинул халат и вышел в столовую.
Перед ним стоял солидный бородатый пристав. Он официально, слегка поклонился.
— Извините, что по долгу службы должен вас потревожить!
— В чем дело?
— Приказ от главноначальствующего города Ялты. Будьте добры расписаться!
Он вынул и положил на стол бумагу.
Валерьян прочел.
Это был приказ произвести обыск в доме художника Семова и объявление о выселении его из Крыма в трех-дневный срок.
— Что за причина? — нахмурившись, спросил Валерьян.
— Не могу знать. Наше дело — служба. Разрешите сделать осмотр вашего дома.
— Пожалуйста, только у нас все еще спят. Присядьте немного, я разбужу жену и ее отца.
Пристав сел за стол.
— Почему вы так сильно вооружены и столько войска с вами?
— Так полагается. Случается, что вооруженное сопротивление оказывают.
— Да вы же знаете, что я художник и никакой политикой не занимаюсь.
— Знаю, но такой приказ... Так вы говорите, что и отец вашей супруги здесь?
— Да, вчера приехал погостить.
— А бывший депутат Пирогов, кажется, тоже в родстве с вами состоит?
— Да. Так неужели это и есть причина обыска и выселения меня из собственного дома?
— Очень может быть, — пробормотал пристав, раскладывая на столе бумаги. — Чем бы ни кончился обыск, но вы обязаны через три дня выехать отсюда» Распишитесь, пожалуйста!
Валерьян расписался и пошел будить Наташу. Но она уже встала. Наверху слышались шаги и старческий кашель Силы Гордеича.
Через несколько минут комната наполнилась людьми в военной форме, в шпорах, с тесаками и саблями у пояса. В доме началась возня. Загудел говор грубых голосов. Начался обыск. Валерьян и Наташа с расстроенными лицами следили, как разворачивали содержимое комода, письменного стола, сундуков и чемоданов. Пристав расположился в библиотеке и тщательно перелистывал каждую книгу. Сила Гордеич мрачно ходил из угла в угол, ни с кем не разговаривая.
Весело было только маленькому мальчику. Беспорядок в доме казался ему веселой шуткой.
— Папа, папа! — теребил мальчишка отца.
— Что тебе? — сурово спросил Валерьян.
Мальчик потянулся к уху отца и сказал потихоньку:
— Нельзя ли, чтобы эти люди к нам каждый день приходили?
— Зачем тебе?
— Они мне нравятся.
— Чем же они тебе понравились?
— А у них сабли! Скажи им, чтобы дали мне одну подержать!
Отец невольно улыбнулся,
— Сейчас нельзя. Ты видишь, как они заняты? Подожди, когда вырастешь, тогда ты сам возьмешь у них сабли.
Мальчик вздохнул и задумался.
— Ну-с, Валерьян Иваныч, как же теперь быть? — хмуро спросил Сила Гордеич, остановившись перед зятем, закинув руки за спину и смотря поверх очков.
— Придется мне уехать, а Наташа останется. Не навек же меня высылают? Поеду в Ялту к генералу, объяснюсь: ведь это же глупейшее недоразумение!
— Так-то оно так, но на здоровье Наташи это плохо отразится. По-моему, уезжайте уж оба или в Севастополь, или в Балаклаву. Что за напасть такая, в чем вас обвиняют?
— По-видимому, в родстве и дружбе с Пироговым.
Сила Гордеич плюнул и, кряхтя, полез наверх. На лестнице обернулся и зарычал:
— Черт бы побрал всю вашу политику и всю вашу затею! Ноги моей здесь больше не будет!
Сила Гордеич крепко хлопнул дверью.