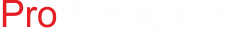* * *
Уже в начале января, блуждая, входит свет в лес непроглядный.
Будто проснешься,
но грезишь еще и, глянув во мрак,
дерево видишь,
да, дерево, которое мрачнее распластанного неба, синеющего потихоньку.
Встаешь, дверь настежь, в путь.
Там майский ветер над пашней пляшет.
Путь жизненный — он в зелени змеи гея, и окоро — стоп, с дороги уходи.
А солнце низкое — оно пылает над нивой наливной, глубоко в сердце.
И в нерешительности вниз идешь, в ладонях родниковая вода — тем, кто еще не напоен и хочет пить.
А холода нагрянут — и тут как тут болезнь, жди со дня на день.
Забрезжит свет вдали, там, на границе лет, свет рождества.
Миг—и декабрь задул, и мрак царит в жилье, что числилось за нами.
* * *
Как будто с высоты я вижу ширь морскую под покрывалом темных облаков,
изменчивая бесконечно плоскость, подвижная, а все же неподвижна,
плоскость, предельно ясная при встрече с мраком, и рядом моря гул, а все же тишь,
а там, под переливами, там мрак, безмолвие и стынь.
* * *
Дверь распахнулась в сад.
Забытый там лежал инвентарь садовый. Через березы пробивался свет, с дороги слышался слабый гул, заменявший ветер.
Я стоял, в одиночестве пяля глаза.
Землю сковало морозом, она бугрилась, облако мигом прочь унеслось, будто промчалась машина сквозь городок, где окна дождем побиты.
* * *
Я спокоен, не зрим никому,
мое одиночество всем безразлично,
я в комнате собственной, пустой и безветренной, только вот ласточка бьется,
сбилась с пути, с криком летает вдоль стен, тенью витает,
пока не найдет прорезь окна и выпорхнет вон,
освобожденная...
* * *
Прежде чем сон прояснится, придвинется ближе пейзаж, снегом накрытый, который приснится, чтобы проснуться тебе, в комнате, в пространстве без стен темно.
Так будет, прежде чем ты постареешь, и в памяти лес увидишь, и словно пути оборвались.
И грезишь, будто мрак — это влага,
будто она вкруг тебя шевелится, словно прикосновенье, и все повествует несколькими голосами — нет, хором огромным в безлюдной зимней ночи.
Проснешься, тишь, ни души.
Слышен звук, но мир в немоте, всюду потемки, проезжие пусты дороги.
* * *
Снег, он-то и высветлил мрак.
Снег.
Снег, он-то и вымягчил почву, твердую почву с телами умерших, снег.
В самую темную пору падает свет, почва становится чистой, словно она безответна.
Снег, он-то нас и укрывает.
Снег.
Солнечный свет словно бренность,
стелется мягким дымком.
В глубокие бухты уносит туман, день иссякает.
Осины дрожат, ширь
безлюдна, звенящие вьются дороги.
Движутся люди по ним как по воздушным мостам, зрячие и без речей, долгие тени бросая.
Не * *
Прогулка по лесу высокому, холодок. Между стволов — свет из долины, глубокой, прозрачной, с водою
бегущей,
мчащейся льдистым потоком, и борозды струй
серебрятся.
Долгий на гору путь и обратная к дому дорога.
Сокола тень различима едва на траве, треплемой
ветром.
Я одинок! Вот и сумерки гуще в лесу,
зреть начинает тоска по людским голосам и долинам.
Не Не Не
Яблоко по-утреннему ладонь холодит, сквозь ветви яблонь лучи дробятся.
В небе звучат металлическим дребезгом вскрики осенние журавлей.
Пятнами проступают в траве следы, где прошла ты, от сна еще теплая.
Господи, да ведь морозно— скоро закружатся белые мухи.
Не Не Не
Как будто в снеге лёгшем остается портрет зимы, а в воздухе храним знак ветра.
Как будто в почве обнаженной скрыты пронесшегося лета голоса и радость, которая могла родиться.
Как будто вечно наши вёсны новы — привет того, кто грезит и ютится в немой ночи.
* * *
Какая-то существенность исходит от земли, поскольку в ней так много мертвых скрыто.
Луг, о, как он красив, весь облик светел.
Какая-то существенность в корнях — из-за нее
и крона выйдет светлой.
II
* * *
Кто-то из комнаты вышел, оставив одежду.
Что там случилось?
Кто-то дверь никак не закроет.
Вынесли что-то тяжелое — вроде кровати, дивана, стола.
Теперь, кажется, убрано все.
И воздух свежее стал, когда распахнули окно.
Можно и стены теперь перекрасить, чтоб от пятен следа не осталось.
Только сырость висит пеленой.
Кто-то вышел на солнце, но следов не отыщешь.
* * *
Он серый свой пол застлал рдеющими коврами.
Он их купил по дешевке. Никому невдомек, что они
подделка,
в курсе лишь Крупный Специалист, но тот никогда
не придет.
Он окна завесил гардинами — мягкими вблнами шелка. Встал на ковер—взор был от голода слеп.
Свите его—жене и детям — надлежало ковер
перепрыгнуть.
Он продирался сквозь мрак, а тот гнался за несчастным. Он был прав: тьма гналась за ним, настигала его, когда он, беззащитный, в ночи просыпался.
Он был всеми покинут:
все слышится в комнате шум, не взлом ли, он прав, он не движется больше, держит во тьме руку у глаз, она холодна, непослушна.
Каждый день он в жизнь свою входит
и из нее возвращается вновь.
Он словно автомашина. У машины есть своя цель.
Тяжело перекресток проедет — и в гавань.
Он остановится там, видит свет, расстеленный над морем и облаком скрытый. Словно он все это видел когда-то.
То, что он видит,— снаружи, в пространстве незримо.
Речь о волнах, но гладь совершенно спокойна.
* * *
И всего-то краткий миг, миг-драгоценность:
ты вдруг сказала то, что как глоток воды —
миг этот краткий, как жизнь прикосновенья.
Памяти Иоганнеса Бобровского
Потом, когда дети из комнаты вышли, ушла и она, ни во что не веря, время стало, стол стоял, ненакрытый, пустынный, и никаких голосов.
Ты уходишь, но обедать пора,
стол накрыт,
ну еще хоть мгновенье.
3
Внезапно в лесу ударила молния
без предупрежденья из ясного неба, ударила этих детей, сломала под корень.
4
Ты жизнь моя, жизнь — это я сам с собой говорю,
сам себе задаю вопросы.
5
Я вернулся домой лампа еще горела
6
Научиться ждать — но чего же, чего?
Недостающей, темной, стоячей, глушащей воды.
7
Отрад мимолетных так много: песок, асфальт, и не забудь всё нежное, преходящее всё.
Виною старость:
лица нагая беззащитность
боль причиняет,
но что же за высокопарность
и что за ночь.
9
Я не видел тебя, я побежал мимо тебя, внутрь тебя.
Но вот, с прядями света в твоих волосах,
наедине мы остались и друг к другу...
10
Ты видишь, видишь: вода настолько светла, что тебя ослепляет!
11
Березы струятся, как речка, как слезы...
12
Нет мига, когда б немота не парила
над кладбищем,
даже когда не молчишь.
* * *
Нутро его было черно
и молчало в ответ, как бы она ни стучалась, как бы кожу ему ни рвала в сладострастье. Своею дорогой он шел в глубину, а не к ней, он шел в глубину — и мимо.
Он рядом, а в мыслях далек, далек, как солнце и тучи над полем.
Она говорила: «Я не вынесу,
чувства не выдержат, а убежать от тебя нет сил. Останься со мною, я тебя никогда не покину».
Он ответил: «Есть что-то такое, что прочь увлекает меня,
может быть, это и есть моя жизнь,
мои чувства. Это отнимешь —
все потеряешь, и я потеряю,
если своею стезей устремлюсь вперед».
Молча он встал и стоял так
один, невидяще глядя на свет слепой
от луны, которая там, за тихим лесом, висела.
На миг ему показалось: он жизнь свою видит, но потом его отпустило, он из комнаты вышел, молча, губы сомкнув. Разыгралась потом непогода, в сумерках траву и ветви рвала, а двое лежали без сна, без надежд, не роняя ни слова.
* * *
Уста раскрытые не говорят ни слова, трава, вода прохлады не приносят, песок к гортани прилипает, из крана брызжет сернисто-желтая вода,
старики на стульях сидят в темноте,
время идет как хромой по натертому полу,
зрячи глаза, но ни бельмеса не видят — ни косогора
солнца
с неба на море, ни тритонов, ни шири холодной:
ты спишь на траве, и губы ласкают твой лоб,
на тебя умершие смотрят, словно тронуться в путь
собрались
и тебя увести, тебя окружили и в который раз решили не трогать под прохладным плетеньем ветвей.
* * *
Вот я ощущаю тебя — словно всхожу на порог из темной комнаты в светлую, и выстирана тьма и аккуратно сложена.
Вот я касаюсь тебя— словно я из земли прорастаю, что течет благоухающей массой под нами, когда мы на спинах покоимся посреди жизни в темных комнатах, в светлых.
Дни
мимо бегут, требуют больше покоя, больше молчанья.
Живем как зерно потаенное, в нем крона внутри тянется ветками к небу.
* * *
Он гвозди за зиму проржавил
и в колоду дубовую вбил
как-то вечером, после ночи бессонной.
Словно кто-то его заставлял.
И казалось ему, что борта он у лодки сбивает, вот дерево мчится, и вода восхищается им. Ежами топорщились гвозди, пот градом катился на плечи.
Он попытался колоду поднять, но гвозди вонзились в грудь.
И казалось, что все за ним наблюдали.
И казалось, что руки, гвозди и молоток прорубили отверстие в воздухе, немом и плотном, как камень.
И он не заметил, как ночь наступила.
* * *
Такие дни бывают,
как будто бы щербатый, в остриях
край разорвавшейся лампы.
Такие дни бывают,
когда напоминает свет звук от клещей, которыми осколки тащат
и потихоньку извлекают из резьбы все, что осталось,— и только после видишь
порез на коже
и машинально вытираешь кровь, полу ослепший.
* * *
Подъезжаешь к колонке с девяносто шестым бензином — там всегда на приколе другая машина, замызганная,
пустая,
просто стоит там, и всё, бог весть где хозяин.
По номеру видно, что здешняя.
У колонки самообслуживания — никого.
Грязно, промозгло, этот мерзкий неоновый свет, молот отбойный скрежещет, округу взрывая,— здесь роют, видишь ли, яму для новой цистерны.
Расплачиваясь, можешь купить сладости, кассеты, порножурналы.
Бак полон, масло сменили, идеально вымыто ветровое
стекло—
ты выезжаешь в объятья мрачного пейзажа, но вдруг кто-то из группки бездельников, неподалеку
стоявших,
успевает дернуть за ручку двери и с лицом,
как бумага, бледным невразумительно выкрикнуть что-то,
чего в толк не возьмешь, но испугаешься
или от бешенства просто подпрыгнешь на месте — потом,
когда будешь один мчать по дороге, а радио выдаст
несравненного, прозрачнейшего Вивальди.
* * *
«Доброй ночи»,— я говорю, и ты говоришь, и мы
ложимся,
и дыхание наше почти неслышно.
Никогда не бывает темно, если звук раздается снаружи словно дождь, словно шорох поздних цветов.
Да, цветут голоса в темноте, как мерцающий свет. Слышишь: ты—это мы двое, которые слышат ДРУГ ДРУга.
Я не лампа, которая светит в лабиринтах темных
коридоров,—
я — темные коридоры.
Ты не окно, которое открывается тем, кто бежит по
проулкам,—
ты — проулки.
Мы не дом, который в воздухе парит под мостами, мы — дом, воздух и мосты,
мы — комната, проулки, дом, что ныне городом стали.
ВАН ГОГ
Ветры смерти бушуют над этим засеянным полем. Черные птицы падают в зелень травы.
От бешенства небо ударилось в синь.
Здесь, в музее, мы рассматриваем стихии, а снег за окном мимо проносит шелушащийся дом с шелушащимися жильцами
* * *
Медленно, каскадами огней холодящих и стали, ослепляясь зеркалами мертвых окон, движется транспорт из центра во тьму.
Люди уходят домой или стоят молча в прогретых садах, слушают города грохот, который, в темном металле дробясь, умирает.
Словно при вспышке, центр пышет светом в небо, телекадры мелькают в раскрытых глазах ребенка. Медленно немота разливается тысячами немот.
Светит луна, одутловатая, склизлая, над лесами, свет ее как иней покоится на земле плоской, там, где бродят влюбленные, разговаривая без слов.
Перед отъездом он внезапно запаниковал.
Но не решился остаться.
Увидев, что набережная медленно отодвинулась, отодвинулся невзрачный пейзаж
с каким-то сараем и пристанью, он ощутил почему-то полное безразличье, свободу. Подождал немного и ушел в каюту.
Сел и взгляд вперил в закрытую дверь.
Слышался гул, словно от множества голосов, все они были далёки.
* * *
И был один, кто отказался.
Он закричал. Никто не слышал.
Вся жизнь его вместилась в лист бумаги, и слова походили на пепел от пожара.
Усталые лопатки ноября он видел.
По улице зеленые автомобили шли откуда-то, где все давно забыто.
Он, как дитя, в отчаянье за ними побежал
и тут проснулся, словно от удара.
Словами выстроил он стену.
Там жили те, кем стать он не сумел. Средь жизни стоя, мертвое он видел.
И даже мать ему не помогла.
Ему она нужна была здесь, взаперти.
О стены грохоча, проулки бились.
И все текло меж пальцев, как вода.
Он кровью истекал. Как глаз, он вытек беспомощно прочь из глазницы жизни.
А что еще в проулке кроме камня и мимо мчащихся автомобилей?
Мой сон был ясен, легок,
как будто все само собою разрешилось
иль попросту прошло.
Казалось, будто легкий снег, кружась пыльцою с дерева, ложится у ног моих.
Ширь снежная с весною голубой — не рановато ль, только мне-то что: я к этому готов.
Два-три людских следа. Высь неба, полей безмолвье.
* * *
На твердь морозную, на клич оленя в дымке наложен свет весны, песнь жаворонка.
На отблеск тростника, на изморозь наложен трепет лиловатых теней,
намек на крону ясную березы.
На каждый образ — ясная изнанка,
на видимое, чтоб его нам видеть
сквозь линзы радости, как малому ребенку,
мираж наложен, легкая листва на все еще глубокий зимний мрак.
* * *
На темный путь один как перст гляжу. Там люди, одинокие, как я, в броне одежды и в броне миражей. Между собой болтают, их слова мне речь мою напоминают в те ночи облачные, в дни
многоголосные. Я тоже там.
Бреду то на свету, то тенью скрытый, стволы мелькают, город все гудит, как меж цветов немых пчела. Послушай!
Кто-то запел, и вот меня увидел — и вот погладил, словно сына мать.
И запахами мрак наполнился, водой запахло, как после майского дождя, и трав цветеньем, высоким небом с пленкой облаков, листвой, бормочущей, как ливень, и немотой, которая одна всему черту подводит.
* * *
Весна упадает с неба, снег, как дымок, с ветвей.
Но он-то комнату запертую видит, вон кто-то встает из-за стола: смерть.
Бубенчики звякают, как сосульки,
бренчат, как клепсидра.
Жизни горький кусок плывет, как льдина медленно вниз по реке.
И приближаются вместе
высь лучезарных небес и мрак от мертвого древа, отвращенного взора, о, в оболочке чистейшей скрыта грубейшая плоть...
Разбужен попутчиком, он пред собою видит лес, небо весеннее, след от саней на оцепенелом, поблескивающем поле.
«Помню, когда-то такое казалось красивым.
Теперь мой темен пейзаж, без всякой охоты живу».
* * *
С именем твоим, Сильвия, ибо ты, как лес, ослепленного холодя, идешь боттичеллиевской Весною, непорочная, неподвижная...
Уже стемнело снаружи, голоса, возникшие случайно, прочь уплыли, когда сгустился вечер. Ты ушла, петляя между пиний,
оглянулась, словно оглядывается жизнь, окликая в последний раз: ей надоело петлять в тишине между этих деревьев.
* * *
Уже к концу июля замечаешь, что сумерки наступают все раньше.
Мы свет зажигаем, и он горит в темных окнах, и смутны сквозь стекла наши черты.
Свет вспыхивает между деревьев, и снова гаснет, и все сильнее нас теребит.
Уйдя, ты оставишь меня одиноким, как перст, безымянным.
* * *
Такого ты раньше не видел: летний вечер, легкий ветерок, шорохи ольшаника с прибрежья.
Такого ты раньше не слышал: как небо заполняется свеченьем, почти бесцветным, чистым светом.
Я все равно иду в иную тьму, она внезапно пала, дарю ее тебе —
ту тьму в лощине,
где кто-то вслушивался чутко
в плеск наших голосов —
портрет, с которым спишь.
В час одиночества такая тишь.
За гранью явного—того, что зришь.
Ты поднимаешься тропой к столу, там чистый лист бумаги.
Спеши—
как бы не сдул его свистящий ветер!
Там фрукты на столе,
цветы в простых бутылках и среди деревьев вон люди — оглядываются с ухмылкой.
Траурный плащ взмывает вверх со старого дуба,
но вот сложены крылья, и след простыл на очумелом небе.
А на столе-то, гляди,
лежит исписанный лист,
присядешь к столу, и вниз голова упадет
на поверхность столешницы зябкой.
Под рукою стакан ключевой воды, в траве высокой жужжанье пчел,
ку знечиков-телеграфистов стрекот.
И склон лесистый весь искрится, грозой отчищен — во сне, а может, наяву, мираж, поэма,
глаза закрыты, чувства нараспашку, как облако, как марь.
* * *
Тени облаков развернули поле вширь. Свет огромен, словно море с невидимыми тихими волнами.
Люди идут по ниве, что вызревает на ветру.
Спокойствие огромного пространства явствует из направления ветра: он дует прямо, замирает вдруг, чуть вечер переходит в ночь и дороги светиться во тьме начинают. И небо вширь развернуто, как поле.
Гайдн вышел в парк.
Он видит, как симметрию деревьев равнинный ветер искажает.
Вон тучи грозовые — чудища точь-в-точь, чьи голоса ползут из-под земли.
Первая виолончель придворного оркестра— он идет навстречу с опустошенным лицом.
«Как поживает Шарлотта?»
«Она вчера умерла, прямо в своей колыбельке». И оба смотрят на немые тени.
Темнеет небо.
«И в музыке нет утешенья».
«Затем и суждено ей продолжаться».
Эстергази, лишь приют случайный.
«Бывает же такая тишина. Послушай!»
Дождь незаметно начинает капать.
* * *
Не время изменяет нас —
пространство: лес, что низок был, как темная полоска, в тот вечер, когда мы были дети.
И до лодыжек нам была вода.
А путь, теперь он выпрямлен, дерево, дом, люди все так же видны из окна—
из окна в пространство, вовсе не во время.
Комнаты — пространство для ребенка, пространство для любящих: где птицы реют взад-вперед, пространство для тех, кто спит так легко, чтоб не слышать дыхание смерти.
В комнате та же мебель, перед окнами та же крона, словно комната—это твой взгляд, которому нет конца.