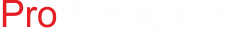* * *
Коричневая скатерть свисала почти до пола.
Под ней сидел я в черноте,
в душистых запахах тепла, капусты.
Небеса цеплялись за ржавые крючки,
съеживались женщины внизу. Цветы единственные городского лета.
Они носили ведра на задний двор,
где солнца не бывало никогда.
Отец читал газету, в среднем ящике стола,
словно приклеенные к середине, в большом порядке счета лежали,
деньги, квитанции заклада.
За домами качалось море масляным пятном, сверкало бликами, когда вдруг свесишься в чердачное окно. Но ясней всего я вспоминаю стол кухонный,
с него редко убирали.
Жизнь была бездонной,
нужно было осторожничать, приоткрываться и тут же замыкаться, чтоб раны ранние не бередить.
А небо было прозрачным над черным ходом.
Нужно было добывать деньги, чтобы жить.
Нужно было иметь угол, хотя б кровать за кухней, и копить на жилище попросторней.
В колодце нашего двора вода была чиста, как в роднике.
* * *
Было бессмысленно до блеска мыть окно,
что выходило во двор. Может, и к лучшему, чтоб ясно не видеть крыши соседние и трубы дымоходов, да и небо оставалось дружелюбным при взгляде из этого отчаяния. Когда шел дождь,
вода чертила улицы из капель почти серебряного цвета. На них я насмотрелся.
Что они сулили мне, не знал я.
* * *
Каждое слово падало звуком, его забывал я каждый день неизреченным ускользало оно.
Я про это не знал, я жил и мечтал,
как перед днем рождения, ждал я подарков.
* * *
Даже если было плохо с одеждой, с едой было всегда хорошо,
даже если было плохо с деньгами,
на самое необходимое находилось, даже если книжная полка дома была пустовата,
была ведь и библиотека, она была лучшей школой, чем школа, где колени немели и кожей я чувствовал гнет.
Даже если была зима, была и рождественская елка, свеча, бокал на столе, два бокала, и мое лицо, и лица тех, ушедших теперь.
Они жили той радостью, в которой им отказывали будни. Я был их радостью, их крохой на коврике лоскутном.
С тех пор ступеньки никакие меня не приводили в лучший рай.
* * *
Ночью зимней строил себе я корабль.
Он становился огромным, как «Лузитания»,
завладев всецело воображеньем моим. Он был, как парус, белый и огромный, нос его взрезывал черные волны.
Я спускал его на воду в декабре.
Я следил за скольженьем его,
что-то вдруг от меня отрывалось и прочь уплывало. Хлопьями мокрыми тихо ложился снег.
Дымом он пахнул откуда-то издалека, прощаньем.
Пожитками груженный грузовик собрал детей вокруг себя,
как лазарет доходны И бедность обнажилась в сквозном слепящем свете. Цветочные горшки—привет последний на надгробье прошедшей близости поверх надышанного скарба, белья постельного, кроватей, погнутых стульев. Все съежилось под жалким покрывалом, что медлило прикрыть нас.
Замечены мы были! И сами мы заметили, как наша комната пуста, где только что мы жили, обшарпаны полы, и в ржавчине плита, и на обоях пятна проступают.
И, сжавшись, сгорбившись, из комнаты ушла душа вещей вот этих жалких, тепла которых никто не видел.
Я быстро на повозку вскочил,
я вечным постояльцем был рожден.
* * *
Весна—в порывах ветра.
И парк бутылками вдруг расцветал,
когда снег тающий и черный уступал место листве взвихренной старой.
* * *
Из колодца вдруг показалось его лицо, руки и тело.
Сквозь поверхность воды прошли они, совсем не нарушив Под телом сразу примерзла к асфальту вода черной кромкой блестящей от прошедшего утром дождя. Заиндевевшая земля искрилась.
Он во дворе лежал ведь.
Лунный свет его тело делил на куски.
Он должен подняться с кровати своей, чтобы знать, что не умер.
Теперь, в воображеньи моем это настоящее дерево, а не та сухая метла.
И я пишу в его честь, запоздалую пусть,
но прочувствованную поэму: осенняя листва под пронзенной светом весенней листвой —
* * *
Вместе с осенью приходила эта удивительная
и согревающая темнота.
Лампа под зеленым абажуром зажигалась рано.
Отец листал газету; от новых соседей доносились радио резкие звуки, диктора режущий голос.
Но и этот ущерб приглушался настойчивым тихим дождем. Чего же мы ждали?
И чувство—отголосок его и поныне живет — передышки какой-то, будто медлило что-то.
* * *
От накрапывающего дождя и намокшей земли в коридорах сумрачных школьных кислятиной пахло, где пальто и плащи, как калеки, ютились.
Рождество — бесконечный тоннель, погасить темнотой своей меня хочет.
* * *
Из темноты медленно ширился дом
с новыми комнатами, галереями, коридорами и перилами, двор за двором, все двери закрыты — там тихо! — вдруг чей-то жалобный голос, или все это только фантазии, тени?
И сжимался медленно дом, стены смыкались, они принимали цвет кожи, цвет глаз утомленных,
и тогда виделись пятна, проступавшие сквозь потолок,
будто кто-то на пол налил там наверху, й не слышалось в доме ни звука.
Взрослели мы, с лестниц сбегали,
и эхо безучастно нам отзывалось жаркими летними днями. Сумерки рано сгущались, полнились окнами, светом.
— Как еще держится он, как справляется с этим?
Ведь нет у него ничего, во всяком случае, ничего достойного упоминания;
кровать, стол и еда—дело известное холостякам, мой старый отец того же хотел,
ну и его оставили мы в покое, а он лишь худел, пожелтел, стал прозрачным совсем — и нет никого, кому можно хоть слово сказать, хотя я-то всегда смотрю ему прямо в глаза,
но ведь тот, кто не хочет видеть других,
избегать многого должен!
— Может быть, жизни бежит он — или, может быть,
гордый.
— Гордый? Кто это может себе позволить? Средств
человек не имеет от жизни бежать.
И не те времена, чтобы важничать так.
* * *
Старик в комнате с выгородкой для кухни, обшлага его рукавов зачернены тушью.
У палки серебряный наконечник.
Он пытается сдерживать бедность в пределах установленных им границ.
Он защищается, будто за ним исподтишка кто-то все время следит.
Не Не *
Вряд ли найдется такой, у кого нет тайн от другого.
Это—условие жизни, так жизнь сохраняется дням вопреки.
Лишь старики устало жмутся друг к другу — ведь все на одном они пасутся лугу.
Мы растили сады из расщелины каждой.
Мы запрятывали их плоды в каждом укромном углу. Мы рано учили себя осторожными быть.
Мы выучились запрещенным приемам.
Каждый незаметным должен был стать, чтобы выдержать существованье другого.
* * *
Все звезды на той части неба, что не служит крышей двору.
И чтобы все богатство их видеть, должны мы к прибрежью спускаться.
А ведь в городе окна есть, улицы и голоса,
больше они впечатляют, чем наши, и ближе к звездам
они.
* * *
В ноябрьской темноте вода перестает водою быть и движется замедленно и вяло, как нефть густая,
в неверном свете.
Так летом не бывает никогда.
* * *
Ни один фотоаппарат нельзя сфокусировать, чтобы запечатлеть ее красоту.
Ни одна рука не поднималась,
чтоб запечатлеть ее лик светоносный.
Расстояние было слишком коротким, рука поднялась, вспыхнул блиц в темноте абсолютной,
и упала она, погаснув,
как гаснет лампа, когда комната пуста
или полна тяжелым дыханьем ослепленного,
закрывшего свои глаза рукой.
И так его уводят...
Как штабель досок очутился в саду, я не помню.
Он пахнул свежестью, лесом, думал я.
Там, среди нескольких толстых тесин,
осиное я заметил гнездо,
поющее, тайное.
Тем же вечером, взяв огромную палку, разворотил я это гнездо и убежал,
убежал я, спасаясь, в далекий мир взрослых,
все круша и ломая кругом, но меня не преследовали.
Утром следующим подобрался я ближе окольным путем. Но все было тихо. Песни тайной не слышалось больше из жалких лохмотьев серой бумаги.
* * *
Никто не читал. Мать читала.
И я следом нырял, исчезая из внешнего мира.
Подальше: ведь нельзя отличить зримое и незримое, не научившись видеть.
Учатся также готовыми быть к катастрофам, это чувствуешь, будто недуг.
То, что бегством считают, зовется готовностью.
* * *
Когда спал я еще в комнате матери и отца,
на столике меж кроватями их карикатурный будильник
стоял.
У него был большой металлический зонтик.
И сыпались ужаса искры.
Нетерпеливые руки ощупью слепо витали над ним.
Надо было иль его придушить, или стать самому
сумасшедшим. Неумолимо отмеривал он год за годом, время тягучее ночи.
Война наступила, и он вдруг взорвался и умер.
Когда идешь к вокзалу
как-то утром, и солнце прорывается сквозь дым, и проводов пугающий сумбур выстраивается как-то, а грохот рельсов стихает, жду я,
и когда кто-то обращает свое бескровное лицо ко мне, жду я, и лампы круглые в палате слагаются в странный узор, он отстранение нем, а руки так худы и мертвенны почти,—
и оба эти чувства сливаются в одно невыносимое, единственное чувство, его легко мы переносим в детстве и позже осознаем,
взрослея.
* * *
Память — как слепой прыжок в будущее, где растет твой ребенок.
* * *
Часто видел я из окна, как мужчина с третьего этажа
напротив
стоял и рассматривал сад или небо,
он стоял совершенно спокойно перед открытым окном,
он стоял долго, и было мне любопытно, видел ли он
что-нибудь
или просто мы созерцали друг друга,
это странным казалось, и я страстно желал,
чтоб окутали сумерки нас, но не скрыли его.
Мог избавиться я от него только так: пригнуться и почти на коленях уже отползать, чтоб потом присесть на кровать с кружевною накидкой и чувствовать, как меня его взглядом пронзило.
Я проснулся от крика в саду.
Я проснулся от запаха газа: все мертвы были,
мертв был и я.
Я проснулся — ведь война началась, и моя одежда пылала. Было тихо. Лишь отец храпел в углу миротворно.
От скольких катастроф я проснулся.
Это означало тренироваться для будущего.
* * *
Вплоть до самого верхнего ряда окон искрилось, весна бросалась к нам отблеском быстрым.
Тихо, как из лунного света, распускали деревья листву, зеленели где-то там ближе к морю.
* * *
Первый снег — ликованье какое.
И чернеют людские следы на снегу.
Шерсть сырая прикасается к коже.
Из окна не видно двора,
он под снегом
исчез
и долго теперь не вернется.
Н« Н« Н
Усталые глаза.
Радость — узнать, что за погода сегодня, и нет угрозы больше что-то потерять: в тайнике души неоплаченным все это было, невыкупленным,
и все же устойчивость в задавленности этой; и неплохие были мастера в своих домах, дворах, что прятались за вывеской фасадов.
Я слышал иногда, как он кричал во сне.
Размеренность была и смыслом жизни, и ее спасеньем на плоскостях кренящихся, в кренящихся домах, в комнатах с темными окнами, с веселыми гардинами.
* * *
Надо было не наступать на стыки, плевать вслед кошкам и под лесами не стоять, не взбегать по две ступеньки разом, так что легкие едва могли вздохнуть, освободиться от добровольной муки.
Скатерть кухонную украшал замысловатый узор.
На все свои правила есть. Исключения как летние стрижи, чьи случайные, мчащие крики были опять далеко, и двор по-воскресному замолкал.
Правила существуют, чтобы сделать существование наше таинственней, чем оно есть.
И бесшумно мысли челноком сновали, и ткались из перепутанных нитей холсты, и в цвете узор был прекрасным.
* * *
Темно, но я пытаюсь рассмотреть ребенка, бегущего вдоль фонарей,
я так же бегал когда-то в длинных чулочках.
Ночь, и он пробегает мимо, а я кричу: Подожди! Подожди!
Но я уже остановился и оглянулся,
ничего не узнавая кругом.
Сквернословие как украшения. Геральдика двора.
И если долго сидеть в темноте, многоцветней покажутся краски.
* * *
Те, кто вырывался из комнат своих, заставленных мебелью жалкой,
те, кто пытался ступать совершенно бесшумно, так, чтобы никто их не заметил,
как притягивали они к себе сплетни и злобу, будто видели они
то, чего не видели мы, то,
от чего мы в самих себе отворачиваемся.
* * *
Входи же ко мне. Нет, не надо бояться.
Когда человек жил так долго один, беспомощен он.
Я больше сижу и смотрю, как играете вы во дворе.
Если б не сын, он деньги мне посылал,
и не знаю, как жил бы.
Может, и ничего. Когда человеку не с кем поговорить, во всем начинает он сомневаться.
Сиди. Сейчас ты получишь свою чашку кофе,
а больше тебе и задерживаться незачем. Да, ты. Я видел, как ты рос,
знал тебя еще маленьким. Держи. Вот что я хотел сказать: если человеку не с кем поговорить, человек в некотором роде перестает жить,
словно отсекли его, что ли. Человек истекает кровью, а потом сидит просто так,
досиживает.
Деньги, вроде они помогают удержаться в жизни,
а в сущности,
не помогают. Выдержи это! Наверно, я наскучил тебе? Я давно привык говорить сам с собой и поэтому не очень-то могу говорить с другими.
Так, как хотелось.
И двор, даже он вряд ли существует для меня.
Раньше я читал, но теперь не в силах: глаза не видят. Сколько же тебе лет? Десять? Вон как!
Тогда вряд ли ты много поймешь из того, что я тут
говорил.
Ну иди, заходи иногда, если будет желанье. Ну, ступай.
* * *
Быть больным значило быть одному в безопасности
полной.
Свет, идущий тогда из окна, застывал.
Лихорадка чертила узоры на серых обоях.
Звуки благостно льнули к коже сухой.
Долго плыли они из кухни и медлили на расстоянье. Комната больше тогда становилась, словно мир
незнакомый.
Быть больным значило двери в жизнь запереть
молчаливо.
Там, за дверью, у всех на виду, надо было бахвалиться
и держаться
вроде подвыпившего соседа, которого просто не замечали.
* * *
Своей собственной крыши не видел я никогда.
Она была как другие: черные изогнутые дымоходы, кирпичи как запекшаяся кровь, чьи тугие артерии донизу жестко пронзали наш шумный дом.
Сквозняки отзывались эхом, скользя сквозь стальные
рамы.
Запах лежалого долго тряпья, запах жженого—может,
горело оно?— обволакивал тихо старую мебель, связки газет, лыжи, велосипеды; или пустые совсем закоулки, эти тюрьмы для робкого света.
Под крышей жил учитель, на окнах его были бархатные
гардины,
он мог видеть море.
Там жил еще один, не выносящий детей: краснощекий,
как сентябрьский месяц, каждый день он рулил к фирме своей от объятого ужасом дома.
Ниже жили Лехтонены с семью своими детьми,
все работающие в сфере питания. Похожие на муравьев.
Ниже еще жили мы, мы—четыре персоны, и между одиннадцатью и двенадцатью дня солнце освещало общую комнату нашу.
Затем шли подвалы, способные поглотить все живое, и, когда я стоял там иногда, мне казалось, что весь дом медленно падал этаж за этажом на меня»
И не удивило б меня,
если бы весь черный пол вдруг провалился
или если бы хлынула кровь из извилистых водопроводных
труб.
* * *
Лучшими днями были пасмурные тихие дни, ни весеннего беспокойства, ни жестких теней.
Лампу я мог зажигать рано.
И деревья в парке стояли в сумрачной дымке, и старики на берегу у своих тихих лодок умолкали один за другим.
Спокойствие было такое, как бывает, когда уже нет
надежды.
* * *
Не вызывало сомнений, что вряд ли смогут ужиться в нашем доме они, несмотря на низкую квартирную плату. Дело было не в том, что он пил или что она приводила к себе мужчин, когда его не было дома. Хуже, что были они совершенно чужими и такими
остались.
Другим мало были они интересны, и никто не стремился прийти к ним на помощь.
Но все, что можно услышать, проникало сквозь закрытые двери.
И помощи она не просила, даже когда ее били.
Наконец отказал им хозяин, после предупреждений.
Когда съезжали они, нас, детей, не выпускали.
Помню еще, что на следующий день пошел снег,
и все было забыто.
* * *
— Странно, что они в лечебницу его не отсылают, или как называется это еще, дурдомом, что ли?
— Они ведь хотят рядом быть с ним, он же не злой.
— Но постоянно следить за ним, и вечная стирка, и вся неуверенность эта. Я бы не мог.
— Может, как раз то, что он вот такой, и дает им силы.
— Я сам ведь бездетный и об этом судить не могу.
— А может быть, обходится это просто дешевле —
держать его дома.
— Было б неудивительно, если бы дело было в деньгах. Хотя мне так не кажется. Уж очень привязались они к нему. Пытаются защитить понадежней. Но это у них не
выходит, не могут они.
Не может никто.
* * *
Я стыдился, как уличенный,
мать вела меня за руку средь стекол холодных.
С нею стоял в вестибюле банка, где витали ароматы
одежды,
там отец давал матери деньги на наше хозяйство, и день, словно подернутый серым дождем, расцветал.
Перед тем как уснуть, я лежал в темноте с фонарями, как монеты серебряные наложенными мне на глаза.
* * *
Послеобеденный час был до странности тихим.
Словно сумерки в комнате нашей сгущались.
Отец спал, рукой лицо затеняя.
И вещи делались старше.
Звук во дворе падал тихо, как снег.
Мать шила, а очки ее книзу сползали.
Поверх книги я родителей видел.
Настольная лампа спокойно горела.
Ровно через час отец поднимался.
Жизнь вселялась в пространство и звуки.
Когда начинали они говорить, снова чувствовал я себя
одиноким.
Ярким все тогда становилось, словно темнота отступала.
* * *
Там, у выступа цементной стены, у черного, еще мягкого края асфальта, в день ослепительно-яркий,
фотопленки запах горевшей там поднимался, я наклонился вперед, держа ровно руку,
замерла божья коровка и вверх наконец поползла
запнувшейся искоркой радости,
повиснув
на грани света и тени.
Медленно передвинул я руку, как в танце,
и красная точка, верха пальца достигнув, остановилась и вдруг полетела, и я увидал, будто отблеск,
красоту мирового пространства.
* * *
Тишина, тишина после тех, кто не мог создавать словами, кто не мог указать на ручей, говоря: это кровь моя, я не живу, я умираю.
Тишина—это шаги, что разбиваются вдребезги звуками хлопнувшей сильно двери, и глаза открываются вдруг
на все, что осталось невысказанным между ними тогдашними, верящими себе.
В тишине нет никакой тишины, и песни нет никакой, никакого мерцания в дожде.
Неизреченного нет, и не о чем говорить, там двор, там старики, там спящие дети, и ребенок, лежащий в колыбели,—тоже есть тишина. Если бы знали они, что не могут вообще говорить, рот смогли бы раскрыть?
Из полутьмы выступает кто-то, кто-то нездешний.
Запачканный дождевик, большой чересчур, лицо скрыто в тени.
Кошмаром идет он, входит в подъезд, я тихо стою.
Он почти задевает меня, останавливается и подносит ко мне свою руку.
Я отстраняюсь.
* * *
Мгновенье выдвигает их вперед, но зачастую облика
лишает.
На них фуражки с козырьками, их тени резки, и ноги, удлиняясь в вечернем освещенье, ведут их по улицам и дальше
вдоль берегов крутых, вниз к морю, к кладбищу и к церкви.
Они рассеиваются, как зерно, перегнивая меж старыми
домами,
выныривая, тяжело дыша, за воздухом во тьму, где
редкие слепые
фонари колотятся своим железом черным
о стены известковые с узором теневым. Здесь вылавливают их бесцветные девицы, напористые, ведь и голоса напористы у них, наживают с ними детей помногу, а потом переселяются они с тюфяками своими в клетушки,
где безработица и кашель царят.
И ранними и мглистыми утрами,
когда весна приходит с моря, сидят они, когда все дети упорхнули из гнезда, их руки жилистые лежат устало; они следят, как мы играем, если вообще нас видят.
На них заношенные длинные дождевики.
Их подбородки давно не бриты и серебрятся.
Потом их всех не стало.
Лет по сорок толклись они в своем кругу, по улицам ходили, входили в свои грязные подъезды, из жизни исчезая постепенно.
Дни, когда их выносили, особенно врезались в память, обтянутые дымом труб.
Как если бы сидеть вдруг в вестибюле гостиницы
провинциальной,
в стране совсем чужой, глядя в окно:
пустая площадь, моросящий дождь и долгое ожиданье
в том же безжизненном пространстве.
И мысли: что привело меня сюда?
Зачем уехал я так далеко от дома?
Смысл какой? Зачем приехал именно сюда?
И понимать, как неизбежно — случайно все.
Через дождя завесу видеть, как кто-то одинокий бродит, исчезает со своим велосипедом, и вдруг желанье следовать за ним
и говорить—нет, в одиночестве сидеть и вспоминать, как это было: окна низкие во двор, дождь, дома никого, как раньше.