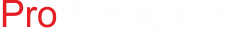Странное, дивное солнце в Давосе: кругом лежат глубокие, бездонные снега, сухие, как бы искусственные сугробы рассыпаются под ногами, словно сахарный песок, деревья стоят в инее, как в серебре, высокие полозья саней вязнут в снежной дороге, Стоит глубокая альпийская зима, а солнце печет, как летом. Над балконами больших каменных домов опущены холщевые занавесы, по улице люди ходят одетыми по-летнему: мужчины — без верхнего платья, в соломенных шляпах, дамы — во всем белом, под зонтиками; лица у всех бронзовые от загара.
Кругом торжественная, суровая тишина и громады девственно-чистого снега, сияющего под лучами яркого солнца. Небо нежно-синее, теплое, безоблачное, как на юге весной, и в этом удивительно прозрачном воздухе отчетливо и ясно вырезаются далекие чистые линии альпийских вершин.
Городок состоит почти из одной большой улицы, заставленной шикарными зданиями отелей, пансионов, санаториев и магазинов. Все дома обращены лицевой стороной к югу, с обязательными балконами вдоль каждого этажа: целые ярусы балконов с лежащими на них людьми. В этом и заключается все лечение в Давосе: дышать с утра до ночи абсолютно чистым, разреженным воздухом Альпийских гор на высоте тысячи двухсот метров над уровнем моря.
На первый взгляд Давос кажется городом умирающих: высоко в снежных горах копошатся они, почти отошедшие от земли и жизни земной. Земля осталась где-то глубоко внизу, а они, уже приговоренные к смерти, зацепились на пути в небеса, на последнем этапе, между землей и облаками, где уже веет безжизненной пустыней вечности. Неподвижными рядами лежат они на балконах, в меховых мешках, закрывающих все тело, кроме головы, молча впитывая целительный воздух и ликующие лучи давосского зимнего солнца. Лежат и вечером, после заката, когда альпийская ночь горит крупными, ясными звездами, а на балконах тихо теплятся разноцветные огни электрических лампочек у изголовья каждого больного.
Это настойчивое лежание днем и ночью в меховом мешке на балконах санаториев называется здесь по-немецки «лиге-кур».
Все страждущее население многочисленных санаториев, пансионов и отелей лежит в полной неподвижности, в глубоком молчании: в этой неподвижности и в молчании этом как бы чувствуется отчаянная решимость, последняя борьба за жизнь. «Будем лежать, — как будто сказали они себе. — Будем лежать, по капле собирая в себе силы, чтобы побороть ужасный недуг, лежать месяцы и годы, изо всех сил бороться со смертью лежанием, как велят доктора!»
Долина Давоса окружена со всех сторон высокими снежными горами, задерживающими ветры, покрытыми густым хвойным лесом. Большая разреженность горного воздуха и полное отсутствие ветра служат причиной необыкновенно сильного лучеиспускания. Из-за леса по откосу горы со дна пропасти поднимается железнодорожный поезд, на минуту задерживается у Давосского озера и затем торжественно подходит к небольшому вокзалу Давоса.
С этим поездом в Давос приехал Валерьян, привез для лечения Наташу. Они сели в парные сани на очень высоких полозьях и через несколько минут подъехали к большому отелю «Кургауз», против которого в садике играл в это время струнный оркестр. Оркестр исполнял что-то веселое, солнце смеялось в прозрачном голубом небе, сияя искрами на сугробах снега.
Устроившись в гостинице, Валерьян долго говорил жене, как здесь все удивительно, как красиво и как она быстро поправится в Давосе.
У Наташи в России врачи не признавали чахотки, но уже несколько лет лечили и никак не могли вылечить катар легких, находя неблагополучие в «верхушках». Кто-то из знакомых, бывавший в Давосе, посоветовал им этот курорт. «Верхушки — это начало чахотки, — говорили знакомые, — пока еще болезнь не зашла далеко, можно залечить ее в один год в Давосе». Художник бросил все свои дела и решил во что бы то ни стало вылечить жену: сам поехал проводить ее и устроить в лучший санаторий. Он поживет вместе с нею некоторое время, пока она привыкнет, а потом вернется к своей работе. Уверен, что к весне Наташа поправится.
Наташа слушала его, молча улыбаясь печальной улыбкой.
С тех пор, как она заболела, художник не мог сосредоточиться ни на одной большой работе: начинал и не оканчивал, разбрасывался на мелкие вещи. Его известность стала понемногу тускнеть, имя все реже появлялось на столбцах газет, и давно уже отсутствовали работы на выставках. Все мысли его были сосредоточены на излечении жены, вся его энергия, все воодушевление уходили на разъезды по лечебницам и санаториям, на возню с докторами; всякое ухудшение болезни приводило его в крайнюю степень волнения.
Валерьян верил докторам, верил в быстрое исцеление Наташи, но шли месяцы и годы, а она все не поправлялась.
Наташа чувствовала себя виноватой, что из-за ее болезни Валерьян не мог успешно работать: боялась, что если болезнь затянется, то он и вовсе забросит работу... Вся надежда была теперь на Давос, где, быть может, удастся освободить его от забот о ней: он уедет обратно в Россию и вернется к своему творчеству, она останется в этой чужой стране, будет на целый год заперта в давосской больнице... Ребенка оставили у родных, другой умер.
...Теперь и муж вынужден бросить ее. Она наружно улыбалась и шутила, когда Валерьян с воодушевлением утешал ее надеждами на чудеса Давоса, но когда дверь закрылась за ним, Наташа приникла к подушке дивана с глубоким и печальным вздохом. Ей не нравился Давос, а предстоящая одинокая жизнь в санатории заставляла ее сердце заранее содрогаться от страха и тоски.
Доктора и здесь будут лечить «верхушки», но никода не поймут ее глубокой печали о покинутом ребенке и неизлечимой скорби о другом, умершем.
Прежде, до замужества, она часто думала о самоубийстве: невыносима была жизнь в могильном склепе, каким был для нее дом богатых родителей... Надеялась найти выход в замужестве, в семейных радостях. Может быть, так бы оно и было: муж хороший, любит ее; но смерть ребенка, затяжная болезнь и тревога за мужа, который вместо счастья нашел мучение и, быть может, свою гибель с ней, давно уже исковеркали ее жизнь.
Проводив мужа, Наташа долго и грустно стояла перед громадным окном, за которым виднелся узкий балкон, и смотрела через улицу на почти отвесную снежную гору, стеной отгородившую Давос от остального мира.
Давос лепился террасами по склону горы. Немного ниже, в долине, где уже не было построек, виднелся обширны!! каток, и там под звуки оркестра кружились конькобежцы. Наташа вспомнила, что в Давос приезжают не только больные, но и здоровые: для отдыха и зимнего спорта. С противоположного склона гор, покрытого глубоким снегом, как мухи в молоке, ползали на лыжах любители лыжного спорта: долго карабкается человек кверху до самой вершины, потом летит оттуда, как на крыльях, раскинув руки, и, скатившись вниз, непременно кувыркнется в мягкий, пушистый снег. Затем опять карабкается, и так без конца.
Валерьян спустился в нижний этаж и долго блуждал в шикарно отделанных залах, гостиных и кабинетах почти пустых в утренние часы, но библиотеки не
нашел.
Он вышел на улицу и зашагал по тротуару, прислушиваясь, не раздастся ли русская речь, не попадется ли навстречу какая-нибудь несомненно русская физиономия. Но попадались только несомненные немцы с их закрученными кверху усами и бритые англичане в альпийских костюмах, в спортсменских вязаных фуфайках, в огромных башмаках на толстых подошвах, с лыжами или коньками в руках.
Валерьян прошел «Променад», единственную большую улицу в Давосе.
«Где же чахоточные?» — спрашивал он себя, всматриваясь в загорелые, румяные лица встречных. Он видел, как лежавшие на балконах больные люди вставали с коек и, франтовски одетые, выходили на Променад; утренний «лиге-кур» кончился. Они были все такие же бодрые, здоровые на вид, как и другие, которых он встречал на улице. Слышался веселый говор и смех. Но Валерьян нигде не услышал русского языка и не встретил ни одного русского, хотя и знал, что в Давосе существует русская колония. Может быть, они избегают говорить здесь на родном языке?
Возвратившись в «Кургауз», случайно попал в читальный зал, который был в то же время одной из комнат обширного ресторана. Посреди зала стоял длинный стол с европейскими и русскими газетами. За столом, углубившись в чтение, сидели два человека: один был элегантный, красивый, с «золотой» бородой, блондин, а другой — смуглый, бритый, худой, высокого роста и с таким морщинистым лицом, что невозможно было определить, молод он или стар. Читали они русские газеты, и поэтому художник заговорил с ними.
— Да, мы русские, — в один голос ответили они, вопросительно оглядев фигуру приезжего.
— Я только что из России, никого здесь не знаю и до сих пор не мог встретить здесь ни одного соотечественника.
— Странно! Русских здесь хоть отбавляй!
— До восьмисот человек приезжают каждую зиму, а многие безвыездно живут.
Где вы изволили остановиться? — галантно спросил человек с золотой бородой.
— Пока здесь, но мне нужно устроить в санаторий жену. Посоветуйте, как бы это сделать! Есть в Давосе русский санаторий?
— Вот именно русского-то санатория и нет! Есть английский, немецкий, французский, есть, конечно, швейцарский, но чтобы русский — этого нет!
— Как же быть?..
— Устроиться можно. Я как раз заведую русским справочным бюро, и моя обязанность — помогать приезжим из России. Позвольте представиться: Абрамов, эмигрант!
— Галин! — отрекомендовался другой. — Тоже эмигрант, студент!
Валерьян пожал им руки, назвал себя.
— Семов? — удивились они. — Художник Семов?
— Да.
Собеседники, видимо, обрадовались.
— Очень приятно для нас и для всей здешней эмиграции... — взволнованно заговорил Абрамов. — Давайте сядемте за столик, поговорим... Жену вашу устроим в немецкий санаторий: это самый лучший. Галин! — обратился он к товарищу, — идите сейчас к доктору Шнеллеру, переговорите с ним.
Студент встал и вышел, слегка сгибаясь и раскачиваясь на длинных ногах.
Валерьян и Абрамов сели за ресторанный столик около зеркального окна и спросили кофе.
— Я двенадцать лет болен чахоткой, — начал Абрамов, — а здесь живу с девятьсот пятого года: доктора меня не отпускают отсюда, ну и приходится как-нибудь жить. Организовал это самое бюро, состою редактором здешней русской газетки «Давосский вестник». Не видали?
— Нет.
Редактор вынул из кармана свежий номер маленького листка на глянцевитой бумаге и подал художнику.
— Этот курортный листок издается на субсидию города, выходит раз в две недели. Надо же что-нибудь делать... Положение наше, знаете, эмигрантское... Нудная жизнь. Поживете — сами увидите. Вы надолго к нам?
— Побуду немножко, пока жена обживется, а потом, конечно, вернусь в Россию.
Абрамов с завистью посмотрел на приезжего.
— Счастливец вы! Можете вернуться в Россию, а ведь мы все — приговоренные: мне, например, и носа нельзя туда показать, вот и живем здесь, задыхаемся, как рыба на берегу.
Редактор давосской газеты провел рукой по своей густой золотой бороде и посмотрел на собеседника красивыми голубыми глазами. Кожа лица у него была нежная, фигура изящная. Вероятно, он нравился женщинам и сам любил их.
— Жизнь здесь скучная, неестественная, — продолжал он. — Русских много, и две трети из них — эмигрантская беднота: нужда вопиющая, средств никаких. В целях самопомощи существует «Русское общество», у которого тоже ничего нет: так, ходят по домам, собирают пожертвования деньгами, платьем, придут, вероятно, и к вам. Устраивают два раза в сезон благотворительные вечера и в результате дают человекам пяти — шести пособие не свыше ста франков в месяц в продолжение трех или четырех зимних месяцев. А число нуждающихся от этого все растет: слышат, что в Давосе дают пособия, — и едут в надежде «как-нибудь» устроиться, — ведь умирать-то не хочется. А из-за этих нищенских подачек кипят интриги, дрязги. Революция выбросила за границу множество элементов, не совсем доброкачественных, и вот эти-то элементы бросают тень на всех. Европейцы вообще относятся к русским с пренебрежением, обидным для нашего самолюбия. Что поделаешь?.. Одному бедняку-«эмигранту» дали пожертвованный хороший костюм, а он опять ходит в прежних лохмотьях. Другой живет в Давосе уже три года и все время ухищряется получать пособия, а теперь выписал совершенно здоровую жену и ей тоже выхлопотал стипендию. Между тем масса нуждающихся больных остается без всякой помощи.
Редактор пригладил бороду и усмехнулся.
— А то приехал один шикарный молодой человек, поселился в «Кургаузе», кутил, играл в карты, занимал деньги у всех, даже у лакеев, по счетам не платил, а потом положил кирпичей в пустой чемодан и без чемодана удрал из Швейцарии. Далеко не уехал: арестовали где-то в Италии. Конечно, это единицы, и не эмигранты, а просто жулики, но европейцы все ставят в счет эмигрантам, не любят русских: слишком уж бедны мы и безалаберны при этом.
Валерьян с интересом слушал красивого человека и возразил, что ведь не все эмигранты таковы, что в эмиграции живут крупные деятели, знаменитые революционеры...
Абрамов отпил кофе, покачал бородой и согласился.
— Ну, конечно, не все. Вот и я, например, ведь тоже бедняк-эмигрант, болен серьезно и давно, голодал здесь годы, но никогда не обращался за помощью к «Русскому обществу»: слишком уж это унизительно. Брался за работу, несимпатичную мне, занимался «коммерцией» и все-таки ухитрялся обойтись без общественной благотворительности. Живу, работаю, и даже можно сказать— устроился. Тут нужны не эти обидные подачки, а нужен русский дешевый санаторий. Я давно ношусь с этой мыслью и верю, что когда-нибудь она осуществится. Слишком больно видеть, как страдают здесь многие. Нужно поднять этот вопрос в России, в печати, привлечь к делу людей с именами, известных врачей, профессоров, писателей, общественных деятелей, изыскать средства. Я бы отдал такому делу все мое время, всю энергию, если бы можно было хоть начать его. Здесь нет иного общественного дела, а ведь есть люди, которые жить без него не могут. В Давосе задыхаемся от бездействия. Где-то есть жизнь, где-то люди борются, работают, живут, — мы не живем.
Абрамов долго говорил на эту тему — о создании санатория, о бедствиях эмиграции, о мечте создать за границей русский художественный журнал, причем намекнул, что при содействии Семова можно было бы и денег достать на это дело.
— Не торопитесь с отъездом, — сказал он просительно - вам, как художнику, Давос даст новые впечатления, возбудит новые чувства и мысли. Может быть, даже вдохновитесь на новую картину... Я бы посоветовал вам пожить здесь, понаблюдать новую для вас жизнь. Интересные типы, великолепная природа, а если побываете в Женеве или на Ривьере, — вероятно встретитесь с большими людьми: там совсем не то, что в Давосе; здесь — мелочь, отработанный пар...
Валерьян с невольным сочувствием слушал этого живого, кипучего, энергичного человека, приговоренного к пожизненной добровольной ссылке в Давос.
В это время вернулся Галин и сообщил, что виделся с доктором: сегодня же художник с женой может переселиться в санаторий.
— Прекрасно! — сказал Абрамов, вставая. — Устраивайтесь, а вечерком соберемся у меня в редакции: ведь надо же отпраздновать ваш приезд.
Санаторий отличался от гостиницы только тишиной и строгим режимом. Доктор — серьезный немец — долго выстукивал и выслушивал грудь Наташи, определил у нее начало туберкулеза, о чем и заявил ей совершенно спокойно.
Когда они остались вдвоем, Наташа неожиданно заплакала, прижавшись головой к плечу Валерьяна. Лицо ее приняло жалкое, детское выражение. Это плачущее, беспомощное личико невозможно было видеть равнодушно. Сердце Валерьяна заныло от глубокого, жгучего сострадания.
— Одного ребенка отняла могила, — рыдала Наташа, — другого отняли люди... Ты уедешь... бросишь здесь... Я не поправлюсь, умру.
Валерьян прижал ее лицо, облитое слезами, бесконечно любимое, к своей груди, гладил ее золотистые густые волосы и утешал, как мог. Чувствовал, что и сам не может бросить ее здесь: ехать? куда? зачем?.. Работать? Вряд ли что выйдет из такой работы, когда разбита жизнь и семья, когда разлука с больной женой будет постоянной мукой, а ребенок отдан на попечение такого мертвого человека, как безумная мать Наташи. Жизнь разбилась, и ее восстановление зависит от того, выздоровеет ли Наташа. Но какое же лечение поможет, если она будет жить здесь в вечной тоске и слезах? А он? Разве возможно спокойное творчество в таком настроении? Придется бросить работу еще на год и остаться здесь, вместе с нею. Когда Наташа будет у него на глазах, можно хоть что-нибудь делать, в крайнем случае — издавать этот журнал, о котором говорил Абрамов. Да, наконец, уж пусть лучше пропадет еще один год (деньги пока еще есть), — лишь бы спасти ее от смерти, лишь бы она жива осталась...
— Не плачь же, не плачь! — утешал он ее, как ребенка. — Я уже решил: никуда не поеду, не покину тебя, буду работать здесь.
И начал рассказывать о художественном журнале и о том, что эмигрантская жизнь интересует его, как материал для будущих картин, что он сумеет работать здесь лучше, чем оставшись один в Петербурге, что, обжившись здесь, можно и ребенка выписать.
Личико Наташи просветлело. В мечтах и разговорах они просидели до звонка к общему ужину. Но Наташа по-прежнему боялась большого стечения людей.
Она ужаснулась, когда узнала, что за ужином в столовой собирается полтораста человек. Валерьян пошел просить, чтобы Наташе, как больной, ужин подали в комнату. Это было разрешено, но Валерьяна попросили спуститься в столовую.
После ужина Наташа обязана была лежать в меховом мешке на балконе при свете электрической лампочки. В одиннадцать двери санатория запирались. Над городом рано спустилась темная зимняя ночь, но весь Давос сиял от электрических огней, которыми вдруг осветились многоэтажные ярусы балконов...
Валерьян отыскал редакцию в небольшом, простеньком пансионе: редакция и «бюро» помещались в одной маленькой, тесной комнате — мансарде под чердаком третьего этажа, а в соседней комнатенке оказался и сам редактор, кипятивший что-то на керосинке. Приход художника встретили веселым смехом.
Кроме Абрамова и Галина, в редакции оказался высокий и худой человек в сером пиджачном костюме, с бледным, сурово-добродушным лицом, украшенным пушистыми, закрученными кверху усами. Он весь состоял только из крупных костей да бледной кожи и все-таки оставлял впечатление громадности.
«Еели бы ему пополнеть, какой гигант был бы!» — невольно подумал художник.
— Евсей Тимофеев! — представился огромный человек хриповатым голосом. — Приват-доцент зоологии и эмигрант, конечно...
Абрамов поставил на стол четыре больших кружки темного мюнхенского пива и несколько бутербродов с ветчиной.
— В честь вашего приезда выпьем, — сказал ом, поднимая кружку и чокаясь со всеми. — За Россию, за ее будущее, за наше возвращение!
— Эх! — задушевно воскликнул приват-доцент, отхлебнув из кружки и крепко стукнув ею о стол: — хоть бы помереть, да в России, а не здесь, среди европейских культурных отельщиков. Надоела эта жизнь эмигрантская, треугольная: куда ни кинь — все клин...
— Нет, Евсей, — возразил Абрамов, — если доживем до возвращения в Россию, то не умирать туда поедем, а бороться за новую жизнь...
Евсей помолчал и мрачно добавил:
— Вторая революция? Да! Если умирать, то уж лучше на баррикадах, черт возьми!..
— У вас героическая наружность, — сказал ему художник: — вы похожи на варяга или викинга, что-то северное, скандинавское...
Доцент засмеялся.
— Фантазия художника. Честь имею рекомендоваться: потомственный русский крестьянин Вологодской губернии, окончил Харьковский университет и оставлен при нем доцентом. Впрочем, вы чутьем что-го угадали: я, действительно, плавал по Ледовитому океану — участвовал в научной экспедиции, довольно неудачной.
— Как же вы в эмиграции оказались?
— Обыкновенно. Нашумели в пятом-то году, и пришлось убежать... Когда через границу переходили, на кордон наткнулся, ранен был в грудь. Одначе зажило, як на собаци... Живу теперь на Ривьере, в Виллафранке, наукой торгуем... Есть там, знаете, русская морская лаборатория... Да вот что-то гайка ослабла и кишка не действует: приехал сюда немножко починиться...
Разговор сразу разбился на две группы: Абрамов и Галин уже заспорили о России.
— Ну, пусть она некультурна, бедна, дика, — горячо возражал студент, — много там великого свинства, ужаса и рабства, но ведь все это утопает в страдании, а недостатки русских людей искупаются их беззащитностью. Ах, эти чеховские герои, мягкотелые русские люди! Насколько они все-таки выше душой всех этих здешних культурных мещан, для которых комфорт и деньги — все. Покажите европейцу настоящий русский рубль, и он побежит за вами, будет услужлив, вежлив, галантен.
— И все за рубль. Ну, а когда нет рубля, тогда он и груб, и невежлив, и презирает вас. Ненавижу Европу!
— Ну, на чеховских героях далеко не уедешь, — качал Абрамов золотой бородой. — Мелкие герои.., Жизнь создаст новых, настоящих, полную противоположность им. Насколько те были мягкотелы, настолько новые люди будут жесткими. Это будет — эпоха отмщения.
— Да откуда они явятся? Из эмиграции? Вряд ли. Новая интеллигенция?
Абрамов махнул рукой.
— Народ их даст. Выдвинется новый слой снизу, из тех пластов, которые еще не жили, но хотят жить...
— А вот мы спросим свежего человека, — вмешался Евсей. — Вы художник, следовательно человек беспристрастный и наблюдательный... Как живет интеллигенция больших городов? Что можно уловить нового в искусстве, литературе? Каковы там настроения?
Валерьян смутился.
— Право, мне трудно ответить на ваши вопросы. Я несколько посторонний человек для общественных настроений, многого в них не понимаю. Например, не понимаю успеха новых исканий в живописи и литературе. Знаете, что в них воспевается? — Худосочие, умирание, одним словом — декаданс. В моде песенки Вертинского: «Ваши пальцы пахнут ладаном» и так далее. Это нравится, этим увлекаются, почему-то принимают близко к сердцу. Модные художники рисуют не живых людей, а удавленников каких-то. Нравятся стихи и рассказы о смерти и безумии... Я другого направления. Мне нравится сильное тело, солнце и жизнь, но мое творчество и мне подобных ценится не интеллигенцией, не утонченными знатоками, а какими-то другими слоями публики, на которую принято смотреть сверху. То же и в музыке. У нас есть великие музыканты, их уважают, но ими не увлекаются, зато многих волнует музыкальный декаданс. В театре идет искание нового, ломка старого. Шаляпин первый сломал оперные ходули, но он сделал это органически, вследствие своей огромности, а сам принадлежит к старому искусству, появился на переломе, расчистил путь Вообще в искусстве и литературе идейно происходит революция. Рядом с подлинным обновлением чувствуется умирание старого. Публике лож и партера по душе мучительные пьесы, изображающие разложение души, семьи, морали. Это почему-то нравится, это любят до психопатии... Одним словом, буржуй потерял своего старого, доброго бога, который всегда прощал его. Приближается сила, никого не прощающая, несущая отмщение...
— Ага! — сверкая глазами, вскричал студент: — корчится буржуазная публика. Это хорошо!
— Но с другой стороны, — продолжал художник, — когда попадаешь в провинцию, невольно ощущаешь рост жизни. Насколько я заметил, земля от помещиков переходит к купцам и крестьянам. Чувствуется органический и огромный процесс, происходящий в глубине страны. Жадный аппетит к жизни... Все кругом как будто трещит от пробудившихся желаний. Дети ссорятся с отцами в каждой русской семье, не только интеллигентской или буржуазной, но и в крестьянской: идет развал, но потому, что новые силы выпирают из-под земли... Странно, все чего-то ждут: одни — беды, другие — молочных рек с кисельными берегами. Любимые разговоры — грядущая революция.
— Это — добрые признаки, так сказать, — первый звонок, — задумчиво сказал Абрамов.
— Первый звонок уже был, — возразил доцент. — Вы хорошо подметили, почувствовали новые колебания почвы. До новой революции, конечно, еще далеко: еще нет расплавленной лавы. Настоящий гнев, настоящая ненависть копится у нас, и мы придем и вольем в Россию всю нашу годами скопленную силу великого гнева.
Он помолчал и добавил:
— Мы придем!
В комнате стало душно от табачного дыма, а может быть, и от последних слов эмигранта. В наступившем молчании студент тихонько мурлыкал куплет из старой студенческой песни:
Россия, Россия, жаль мне тебя!
Бедная, горькая участь твоя..,
— Да, Россия, — со вздохом сказал Абрамов. — Отсюда, из чужбины, кажется она неизменно прекрасной, и все ей как бы прощаешь. Вспоминаются разговоры о русской жизни, литературе... опера, новые пьесы, собрания, лекции... кипучая жизнь... Или вдруг вспомнится Волга, волжские пароходы, Жигулевские горы, широкие степи, волжские и степные люди и молодость наша, погибшая гам... Вспомнится крымское море, дикий берег, виноградники — и кажется, что опахнуло тебя теплым, бархатным южным ветерком... Представляется, что и природа-то там красивее, ласковее, чем в этой прославленной Европе...
— В стране отелей и отельщиков, всемирных лакеев... Эх! — взволнованно подхватил студент. — Вот приехал человек из родных краев, и повеяло прежним...
— А мы создадим новое! — возразил Абрамов.
В маленькой комнате немецкого пансиона в Швейцарии, на высоте тысячи метров, за тысячи верст от России Валерьяну странно было слушать глухие, надорванно-чахоточные, вечно спорящие голоса русских людей.
Он вышел на балкон. Давно уже царила мягкая беззвездная ночь. Весь Давос сиял маленькими разноцветными огнями: это на балконах все еще лежали больные, каждый со своим огоньком — вечерний «лиге-кур».
Вскоре один за другим огоньки начали гаснуть в черном океане тьмы. Было грустно среди глубоких снегов и холодных гор молчаливой, равнодушной чужбины.
II
К болезни Дмитрия Чернова вся семья гак давно привыкла, что не обращала на нее никакого внимания, не шала, в чем именно она заключается, даже плохо верила в нее. Был он глуховат от рождения, громко надо было с ним говорить, почти так же, как с Анастасией Васильевной,— наследственная глухота. С детства же был он и заикой. Но ведь это что за болезнь! Заика, он и есть - просто — физический недостаток. Правда, от этих недостатков образовался у него характер замкнутый и молчаливый много читал, недурно сочинял эпиграммы на родных и знакомых, имел литературную жилку; может быть, при других обстоятельствах и талант какой- нибудь развился бы, но на папашиных хлебах и в расчете на миллионное наследство не являлось в этом надобности, да и вообще не было смысла что-нибудь делать. Обломовщина передалась ему вместе с дворянскими имениями, которые отец с таким умом и трудом приобретал. Сила Чернов против своего желания сделал детей своих никчемными, не приспособленными ни к какому делу. Многие думали, и даже в шутку говорили, что неопределенная болезнь Дмитрия — одна отговорка для поездок в Москву, чтобы отдохнуть от родительского брюзжания; да Митя и сам шутил над собственной болезнью, называя езду к докторам своей профессией. Вставал поздно, часа в два, в три, едва поспевал к обеду, а ночью мучился бессонницей, только к утру засыпал. Отец смотрел на такой образ жизни как на крайнее проявление ленности, находил, что безделье и лень — единственное название для странной болезни сына. Надеялся, что, женившись и получив отцовское имение, возьмется за ум, найдет работу. Но Дмитрий не изменился и после женитьбы. Имением по-прежнему управлял опытный Кронид, а Дмитрий спал, охраняемый верным псом своим Шелькой. Скучал отчаянно, наводя скуку и на жену, и только охота на зайцев и волков по пороше на некоторое время выводила его из состояния апатии.
Однажды заболели все передние зубы. И как-то странно заболели: стали шататься и выпадать, как у старика. Доктор без всякой боли для пациента вынул весь передний ряд зубов из нижней челюсти, и Дмитрий неожиданно обеззубел. Пришлось поехать в Москву к знаменитости. Там ему вставили искусственную челюсть с прекрасными белыми зубами Он быстро освоился с новым своим физическим недостатком, даже научился языком вынимать челюсть и в шутку стращать ею жену. Когда отец попрекнул, недоумевая, почему у него выпали зубы, Дмитрий сдержанно ответил:
— Доктора говорят, что болезнь моя наследственная, папа.
Старик неожиданно смутился, смолк и ушел в кабинет. Там он долго ходил из угла в угол, вздыхал и думал: какая же могла быть наследственность, от кого? Сам он никогда никакими «секретными» болезнями не болел, под старость объявилась экзема на нервной почве — и только... Нервен он, это правда, но причина — вся его жизнь, постоянные волнения: небось, будешь нервным, когда и ночью-то не спится, среди ночи вскочишь — нет ли телеграммы с биржи; упадут цены иногда в одну ночь — и прощай капитал. Какая же наследственность у детей? Нервы, что ли?.. Но при чем тут зубы Дмитрия? Не иначе — от матери все: после горячки еще в молодых годах, с полгода не в себе была, вроде как не все дома, почти такой осталась на весь век — с причудами. Оглохла, да и душа как будто омертвела, бесчувственная стала. Дети пошли болезненные. А может, и у нее наследственность была. Как знать? Вот и вспомнишь народную мудрость: в деревнях исстари без любви женят, да зато сперва узнают подноготную, — не было ли в роду больных, припадочных, дураков, озорников или пьяниц. Значит, о наследственности там больше думают, чем у богатеев; тут на первом плане расчет: по расчету, конечно, и он Дмитрия женил. Впрочем, что ж. Баба у него на вид здоровая и не дура. Константина на здоровенной девке женили, настоящая родильная машина, а это — главное: именно будущих здоровых внучков имел в виду Сила Гордеич, почему и махнул рукой, что из бедных дворян, без приданого взяли. Купил им прекрасное имение — по закладной от какого-то пройдохи-офицера, привольные места; а Константин тоже, говорят, нездоров.
С Наташей горе: который год больна! Впрочем, пишут, что поправляется, о ребенке скучает, спрашивает, не собирается ли кто за границу, так чтобы сына привезли. Вот какие дела! Разъехались все по белу свету, и остался он в этаком домище один-одинешенек с глухой своей старухой, Настасьей Васильевной. Только и развлечения, что служба в банке: приедешь — все там свои, все старые друзья, своя рука владыка, хоть поговорить есть с кем; а там, глядишь, в задних аппартаментах за водочкой все заправилы соберутся, опохмеляются. Выпьешь да поговоришь — оно и легче: по крайней мере, хоть немножко забудешься от семейных дрязг.
Там люди о судьбах российского капитала думают, большие дела решают. Крюкова, например, везде нелегкая носит, никогда этот человек спокойно на месте не посидит, все нюхает, чем пахнет где: то он в Москве, то в Петербурге, а теперь в Берлин зачем-то отправился; везде у него дела да знакомства.
И, как всегда, легок на помине, ввалился в кабинет Крюков, в синей поддевке, в высоких сапогах.
— Здравствуйте, Сила Гордеич!
Вот те на! Как снег на голову... А сказали, что ты в неметчину поехал...
— Как же, был и в неметчине, — засуетился Крюков, опрокинулся на широкий кожаный диван и звонко засмеялся. — В Берлине был, в Париже, в Ницце — за морем-окияном, где живут песиголовцы, везде меня носило...
— Что там у тебя? Дела, что ли, какие?..
— Есть, конечно, и делишки: суконную фабрику думаю на заграничный лад устроить. Да кстати женился, так жену с собой захватил...
Сила Гордеич опять поднял брови и головой покачал.
— Женился? Где, когда?
— Да у себя же, в Лаптевке. У нашего попа дочку взял. Отец и венчал.
— Да что же это ты, вроде как потихоньку?.. И на свадьбу никого не позвал.
Крюков засмеялся.
— Некогда, Сила Гордеич. Обкрутился, да и марш в дорогу!.. Мне в Лаптевку со стороны жену брать не рука: еще заскучает, а это своя, тутошняя: только из дома в дом перейти.
— Так. Ну, поздравляю... Давно пора тебе остепениться. Все, чай, меньше мыкаться-то будешь. Ну, что в Европе-то, много чего видал?
Крюков вздохнул.
— Много! Завел знакомства с крупными фирмами.
— Все немцы?
— И немцы, и евреи... Много кой-чего узнал через них.
— А что именно?
Крюков встал, оглянулся по сторонам, наклонился к Силе Гордеичу и, понизив голос, сказал ему в ухо:
— Война будет, Сила Гордеич!
Сила махнул рукой.
— Вечно ты всякие небылицы в лицах выдумываешь. Тут люди ни сном, ни чохом, а он...
Но Крюков, энергично и убедительно тряся головой, шептал на ухо:
— Ей-богу, не вру... У нас-то, конечно, никому невдомек, а за границей коммерсанты все знают и тихонько шушукаются: будет!.. Скоро ли — не известно, а будет неизбежно. Подготовка давно идет, промышленность всю на военный лад перестраивают... Будет война, и как только начнется, сейчас в России революция вспыхнет... Обязательно, говорят, вторая будет, почище первой.
Сила Гордеич покачал головой.
— Так-то оно так, а все-таки невероятно. Война! Гм! Легко сказать — Россию затронуть!.. А насчет революции — явные враки. Ежели война — народный подъем будет, патриотизм... Ошибутся немцы.
— А вы помните, Сила Гордеич, перед пятым-то годом все чего-то ждали и — дождались... Я вас предупреждал, и что же, ошибся? Почти что в точку все вышло, Нынче нельзя по старинке сиднем на деньгах сидеть. Приходится держать ухо востро.
Он ближе придвинулся к Силе Гордеичу и еще тише зашептал:
— Деньги надо в заграничный банк положить, во французский или американский, вернее будет. Конечно, не все, а частичку не мешает — на всякий случай.
Он пробежался по комнате, бухнулся на диван и заговорил громко:
— А еще, Сила Гордеич, посоветовал бы я вам самому за границу проехаться. Что, в самом деле? Расход для вас пустяковый, а в ваши годы отдых требуется... Хоть в конце жизни свет поглядеть... в Париже побывать, в Берлине. Сами во всем убедитесь... А там — на воды куда-нибудь... здоровья на двадцать лет прибавится...
Сила Гордеич пожевал губами.
— Я и сам давно собираюсь... от желудка и от нервов полечиться, да все дела. Э-хе-хе!
— Дело не волк, Сила Гордеич, — в лес не убежит. А с другой стороны, это дело поважнее других обернется. Верно вам говорю. И опять же за границей у вас теперь свои: две дочери, два зятя. Только черкните — встретят и проводят.
— Ты, что же, из Москвы сюда?
— Нет, из Лаптевки, да по имениям кой-куда заезжал.
— Неужто всем разблаговестил?
— Что вы, Сила Гордеич! Только вам, по дружбе... К чему загодя народ булгачить? Даже сыну вашему Константину — заезжал и к нему мимоездом — как есть ничего не сказал... Во грустях он у вас и даже как будто не совсем в духе...
— Ну, как он там живет? Имение-то я за глаза купил.
Крюков развел руками.
— Как сказать? Живет, хорошо, усадьба — красота. Речка, пруд большой, лесу много; пахотная земля не вся хороша, есть суглинок, вообще — имение, можно сказать, расстроенное. Ну, а Костя хандрит через это.
— Денег, видно, не хватает.
— Гм!.. наверно.
Крюков вздохнул и засмеялся.
— Вот бы побывать у него, Сила Гордеич, наладить дело... Прямо говорю, не в своей тарелке парень...
Крюков повертел пальцами около лба.
Сила Гордеич озабоченно прошелся по комнате, нахмурившись и жуя губами. Крюков наблюдательно следил за ним. В первый раз он заметил, что походка у Силы Гордеича не такая легкая, как бывало, и голос, могучий прежде, звучал с хрипотцой: сдавать стал старик.
- Горе мне одно с детями моими! — со вздохом вымолвил Сила Гордеич.
— У кого его нет, Сила Гордеич?
— Больные все. У Дмитрия — пакость какая-то, у Наташи — чахотка, Варвара — несчастная, а Константин — такой человек, что сам себя до болезни доведет... — Сила махнул рукой. — Пойдем, закусим, что ли?
— С вами выпить, Сила Гордеич, я всегда готов, — оживился Крюков, вставая и следуя за хозяином в столовую.
— Ну, положим, что не со мной одним. Льешь, как на каменку, и — как с гуся вода! Счастливая натура!
— Бог грехам терпит, Сила Гордеич... А насчет заграницы вы подумайте... и насчет Кости — тоже... По- моему, вытащить его надо, проветрить на людях: сидит, как медведь в берлоге, да и киснет там...
— Подумаю, подумаю.
Имение Константина находилось в двадцати верстах от станции железной дороги. Занесенные снегом поля подходили к длинной, крутой горе, поросшей лесом и походившей на спящее чудовище. На верху горы прежде стоял помещичий дом, а теперь виднелась только стоножка: дом прежний владелец продал на слом. Константин временно жил у подножия горы, в бывшей копире, длинном бревенчатом, одноэтажном здании, кое- как приспособленном для жилья.
Место было низкое, на берегу пруда. Маленькая речка летом загнивала, покрывалась тиной, кочками. Осенью Константин схватил лихорадку и с тех пор, не мог от нее избавиться: два раза в неделю к вечеру начинался озноб, жар, больной лежал в забытьи и бредил. Ему представлялось тогда, что существуют два Константина: один живет и действует, а другой критикует его поступки, — приходит во время лихорадки, садится у изголовья и начинает спор.
Пробовал лечиться у земского врача, с которым успел подружиться. Врач давал порошки, а болезнь называл «раздвоением личности», советовал быть больше на людях и сам приезжал по вечерам — петь романсы под рояль; доктор пел, а Константин аккомпанировал.
Земский врач жил в ближайшем селе, был вдов и сам тосковал от одиночества, почему и повадился к пациенту. Жена Константина Зинаида Николаевна очень мало походила теперь на ту бойкую цыганочку, которая когда-то так нравилась ему: быстро располнела, ушла в хозяйство. Сама подобрала черно-пегую тройку и каракового иноходца для прогулок под седлом, держала себя помещицей и заставила мужа сделать визиты всем соседним землевладельцам. Но дворяне отнеслись холодно к «купеческому сынку», отца которого многие из них ненавидели. Силу Гордеича они потихоньку называли «росгонщиком»; да так это и было по отношению к ним. Поддерживать дворянские разговоры Константину было крайне тяжело: о нем было известно, что он «толстовец» и почти революционер.
На визиты нового землевладельца-недворянина никто сразу не ответил: отговаривались, что не хотят беспокоить больного.
Константин был, действительно, серьезно болен, хотя жене и не говорил о «раздвоении личности». Доктор тоже на все ее вопросы отшучивался, уверял, что к весне «малярия» пройдет, в особенности если переменить климат, съездить на какой-нибудь курорт.
До болезни Константин с жаром отдавался восстановлению имения, разоренного прежним помещиком: засеял сотни десятин (но урожай оказался плохой), завел жнейку и молотилку, поправил водяную мельницу, пустил в пруд карасей, устроил небольшой конный завод. Конечно, все это было не то, что в отцовском Волчьем Логове: не было денег на семитысячных производителей, конный завод казался жалким в сравнении с знаменитым черновским заводом, доставшимся Дмитрию. Константин надеялся постепенно восстановить обобранное имение, развить дело. Но дело шло плохо, и в этом он винил себя, свою неопытность и неумение. Потом как-то вдруг, устал, охладел — может быть, сказалась болезнь; напала тоска, уныние, а в длинные зимние вечера одолевали безотрадные мысли.
Во время пароксизмов малярии голос двойника раздавался в ушах больного все более настойчиво, укоряя Константина в тщетности, ненужности всех его дел. Это было мучительно. Он похудел, осунулся и коротал зимние вечера в мрачном молчании.
Зинаида от скуки часто уезжала в гости к родителям, и тогда Константин оставался совершенно один в угрюмом старом доме в обществе кучера Сергея и старого пьяницы-повара, ночевавших на кухне.
В один из таких вечеров, когда Зинаиды не было дома, приехал доктор Василий Иванович. Это был мужчина богатырской наружности, обладавший густым, бархатным басом. Медицину знал плохо и не любил ее, зато страстно любил пение и имел замечательный голос. Если у Константина не было температуры, Василий Иванович пел подряд несколько часов, выливая в пении тоску своего одиночества. Любил поговорить о своем голосе и о том, что его еще студентом хотели принять на казенный счет в консерваторию, но он отказался, так как считал пение бесполезным делом. Все это Константин слышал много раз, но с удовольствием слушал красивое пение неудавшегося певца-доктора. На этот раз, как и всегда, начали они с любимого номера — с песни о Стеньке Разине, но Константин на втором куплете сбился с тона. Певец остановился и сказал своим приятным, маслянистым басом:
— Позвольте-ка ваш пульс, синьор!
— Ничего, продолжайте.
— Не ничего, а я все-таки доктор. Вид у вас сегодня неважный, руки дрожат, — пожалуй, есть температура.
Сосчитав пульс, доктор вздохнул и закрыл рояль.
— В постель! — кратко приказал он докторским тоном. — Сегодня у вас малярийный день оказался. Извольте слушаться! Ложитесь, а я около вас посижу, потолкуем, пока не заснете. Концерт отменяется.
Доктор проводил его в спальню, велел раздеться и лечь под одеяло, а сам сел напротив в глубокое кресло, поставив на стол зажженную лампу с зеленым абажуром.
— Нехорошо, — бормотал Константин. — Отца сегодня жду: послал к поезду Сергея, — писал старик, что приедет нынче...
— Вам серьезно полечиться надо, климат переменить, иначе «она» вас в лоск изведет. Мое-то лечение какое! Мелюс-скоблюс, углюс-толкус — и никакого толку-с! Малярия — дело не шуточное. Я тоже раз захватил ее на охоте, еще студентом: с тех пор и голос не тот. Вылечился тем, что на юг уехал...
Константин слушал с закрытыми глазами. По жилам уже струилась знакомая теплота, дышать становилось труднее, в ушах звенело: приближалось приятное, плывущее, уносящее куда-то туманное забытье. Голос доктора гудел гармонично, теплой, бархатной волной, постепенно затихая и доносясь как бы издалека.
«А ведь я засну, пожалуй, — подумал Константин. — Неловко будет перед Василием Иванычем: что-то рассказывает, а я спать хочу».
По всему телу прошел мороз, потом огонь, опять мороз.. Голос доктора умолк, а Константина понесло, покачивая, в черную страшную мглу. Он сделал усилие над собой и тяжело открыл воспаленные глаза.
В кресле вместо Василия Иваныча сидел кто-то другой, смутно знакомый — молодой человек с бледным, землистым лицом, с черными усиками и сверкающими, впалыми глазами.
— Где доктор? — нисколько не удивившись, спросил Константин.
— Уехал, — также тихо ответил сидящий. — Ты заснул, он и уехал. Лучше я вместо него посижу. Давно не говорили.
— Галлюцинация! — прошептал Константин. — Сон! Всегда один и тот же сон.
Собеседник улыбнулся:
— И вовсе не галлюцинация, напрасно так думаешь: я часть тебя самого, пожалуй, даже лучшая часть, вроде как совесть, что ли. Доктор меня констатировал как раздвоение личности; следовательно, раз существуешь ты, существую и я, а ты говоришь — галлюцинация!
— Какая чепуха! — прошептал Константин. — Все это мне представляется: у меня жар, и голова болит. Почему же я разделился на две личности? — спросил он самого себя.
Но собеседник тотчас же ответил:
— ...Самоистязание. Ты и заболел оттого, что не можешь с имением справиться.
— Справлялся же прежде.
Двойник усмехнулся.
— Прежде?! — Ха! Прежде-то, в Волчьем Логове, Кронид тебе помогал, а вот как остался один — и не можешь.
— Почему? — возмутился Константин.
— Да потому, что настоящим помещиком не хочешь быть. На новых идеях воспитан. Хотел мужикам землю за бесценок продать, а они на это не согласились, отказались покупать!
— Странно, зачем отказались?
— Не поверили тебе, опасались, как бы ты их не надул, надеются даром получить всю помещичью землю, а раз ты заблаговременно хотел от земли отказаться, значит или с ума сошел, или дело не чисто! Хе-хе! Вот в литературе все жалеют мужиков — дескать, какие несчастненькие! Пейзане! А на самом деле — жулье твои мужики! Знаю. Хе-хе! ведь ты себя «толстовцем» считаешь, а какой ты, с позволения сказать, толстовец? Одни слова. Женился на бедной дворянке. Да разве позволит она тебе эти глупости? Она и поймала-то тебя из-за денег, чтобы помещицей сделаться. Грош тебе цена без земли-то!
— Послушай! — вскипел Константин. — Зачем ты копаешься в этом? Это — мое... личное... Она любит меня.
— Хе-хе! Что ж, отдай имение народу, вот и увидишь, как она тебя любит. В сумасшедший дом засадит. Да и ты-то — по любви, что ли, женился? По-моему — больше из самолюбия, — почему она сначала не за тобой, а за твоим братом Дмитрием ухаживала? Вот и влопался. Цыганочка! цыганочка! А какая она цыганочка? Совсем мещаночка оказалась. Хочет в свое удовольствие помещицей жить. Тройку-то какую подобрала! За иноходцем тебя в степь к башкирам за двести вере? посылала. А все из-за шику. По-моему, никакой и любви-то между вами нет. На твои идеи, поди-ка, наплевать ей. Ведь у нее какие запросы? Усы да брюки — больше ничего; а это, брат, на каждом шагу. Вот бросила тебя больного: где же чувство-то? Впрочем, что я! Она, конечно, по гроб будет верной женой... народит детей... родильная машина, — так, кажется, с первого взгляда определил ее почтеннейший родитель твой Сила Гордеич, Очень метко сказано. Прозорливый старец!
— Врешь ты! Дразнишь меня. Я по любви женился, она — поэтическая была.
— Поэтическая?! Хе-хе! А теперь почему же прозаическая стала?
— Ну что ж, — упавшим голосом прошептал Константин. — Во взглядах не сходимся мы, — это правда. Так ведь в случае чего — и расстаться можно.
— Хе-хе! Взгляды — одно, а характер твой — другое. Что уж, где уж. Коли женился, так ты, брат, не разженишься. Где тебе? Поздно. К лету, кажется, прибавления семейства ждете. Вот тут и разженивайся. Э-хе-хе, рыцарь печального образа!
— Оставь! — простонал Константин.
— По-моему, — продолжал, не слушая, собеседник,— песня твоя спета: толстовство побоку — и будешь делать то, что жена велит. Ведь и сам Толстой-то с женой-помещицей мучился, перед смертью только и сбежал. А с обыкновенными людьми гораздо проще бывает. Увлекаются хорошими словами, а как дойдет до дела, так и на попятный. Брат твой тоже философствовал, либеральничал, стихи писал, покуда на родительском иждивении баклуши бил. Все вы этак. Помнишь случай за выпивкой в имении. Митя Николая Угодника поматерно выругал, а в этот момент как раз икона Николы с гвоздя сорвалась и упала! Ведь простая случайность, а ОЙ побледнел, затрясся весь! По-моему — коли верить, так незачем и ругать! Так — мальчишество, хвастовство одно! Он, конечно, еще хуже тебя не сельский хозяин, но везет же лежебоку: у жены его два миллиона!
— Не завидую, — задыхаясь, шептал Константин.
— Ну, как не завидовать? Конечно, завидуешь. Дмитрий с расчетом, по-купечески поступил. Знаешь, он недавно Крюкову по-приятельски испорченную лошадь продал. Тот потом укорял: «Что же ты это, Митя, надул меня?» А Дмитрий смеется: «Чего же не глядел? Глядел бы!» Вот это правильно: не обманешь — не продашь. Крюков даже похвалил его потом; только не ожидал та-кой прыти, потому и не посмотрел хорошенько.
— Знаю про лошадь... так, подшутили над Крюковым.
— Шутки шутками, а в этом сказываются характеры.
Двойник помолчал, ехидно улыбнулся и продолжал совсем тихо:
— Сестру Наташу-то вы тоже, как больную лошадь, художнику с шеи скачали. Не ты персонально, а вообще все вы: ведь знали, что больная, березка-то и тогда надломлена была, совсем без приданого спровадили, — это от миллионов-то! И мучается с нею художник по санаториям да больницам. Что ж, «смотрел бы! Чего не смотрел?» Хе-хе! Вообще — больные-то вы больные, но пальца в рот не клади. Вот только Наташа: у этой совесть больная, да и у тебя тоже...
— А Варвара? — нерешительно возразил Константин. — Уж она-то — здоровый человек.
— Это старшая-то сестра твоя? Хе-хе! Вот сказал! Да она — леди Макбет. Кстати и наружностью на эту англичанку похожа, да и живет в Англии. Что й говорить — женщина с характером; только за ней, как полагается шекспировской героине, трагедия по пятам шествует: слушок-то насчет насильственной смерти лю-бовника ее — помнишь? А ребеночка Наташина кто отравил?
— Лжешь! Клевещешь! Где доказательства?
— Доказательств нет, да и смысла как будто нет, но в том-то и смысл, что нет смысла. Может быть — случайность. Я ведь не утверждаю и не обвиняю никого, а все-таки... Ты знаешь, что когда Варвара в доме, родитель на крючок запирается на ночь, да еще сам же говорит: «Боюсь крысиной смертью помереть». Это он про нее: в случае чего — не дрогнет рука у Варвары.
— Да, она ненавидит отца, обижена им.
— Конечно, но все-таки, как ни верти, — ненормально. Какое тут здоровье! Нет ли и у нее этакой болезненной психики? Намедни писала матери: «У меня что-то волосы начали выпадать прядями, прямо, как страшный сон. Приеду к вам — лысая. Доктор говорит — малокровие мозга». Кстати, у Дмитрия недавно все передние зубы выпали, — это в двадцать-то семь лет! У Варвары — волосы, у Наташи — чахотка и переразвитие совести, у тебя — раздвоение личности: что бы все это значило?
— Не знаю, не знаю, не знаю, — скороговоркой пробормотал Константин.
— А я знаю! — хихикнул призрак и вдруг громко и строго крикнул: — Вы-рож-де-ние!
Константин вздрогнул. Мороз хлынул по спине к затылку, волосы зашевелились, сердце как бы остановилось в груди.
— Вырождение? — задыхаясь, шепотом спросил он. — Так вот оно что!
Да! Ты читал рассказы Эдгара По? Есть у него страшный рассказ «Падение дома Ашеров»: так вот — у вас очень похоже выходит! Только там вырождение может столетиями подготовлялось (аристократическое), а у вас купеческое: через два поколения все насмарку идет! Родители то сильные люди, всего в их жизни было много: много работали, много пережили, много пили, культуры никакой — первобытные люди, все силы и раскатили на себя: у вас детей обнищание духа начинается! Я так полагаю, что никакое лечение не поможет, конченные вы люди, родились безжизненными! Родители не любили друг друга — деньги любили; все и ушло туда! Вся энергия в капитал превратилась, любовь в деньги вылилась, а потомству — шиш! Хе-хе! Вот говорят, что у гениальных людей дети всегда никчемные бывают! Конечно, Сила Гордеич не бог весть какой гений, а все-таки, по-моему, не совсем заурядный человек — на создание капитала все силы отдал, всю кровь сердца! Любит говорить, что он в жизни своей мухи не обидел — добрый старичок — какое там мухи — дочь родную до белого каления довел, да и остальных детей — и тебя в том числе, задавил, задергал — все из-за денег, которым поклонялся, как богу. А сколько дворян опутал да по миру пустил, сколько их на него плачутся!
— Ну и черт с ними, — вскричал Константин: — они тоже хороши! Вот это имение заложили ему, а сами все высосали: разорили землю, выпахали... дом украли, лес вырубили!.. Восстанавливай теперь, работай, после них.
— Согласен! Дворян не жалко, историческое недоразумение! Но ведь он до дворян капиталец приобрел: тоже, небось, огулка на руку не клал!
Да вот тебе пример: мельницу-то в Волчьем Логове при тебе строили, местные мужики сваи заколачивали, а почем рабочим платили?
— Мужикам полтинник в день, а бабам двугривенный!
— То-то и оно! Управитель Кронид говорил им, когда рядился: «все равно делать-то вам нечего!» — вот и гнули спины, да орали «Дубинушку» за двугривенный. Плакали да шли, а ты, толстовец, народолюб — тоже в этом участвовал.
— Мелочи! Мелочами меня донимаешь!
—- Конечно, мелочи! Из мелочей и составляется капитал! «По грошам собирали!» — мамаша то говаривала: «помощницей мужу была!» — верно! Хороший хозяин всегда мелочной человек! Одним словом, не без греха было! Тут уже на людские слезы нечего глядеть да умиляться! Жесткое сердце надо! Вот и родитель твой — от природы не плохой человек — душевный даже, когда выпьет, но за десятки лет наживания — поневоле зачерствеешь — такое дело: взявшись за гуж — не говори, что не дюж!
— Ну, к чему ты все это говоришь мне, мучаешь, изводишь?
— Да все к тому, что капитал — палка о двух концах: слезы-то людские отзываются, кровь-то чужая, что в деньгах заключается, вопиет, так сказать. Вот вы, например, дети капиталиста, а сами капиталистами быть не можете. Крышка вам! Малокровие мозга, раздвоение личности... зубы... волосы... чахотка.., заживо гниете. Все это вам — за капитал.
Двойник засмеялся скверным, ядовитым смехом.
— Замолчишь ли ты? Убью! — в бешенстве закричал Константин.
— Хи-хи-хи! То есть как это меня убьешь, когда я-то и есть — ты? Себя убьешь?
— Себя убью.
Константин кричал, но не слышал своего голоса. Ему захотелось ударить, вытолкать непрошенного гостя, но двойник сам встал, беззвучно поплыл по воздуху и медленно исчез в темном зимнем окне. Некоторое время тень стояла за окном в ночной тьме, видная по пояс, и наконец исчезла совсем.
В кресле сидел сам Константин в поддевке и сапогах. Выгоревшая лампа под зеленым абажуром коптила и медленно гасла. Пахло гарью.
Константин встал, дрожащими руками вынул из ящика стола револьвер, приставил дуло к виску и нажал собачку. Осечка.
— Глупо! — со злостью сказал он, стиснул зубы и сильно ударил себя рукояткой в висок. — Трус! Подлый трус!
В окно снаружи кто-то сильно застучал. Константин вздрогнул так, что подпрыгнул на месте: за окном смутно колебалась неясная тень. По щеке медленно текла кровь, но он не чувствовал ее. Дико, страшно завыл.
— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас?! — прозвучал чуть слышный голос.
— Аминь! Кто там? — трясясь всем телом, не своим голосом спросил, заикаясь, Константин.
— Кучер Сергей! — радостно крикнул голос. — С полчаса стучимся, Константин Силыч. Сила Гордеич приехали!
Едва держась на ногах, Константин открыл парадную дверь, воротился обратно, сделал несколько шагов в зал и упал без сознания.
Очнулся от чьего-то прикосновения. Сила Гордеич, ползая на коленях, приподнимал его голову, прижимал ее к своей груди и плакал. Пальцы и лоб старика были выпачканы кровью, которая широкой струей все еще текла из раны на виске Константина.
Ill
Зима в Давосе промелькнула быстро. Кончились яркие, солнечные дни; горная весна сказалась туманами, мокрой вьюгой и бурным таянием глубокого снега. С гор с ревом бежали гремучие, пенящиеся водопады. Зимний лечебный сезон всегда заканчивался в марте. Большинство больных уезжало из Давоса, спускаясь с гор в приморские курорты. Приват-доцент Евсей уехал в Виллафранку работать в лаборатории. Абрамов и Галин — пожизненные давосцы — сделались приятелями Валерьяна, составляя ему постоянную компанию; по нескольку раз в день встречались в читальном зале «Кургауза», где они пили свою кружку пива...
Едва только сбежали с гор весенние воды, как Наташа стала нервничать и тяготиться суровым режимом санатория, почти тюремным режимом, необходимым для лечения, но надоевшим ей до ненависти и отвращения. Благодаря усиленному питанию и лечению давосским воздухом она превратилась в румяную толстушку, так что даже утратила прежнюю стройность фигуры. Ей казалось, что она уже совсем здорова, но суровый доктор не считал лечение законченным и не отпускал ее из Давоса. Единственное, что он по ее усиленной просьбе разрешил ей, — это переехать на лето в загородный отель на берегу Давосского озера в сосновом лесу.
В первый же день после переезда погода совсем испортилась: шел крупный, мокрый снег, — нередкое явление в Альпийских горах летом, дул сырой ветер, горы заволокло непроницаемым туманом. Весь день они просидели в комнате в скучном и печальном настроении.
Наташа молча склонилась над шитьем, а Валерьян сидел за пианино и, не умея играть, одним пальцем подбирал печальный мотив, в унисон струнам напевая вполголоса:
Еду ль я ночью по улице темной, Бури ль заслушаюсь в пасмурный день, Друг беззащитный, больней и бездомный, Вдруг промелькнет предо мной твоя тень...
Ветер шумел в горах. За окном косо падал снег большими сырыми хлопьями. В холодной комнате топился камин, и уже серым пеплом покрылись уголья.
Валерьян и сам не знал, почему ему вспомнилась эта грустная песня: она выражала его настроение, навеянное печальными, безотчетными мыслями, унылой вьюгой, сознанием одиночества и заброшенности на чужбине.
Всю эту зиму работалось плохо: не было необходимого подъема настроения, одолевали тоска по России, уныние и сомнение в своих художественных работах. Написал несколько горных эскизов — и сам чувствовал, что не любит, не понимает чужой природы. Написал небольшую картину по воспоминаниям — и с горечью сознавал. что ему не хватает России. Абрамов хлопотал от его имени о журнале, но пока еще ничего не выходило.
Недовольство собой и неудовлетворенность неудачной работой усиливал печальный, тоскующий вид Наташи. Наружно она поправилась, но тоскливое выражение глаз углубилось настолько, что он не мог видеть их без боли. Мысли о покинутом в России ребенке и об умершей маленькой девочке стали у нее навязчивыми, болезненными. Впервые Валерьян видел такую острую тоску матери о детях, могущую свести с ума или довести до самоубийства. Наташа рвалась из ненавистного Давоса к покинутому единственному ребенку, готовая заплатить за это жизнью. Но она не могла решиться на отъезд, подчиняясь решению мужа довести лечение до конца. Писала родителям, чтобы ей привезли сына, которому теперь было лет шесть; но Сила Гордеич ответил неопределенно, что ехать за границу некому — все заняты или больны, и что не ему же самому ехать! Часто без видимой причины глаза ее наполнялись слезами, и тогда она, чтобы скрыть их, убегала из комнаты. Наташа видела тоску Валерьяна, упадок его творчества, недовольство неудачной работой, самим собой и всей их расстроенной жизнью. Денежные дела тоже пошатнулись: все получения были исчерпаны, а неудачных работ своих он не хотел посылать, чтобы совсем не уронить свое потускневшее имя; и это более всего угнетало его. Угрожал мрачный призрак бедности и забвения; всему причиной казалась болезнь Наташи, оторванность от родины. Думал, что придется оставить Наташу и поехать устраивать денежные дела.
Наташа молча слушала его тоскливое пение, без слов чувствуя уныние художника.
Помнишь ли день, как, больной и голодный, Я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, Пар от дыханья волнами ходил».,
Валерьян продолжал напевать про себя, низко наклонившись к непослушным клавишам, ошибаясь х снова повторяя ноющий мотив.
Помнишь ли ветра унылые звуки, Капли дождя, полумрак, полутьму?.. Плакал твой сын, и холодные руки Ты согревала дыханьем ему.,.
Она все ниже склонялась к шитью. Ей хотелось броситься к нему, остановить рыдающую песню и заплакать на его груди, закричать, чтобы он не терзал ее душу напоминанием о ребенке, что это она, только она виновата во всем надрыве их жизни, что она готова умереть, лишь бы он воскрес для своего творчества...
Но Валерьян, охваченный тоской, продолжал петь, ни разу не взглянув на нее и не зная, что она чувствует его настроение.
Он не смолкал... и пронзительно-звонок
Был его крик. Становилось темней.
Вдоволь поплакал и умер ребенок...
Наташа встала и быстро выбежала за дверь в коридор. Валерьян не обратил на это внимания и продолжал упиваться грустной песней. Он не сразу подбирал нужные звуки, но его приятный баритон, незаметно для него, невольно трогал искренней грустью.
Пел он долго, повторяясь и задумчиво возвращаясь к словам о мертвом ребенке. Ждал возвращения Наташи, но она не воротилась. Тогда он, удивленный, встревожился, закрыл пианино и пошел узнать, что могло задержать ее в холодном коридоре; пошел пожурить, что она не бережет себя.
Наташа стояла, прижавшись головой к дощатой стене коридора, и горько, беззвучно рыдала, вздрагивая всем телом. Крупные слезы катились по щекам ее.
— Ребенок... мой... — дрожащим, прерывающимся голосом шептала она сквозь рыдания. — Ребенок...
Вся фигура ее выражала надломленность, как тогда, когда они оба плакали, обнявшись, у постели маленькой мертвой Елены.
Только тут Валерьян понял, какую наболевшую рану бередил он, что материнское горе, удар судьбы, пронзивший ее душу, навсегда оставили там глубокую, незаживающую скорбь. И снова, как тогда, они обнялись без слов, одинокие, гонимые судьбой, которая словно играла их жизнью, издеваясь над их жалким сопротивлением ее предначертаниям. Валерьян увел жену в комнату, усадил в кресло, опустился к ее ногам.
Вдруг на лестнице послышались шаги и чей-то густой, разряжающийся, с настоящим волжским акцентом бас, в котором им обоим почудилось что-то знакомое.
Валерьян вскочил и бросился к двери, но она уже отворилась, и в комнату вбежал тепло закутанный бутуз, без шапки, с круглой, большой головой и сияющими синими глазами.
— Мама! — закричал он и бросился в объятия Наташи.
Она задохнулась, все лицо ее задрожало, глаза остановились. Молча прижала сына к груди, и из глаз покатились новые слезы — слезы восторга и радости.
Сила Гордеич, сгорбленный и постаревший, в сером весеннем пальто и каскетке на стриженой седой голове, остановился у порога и молча улыбался знакомой хитрой улыбкой, озирая комнату пронзительным взором поверх дымчатых очков.
— Что, не ждали? — прогудел он, снимая пальто и уклоняясь от помощи Валерьяна. — Ведь я же писал, что приеду.
Он поздоровался с дочерью и зятем с обычной сдержанностью, как будто ничего особенного не случилось, но видно было, что в душе старик взволнован.
Наташа улыбалась, краснела и крепко прижимала сына к груди, словно боялась, что у нее отнимут его.
— А ну-ка, дай посмотреть на тебя! — шутливо говорил Сила дочери. — Эк тебя раскормили-то здесь, — и добавил с неожиданной лаской в голосе: — Даже смотреть противно.
Валерьян радостно и суетливо бегал по комнате.
— Поправилась, — сказал он. — Вот что делает Давос! Еще только одну зиму здесь прожить — и будет здорова.
Наташа укоризненно посмотрела на мужа.
— Еще одну зиму?! — протянул Сила Гордеич. — Эх-хе-хе! Вижу: раскормить-то ее раскормили, а в глазах все равно жизни-то нет.
— Это не от болезни, — возразил Валерьян: — вот по бутузу своему стосковалась.
Потрепал сына по румяной щечке, пощекотал.
Мальчишка смеялся, мотая головой, и властно расположился на коленях матери.
— Как вы доехали?.. И как это хорошо вздумали!.. Почему не телеграфировали? Встретил бы, — волновался Валерьян.
— Да так уж... вдруг решил... Ну и надоел мне этот разбойник! Всю дорогу спать не давал: только заснешь в вагоне после обеда, а он пальцами глаза мне ковыряет: «Дедушка, не спи, мне ску-ушно». Хе-хе! Ленька, любишь меня? — обратился он к внуку.
— Нет! — искренно ответил Ленька.
Сила Гордеич юмористически поднял брови.
— Отчего?
— Да я вообще стариков не люблю.
— Ах ты, дипломат!.. Это уж черновское, — подмигнул он Наташе. — А помнишь, как я тебя в вагоне нахлопал?
— А я тебя нахлопал, — по-приятельски улыбаясь, возразил Ленька. — Ты — меня, а я — тебя.
— Высунулся из окна и машет картузиком. Я говорю. «Эй, Ленька, не вздумай бросить картуз». Он сейчас же и бросил. Вот без картуза теперь. Я ему и всыпал по мягкому-то месту.
— А я тебе всыпал! — бойко возразил внук, нисколько не боясь сурового деда.
— Ах ты, р-разбойник! — смеялся Сила Гордеич и добавил: — Совсем не в мать он характером-то. В от-ца, видно...
— И слава богу, — улыбалась Наташа, снова обнимая сына. — Где он тебя нахлопал?
— Вот здесь. Да не больно было. Я ему сам...
— Миленький ты! — Наташа страстно целовала ребенка.
— Вы надолго сюда? — спрашивал Валерьян.
— С недельку пробуду. Обещалась подъехать Варвара с мужем, проводят меня до Парижа...
— Ах, как хорошо! — обрадовалась Наташа, — Давно я Варю не видела.
Сила Гордеич вздохнул.
— Разбрелись вы все у меня, кто куда: братья твои в деревне сидят, тоже и их редко вижу... Мудреное какое-то нездоровье у них. Весной хотят на Ривьеру ехать,, деньгами сорить. Жили бы по-нашему, попросту, без затей — так никаких бы этих Давосов и Ривьер не спонадобилось.
— Я тоже на Ривьеру поеду, — заявила Наташа: — с братьями повидаться.
— Ну, это — как еще доктора тебе скажут.
— Надоели...
— Мало ли что!
— На Ривьеру отпустят, взбунтоваться если...
— Вот ты какая стала! Ну, это потом видно будет.
Сила пожевал губами, вздохнул и покачал головой,
— Не по тому пути жизнь пошла, — обратился он к Валерьяну. — В деревне хулиганство да пьянство несусветное, не знай с какой радости. Наш брат, коммерсант, что-то карман поджимает, и — нехорошо говорят... Вроде того, что перед пятым годом было, только хуже...
— Конституции, что ли, хотят? — улыбнулся художник.
— А черт их знает, чего они все хотят! — с раздражением рыкнул Сила Гордеич.— Самим не ведомо, чего им надо. Ваша братия, интеллигенция, все по книгам рассуждает, а мы жизнь видим...
— Вот и вздумал Европу поглядеть... не для вояжу, конечно: дела есть! — Сила стал прощаться.
В Давос приехали Пироговы, вызванные Силой Гордеичем из Лондона для родственного свидания и совместной поездки в Париж.
В тот же день старик пригласил обеих дочерей с их мужьями отобедать вместе в ресторане «Кургауза».
Валерьян с Наташей спустились из комнаты Силы Гордеича в маленькую столовую, где в назначенный час никого, кроме них, не было.
Через несколько мину? пришли Пироговы. В дверях показалась Варвара в черном гладком платье, в гладкой прическе, похудевшая и постаревшая, с походкой театральной герцогини, с лорнеткой и вопросительной улыбкой на тонких губах: лицо ее выражало готовность разыграть родственную встречу. За ней вошел Пирогов, все такой же, как и прежде, с неподвижным, бритым лицом, с достоинством и непринужденностью знаменитого человека.
Разговор сразу разбился на две группы. Пирогов с деланной английской флегматичностью рассказывал Силе Гордеичу и Валерьяну об Англии и англичанах,
Сестры сидели отдельно на диванчике в уголке и разговаривали вполголоса.
— Понимаешь, — смеясь и играя лорнеткой, говорила Варвара, — все наши английские друзья думают, что русский депутат сэр Пирогоф — богатый человек, миссис Пирогоф — урожденная русская графиня, дочь графа Чернофф, помещица и миллионерша. Отец наш- миллионер, это, конечно, правда; но чтобы дочь миллионера жила, так сказать, по-пролетарски, это в их головах не укладывается. А между тем папа высылает только сто рублей в месяц, и это — главный наш фонд. Зато мы приняты в высшем английском свете, очень приятно и любопытно, но приходится, попросту говоря, врать и разыгрывать какую-то рискованную роль. Пирогов, разумеется, — известное имя, но ведь он теперь только эмигрант... Если не скрывать нашу бедность, все эти английские деятели и на порог бы не пустили бедняка-эмигранта, будь он хоть тысячу раз знаменит: они ни за что не поймут и даже не поверят, что русский студент из крестьян каким-то чудом прошел в депутаты Государственной думы. Бываем в таком чопорном обществе, какого ты себе и представить не можешь. Но к себе никого не приглашаем и даже адреса настоящего не даем: если бы только знали великосветские друзья русского депутата, в какой дыре живет он со своей графиней.
Наташа молча слушала, опуская глаза.
— Я там больше с англичанами, чем с эмигрантами, — разглагольствовал Пирогов. — Ведь наши везде в собственном соку варятся, европейцы сторонятся их... Чтобы быть принятым в английской семье, нужно что-нибудь особое. Мне помогло депутатское звание. Там думают: если депутат, так, само собой разумеется, денежный человек. Ну, мы их и оставляем в этом приятном заблуждении, — пускай.
— Фасон держите, — подсказал Сила Гордеич, беззвучно смеясь.
— Всю неделю работаешь где-нибудь на заводе, а потом — фрак, манишка, и уже мы — на званом вечере. Кругом роскошь, затянутое общество, известные имена. Знаете, я начинаю ценить английскую аристократию: там чувствуются традиции, порода лучших, умнейших и красивейших людей нации. Английская аристократия нисколько не вырождается, она все еще мозг страны. Такую аристократию невольно приходится ценить и с ней считаться, хотя я и работаю теперь неофициально в рабочей партии.
Сила Гордеич слушал с тактичной, умной улыбкой. Видно было, что ему, ненавистнику русской аристократии, лестно отношение английской к его дочери и зятю.
— К сожалению, — отозвался Валерьян, — о русской аристократии нельзя сказать, чтобы она была породой лучших, умнейших и красивейших людей нации. Может, это было когда-нибудь, но теперь тип русского дворянина всем известен: брюхо толстое, ноги тонкие, лоб атлета.
Пирогов и Сила засмеялись. В особенности долго смеялся последний. Посыпались остроты; зятья не давали друг другу спуску, состязаясь в остроумии.
За обедом Пирогов вспомнил о тех временах, когда он еще студентом впервые эмигрировал за границу.
— Понимаете, очутился я без языка, без денег, без знакомств в Париже. Жили мы тогда вдвоем с одним скульптором — в Латинском квартале, на чердаке. У двоих — одна шляпа, один костюм. Когда одному надо идти, другой сидит дома. Великолепно жилось. Скульптор лепил маленькие статуэтки, а я носил по улицам Парижа их продавать на этакой, знаете, доске с ремнем через плечо. Ничего, покупали бойко: скульптор-то хороший был, знаменитостью стал теперь. Я усиленно изучал язык, выучился, стал работать в газете.
— Значит, вы французским языком владеете? — спросил Сила Гордеич.
— Как природный француз. Париж знаю, как самого себя. Да, потом перекочевал в Берлин; немецкий-то язык я и прежде знал, поступил в университет. Заделался этаким заядлым немецким буршем: пиво пил, на рапирах дрался. А на заводе по химии работал. С рабочими был, как свой... Потом — в Англию. И уже здесь основался. Люблю эту страну. Отшлифовался так, что многие меня и сейчас за настоящего англичанина считают. Выучился боксу, могу пить все ихние напитки: дайте мне сейчас джину — выпью, сода-виски (дегтем пах-нет!) — выпью!
— И ничего? — юмористически поднял брови Сила
— Ни-че-го!
— Отшлифовался, нечего сказать! Хе-хе-хе!
Рассказав несколько забавных случаев из своей жизни, Пирогов незаметно перешел к серьезным рассужде-ниям о европейской политике. Здесь он сел на своего конька. Этот незаурядный человек легко захватил вни-мание слушателей. Привыкнув выступать то на рабочих митингах, то в аристократических салонах и обладая блестящим даром слова, он искренно и, может быть, преувеличенно верил в себя и свои силы, верил, что так кратко мелькнувшая звезда его снова засияет в те дни, когда придет вторая революция. Пирогов не причислял себя ни к одной из русских политических фракций, думал, что революция принесет парламентский строй, подобный английскому. Все его политические симпатии принадлежали английской рабочей партии. Ее лояльность казалась ему идеалом будущего строя в России,
Сила Гордеич насквозь видел этого ловкого краснобая, который и соврет — недорого возьмет. Давно учел авантюризм его натуры, способность сделать при удаче политическую карьеру, но не верил в его устойчивость. Ведь обманул же когда-то Пирогов Силу Гордеича, баллотируясь в Думу. Обещал отстаивать интересы торгово-промышленного класса, а как проскочил в депутаты, запел другое. Как на такого человека положиться? Будет выгодно — пойдет с социалистами, или как их там еще называют? Отчасти из таких соображений Сила Гордеич не давал Варваре более ста рублей в месяц: боялся, как бы от его денег не перепало на революцию, а повторения ее Сила Гордеич совсем не хотел. Опасался он и теперь, как бы знаменитый зять не вздумал просить у него денег, причем твердо решил отказать. Проедутся с Варварой на его счет по Европе — и то хорошо. По купеческой привычке расценивал Пирогова не как депутата, а как бедняка.
Когда после обеда все пошли в комнаты наверх, Пирогов удержал Валерьяна за рукав.
— Пойдем в курилку, покурим.
Усевшись в плетеные кресла, они вынули трубки.
— Знаешь, Валерьянушка, что я тебе скажу? — совсем другим, задушевным тоном начал Пирогов. — Ты не удивляйся, что я так много о моих друзьях-аристократах говорил и себя хвалил: это для дедушки, — честолюбивый старик. Лестно ему, что я и в эмиграции — все-таки Пирогов.
Он затянулся из коротенькой трубки, выпустил дым и, помолчав, продолжал:
— Придется мне взять у него взаймы немножко, так, пустяки какие-нибудь, тысчонки три. Так вот: как ты думаешь — даст ли? Неужели решится отказать — Пирогову?
Валерьян неопределенно развел руками.
— Не знаю, — пробормотал он, запинаясь. — Мне лично никогда не приходилось иметь с ним денежных дел. Я бы не сказал, что он скуп, но тут психология богатого человека: попросить у него денег без гарантии отдать — значит почти оскорбить его. Деньги — больное место для таких людей...
Во время этого разговора в комнату вошли давосские друзья Валерьяна: Абрамов и Евсей. Валерьян представил их Пирогову.
— Мы к вам по делу, — сказал Абрамов. — Есть у вас время поговорить?
Они уселись с деловым видом, держа шляпы на коленях.
— Очень приятно, что случай свел нас, — сказал Евсей Пирогову.
Бывший депутат с важным видом наклонил голову с английским пробором и улыбнулся.
— Дело в том, — продолжал Абрамов, — что мы наконец получили субсидию для открытия русского журнала с условием, чтобы во главе журнала стояло ваше имя, Валерьян Иваныч. Вот мы и пришли к вам просить принять редакторство художественного отдела.
— А вас, — обратился зоолог к Пирогову, — будем просить давать статьи по отделу европейской политики. Ваше имя очень ценится в политической литературе.
— Просим вас обоих, — заговорил опять Абрамов, — пожаловать сегодня вечером на редакционное собрание. Соберемся здесь же, в «Кургаузе». Передайте приглашение и вашему тестю: может быть, он заинтересуется нашими начинаниями...
Организаторы журнала тотчас же встали и ушли. Депутат и художник, оставшись одни, переглянулись,
—- Ну, что, Валерьянушка, возьмешь журнал?
— Обязательно! Ведь они моим именем получили субсидию, хлопотали с моего согласия. Присылай и ты статьи.
Пирогов печально улыбнулся. При посторонних у него был важный, высокомерный вид, но теперь перед Валерьяном сидел грустный, измученный эмигрант.
— Откровенно скажу тебе, но только между нами, Валерьянушка: иметь постоянный заработок, хотя бы на сто, на двести франков в месяц — в моем положении это якорь спасения. Мы ведь на занятые гроши приехали сюда, в надежде, что тесть поддержит; но если он откажет, положение будет трудное. Только тебе одному по секрету, по душе говорю: живем мы с Варварой в бесконечной, неизбывной эмигрантской нужде. В Лондоне, как ты уже знаешь, я выдаю себя за состоятельного человека, каким у них полагается быть всякому члену парламента, но по этой же причине я не могу обращаться с просьбами о заработке. Пишу в Россию корреспонденции, получаю гроши, а часто ничего не получают. Во? Как живет бывший депутат Государственной думы Пирогов! Ты еще не знаешь, что значит быть эмигрантом; по — проклятие, жена вся извелась... разолилась... Отец, само собой, не сочувствует ни революции, ни эмиграции... Ведь только поэтому он и жесток с нею. Я это понимаю, но что же будешь делать? Выхода нет. Даже эти несчастные сто рублей, которые она получает, для нас являются богатством. Я революционер- эмигрант. Какого же сочувствия можно ожидать от купца, от банкира, когда мы революцию против них подготовляем? Остается — взять нахрапом, нахалом, мертвой хваткой, хоть раз, но хороший куш.
— Не даст! — со вздохом возразил Валерьян.
— Добром не даст — так Варвара вытянет у него из глотки, не слезами, так хитростью, все равно. Я по-нимаю, что это отчаянье, бред затравленного зверя, но что делать? Что делать, Валерьянушка?
Голос Пирогова дрогнул. Он протянул руку художнику и, крепко пожимая ее, прошептал:
— Дай хоть ты мне в твоем журнале какую ни на есть работишку... Вот как подошло!
Пирогов взял себя за горло.
В комнате Пироговых Варвара и Наташа встретили их смехом.
— Куда вы запропастились? — спросила Наташа. — Здесь столько народу было!
— И все просители, — саркастически прибавила Варвара. — Все хотят выпросить денег у нашего отца взаймы, без отдачи. Целая депутация была от «Русского общества». Весь эмигрантский Давос зашевелился: богатый буржуй приехал! Говорят, что если у него зятья такие знаменитые и, конечно, идейные люди, значит, и он не может не сочувствовать эмиграции. Xa-xa.
Вошел Сила Гордеич.
— Хотел заснуть после обеда, — добродушно гудел он, — нет, никак не засну. Воздух здесь, что ли, такой,— на нервы действует?
— Папа! — брякнула вдруг Наташа, не поднимая опущенных глаз. — Дайте мне полтораста рублей.
Сила поднял брови.
— Зачем тебе? Ведь Кронид, надеюсь, аккуратно высылает.
— Мне нужно.
— А у меня и денег-то с собой нет никаких. — Сила Гордеич с сожалением развел руками. — Все в Париж через банк перевел, оставил только на дорогу. Если уж очень нужно, телеграфируй Крониду — переведет.
Он подозрительно и вместе проницательно посмотрел поверх очков на обеих дочерей.
Варвара зло усмехнулась.
— Да она не для себя — с благотворительной целью. Эмигранты тут приходили просить: пронюхали, что у вас деньги есть.
Сила Гордеич вскочил.
— Эмигранты! Ну, уж для кого-кого, а для эмигрантов у меня денег нет! Эмигранты! Ха-ха! Это которые революцию хотят сделать, что ли? Ну, нет! Я, правда, в своей жизни мухи не обидел, но этих — своими руками повесил, а не то, чтобы им денег давать. Да и нет у меня ничего: все по простоте моей в долг роздал. На своих кровных не хватает. Уж не говоря о том, что все больны, всех надо лечить... Ты у меня эти штуки брось! — строго сказал он Наташе. — Думал, что здесь, у своих, отдохну душой, хоть на время забудусь. Так нет! Кажется, на край света убеги — и там за карман схватят.
Валерьян, чтобы замять неприятный разговор, начал говорить о журнале и передал приглашение на редакционное собрание.
— Что ж, придти послушать можно: все-таки коммерческое дело. Погляжу, что вы там затеяли. Не пришлось бы, Валерьян Иваныч, своих докладывать? Будьте осторожней!
Вечером в гостиной «Кургауза» состоялось редакционное собрание. Кроме Абрамова и Евсея, пришел еще длинный, смуглый студент. Семова сопровождали Пирогов и Сила Гордеич.
Абрамов произнес вступительное слово.
— Пока у нас имеется оборотный капитал в три тысячи франков. Этого, разумеется, мало, но для начала хватит. Очень важно участие в журнале таких известных русских имен, как художник Семов и депутат Пирогов. Редакция обращается к ним с просьбой дать журналу не только свои имена, но и принять в нем активное участие. Валерьян Иваныч живет здесь, в нем мы уверены, но вас, уважаемый товарищ Пирогов, мы пробили бы для первого первого номера дать нам статью. Может быть, успеете здесь написать.
Пирогов принял напыщенно-высокомерный вид. Медленно цедя слова сквозь зубы, он отвечал свысока:
— Э...э... гм!.. гм!.. Я, конечно, весьма сочувствую и сделаю с моги стороны все возможное, чтобы поддержать ваши начинания, но редакция должна помнить, что я —Пирогов. Я завален другими, более важными и ответственными делами, общеполитического и государственного масштаба. Повторяю, я очень занят, но, может быть, мои обязанности перед рабочей партией в Англии все-таки позволят мне уделить внимание вашему маленькому, но симпатичному журналу. Весьма возмож-но, что я смогу.., э... э... уделить часть моего до-ро-го-го времени и поддержать дело, во главе которого стоит мой друг. В настоящее время я даже в дороге занят серьезной статьей для большого английского журнала, но через месяц постараюсь прислать...
Валерьян был поражен внезапным перерождением Пирогова, всего два часа назад робко просившего у него «какой-нибудь работишки в журнале».
Сила Гордеич слушал эти речи с непроницаемым видом.
— Мы очень благодарны вам, — в тон Пирогову отвечал Абрамов: — ваше имя украсило бы не только наш скромный, начинающий журнал, но и всякий другой. Мы приглашаем вас к регулярному участию в журнале, а пока будем ожидать, что вы уделите нам часть вашего дорогого времени. — Тут Абрамов тонко, ядовито улыбнулся. — К сожалению, средства наши пока маленькие, наша задача — расширить их, заинтересовать журналом и других русских людей, — Абрамов искоса взглянул в сторону Силы Гордеича, — имеющих возможность оказать материальную поддержку аполитичному, беспартийному, чисто художественному журналу.
Абрамов говорил долго, но Сила Гордеич не дослушал его речь до конца. На него вдруг напал припадок старческого, продолжительного кашля. Он старался сдержать и заглушить кашель носовым платком, однако ему стало неловко нарушать собрание: встал и, продолжая кашлять, на цыпочках вышел в коридор. Оттуда еще долго доносился мучительный, затяжной кашель. «Добрый» старичок вынужден был удалиться в свою комнату, откуда так и не вернулся.
IV
Дмитрий и Анна выехали за границу по совету врачей, безнадежно лечивших Дмитрия. Прописали ему путешествие, смену климата и впечатлений и, наконец, санаторное лечение на Ривьере. Дмитрий не обратил бы внимания на эту болтовню докторов и продолжал бы лежать до скончания своего века, если бы за эту мысль не ухватилась Анна, которой улыбалась заграница, тем более, что в доме ее родителей назревала драма между отцом и сыном. Пьянство и скандалы Михаила стали походить на припадки сумасшествия, и поэтому Анна и Дмитрий очень редко бывали в доме Блиновых; дружба двух породнившихся купеческих домов давно прекратилась, а в доме Черновых просто перестали интересоваться Блиновыми. Вульгарная старуха была всегда невыносима, старик болел, а вечно пьяный Михаил скандалил. Обе семьи, поженив Дмитрия и Анну, оформив это коммерческое дело, как бы умыли руки и не находили причин поддерживать не только родство, но и знакомство. Дмитрий никогда не бывал у тестя, Анна заходила к родителям редко и всегда наталкивалась на тяжелые сцены. Михаил несколько раз допивался до галлюцинаций, был в психиатрической лечебнице, но по выходе оттуда запил еще безобразнее. В пьяном виде Михаил грозился убить отца.
Был слух, что Михаил формально лишен наследства, а отец хлопочет о заключении сына в сумасшедший дом.
Анна боялась сделаться свидетельницей какой-нибудь уголовщины и отчасти поэтому убедила мужа поехать за границу. Родителей своих она не любила, а брата ненавидела.
Отправив багаж в Ниццу, они поехали налегке. Решили совершить путешествие по Швейцарии, они по предписанию врачей хотели часть пути пройти пешком.
Погода стояла великолепная. Было тихое апрельское утро. В вагоне оказалось просторно. Поезд то и дело oстанавливался на маленьких станциях, не более как на тс, на три минуты. Пассажиры постоянно менялись. Поезд шел извилистым коридором узкой долины между зеленеющих невысоких гор, из-за которых вдалеке серебрились зубцы вечных снеговых вершин, стоявших торжественной толпой. На склонах гор зеленели пастбища, паслись стада овец и коров, позванивавших колокольцами; ни пились высоко над долиной хижины пастухов, и часто встречались деревни с готической церковкой.
Дмитрий на каждой станции выходил из вагона на перрон — снять кодаком какую-нибудь интересную фигуру: он любил фотографировать. Но Анна тревожно следила за ним с площадки вагона, боясь, как бы он по глухоте своей не остался.
На одной стоянке Митя заинтересовался необыкновенной фигурой красавца-старика в оперном костюме: в широкополой зеленой шляпе с орлиным пером, в распахнутой коротенькой куртке, открывавшей обнаженную высокую грудь, украшенную большой медалью на серебряной цепи, в узких зеленых штанах до колен и в башмаках с серебряными пряжками. За плечами висел короткий зеленый плащ. Голые до колен ноги старика были стройные, точеные; лицо с почтенной седой бородой поражало тонкостью очертаний; красивые гордые глаза выражали ум и достоинство. Встречные почтительно расступались перед ним и кланялись, а он шел, как театральный король, едва кивая головой на все стороны и чуть-чуть улыбаясь.
Дмитрий с аппаратом наготове последовал за ним в буфет маленькой станции, но едва щелкнул кодаком, как почувствовал позади себя какое-то движение, — оглянулся и обомлел от страха: мимо станции уже довольно быстро мелькали вагоны отходившего поезда. Кинулся на перрон, но выход оказался загороженным высокой проволочной сеткой. Опомнился Дмитрий на площадке вагона: как он туда успел вскочить, подлез ли под изгородь или повалил ее, — он и сам впоследствии не мог вспомнить. Анна сидела в купе и плакала, когда он неожиданно перед ней появился.
— Митя!.. Я думала — ты... погиб. Хотела слезть на другой станции. Отберу кодак!
— А все-таки я снял старика. Какая странная фигура! — серьезно размышлял вслух Дмитрий. — Мне кажется, это — тиролец в национальном костюме... И какой важный! Все ему кланяются.
— А у нас бы смеялись, — возразила, сердясь, Анна: — нарядился, как попугай. Как я волновалась! Разозлилась так, что даже теперь не могу успокоиться.
Анна вынула зеркальце и пудру, стала пудрить покрасневший нос.
— Замечательный старик!
— Совсем меня это не интересует... Больше я не позволю тебе выходить из вагона... Ведь лечиться едешь, а тут от одного страху заболеть можно. Ну, что бы ты стал делать, если бы остался? Языка никакого не знаешь, ничего не слышишь, да и по-русски-то заикаешься...
— Сел бы в следующий поезд, а то — пешком. Ведь мне предписано пешком ходить, — отшучивался Дмитрий.
Анна отвернулась, показывая вид, что все еще сердится.
Поезд выскочил из горного ущелья в долину и остановился на берегу широкого, как море, озера. Отдаленный плоский берег чуть-чуть виднелся на горизонте. У пристани дымился маленький пароход дачного типа. Все пассажиры высыпали из загонов, переходя на открытую палубу парохода. Перешли туда и Митя с Анной. Багаж их заключался в дорожном брезентовом мешке за спиной Дмитрия.
Над озером сгущались дождевые облака, дул ветер, темно-синие волны серебрились белыми гребнями. Через несколько минут пароход отошел. Плыл он около часа и наконец пристал к маленькому городку, занимавшему перешеек между этим озером и другим, узким и длинным, похожим на судоходную реку, где уже ожидал туристов довольно большой пароход с каютами, верхней палубой и красными лопастями колес. Все путешественники перешли через городок и вскоре заняли палубу парохода.
Озеро, напоминавшее широкую реку и заключенное м жду высоких и крутых гор, густо поросших кудрявым лесом, уходило вдаль. Пароход быстро отчалил и, звучно лопоча колесами, побежал серединой замечательно тихого голубого озера. Здесь начиналась система знаменитых итальянских озер Лаго-ди-Комо и Лаго-Маджиоре, считающихся чудом природы, куда стекаются туристы со всего мира.
Волжане нисколько не были поражены красотой Лаго-ди-Комо. Зеленые горы, почти отвесно высившиеся с обеих сторон, подернулись прозрачным теплым туманом; царила необычайная тишина: горы не пропускали ветра. В окружающем безмолвии чувствовалось ласково-задумчивое, нежно-грустное настроение.
— Как тут красиво! — сказала Анна.
— По-моему, ничего особенного: на Жигули похоже, только там лучше — везде жизнь, города-то наши каткие! Златоглавые! А пароходы ходят — не чета этой старой калоше...
— Ах, Митя, здесь уж потому лучше, что жизнь другая: нет родителей наших, нет моего несчастного брата, нет ругани, сплетен, скандалов, — все там, далеко, на «милой родине» осталось.
— Разве что так, — улыбнулся Дмитрий и, помолчав, сказал: — С Волги, бывало, посмотришь на наш город — красота, величие. На высоченной горе стоит над рекой, лучше которой в мире нет. Кажется — какие люди-то должны жить там! А на самом деле серенькая, скучная жизнь, однообразие, одиночество всеобщее. Мразь, грязь, свара, злость. Без уюта, некрасиво, хо-лодно, скучно живут у нас, и никто не замечает, не ценит того, например, что Волга хороша, что Жигули лучше Лаго-Маджиоре. Вот и мы — поехали сюда отдохнуть от некрасивой жизни, только и всего. Я и болен-то от нее, от жизни нескладной.
Дмитрий вздохнул. Тени нескладной жизни как бы сопровождали их здесь, в путешествии по прекрасной чужбине.
— Отцы нам портят жизнь, — после долгого молчания изрек Митя. — С такими деньгами как бы можно жить хорошо!
Пароход звучно барабанил колесами, поднимая голубые волны. Горы все гуще заволакивались белым туманом. Стал накрапывать мелкий теплый дождь. Вся природа кругом как бы дышала задумчивой грустью. Публика перешла в каюты, палуба быстро опустела.
Ночью приехали в Люцерн. Дождь прекратился. На перроне при свете электричества все блестело, омытое дождем. По случаю ненастья все туристы спустились с гор, и гостиницы оказались переполненными. В таких случаях хозяева частных квартир в Швейцарии несут общественную повинность — выходят на вокзал встречать и забирать к себе застигнутых непогодой. Дмитрий и Анна достались провожатому-мальчику, который заговорил с ними по-немецки, приглашая следовать за ним.
Довольно долго шли по тротуарам небольшого, чистенького городка. Наконец мальчик ввел их з подъезд двухэтажного каменного дома и, поднявшись во второй этаж, позвонил. Двери открыл плотный мужчина с темной бородой, — по-видимому, сам хозяин квартиры. В столовой высился дубовый резной буфет с такою же мебелью. Большая немецкая семья с несколькими детьми школьного возраста окружила туристов, приветливо улыбаясь и пытаясь разговаривать по-немецки. Кое-как отвечала Анна. Хозяйка, пожилая, но еще румяная, опрятно одетая немка, предложила кофе, а хозяин распорядился принести в столовую кровать из другой комнаты. Прислуга при участии всей семьи приволокла широкую двуспальную кровать, поставив ее посредине комнаты.
Хозяин с добродушным и весело-хитрым видом потирал руки, что-то говорил Анне. Она поняла и перевела мужу, что вся семья хочет сделать из их визита сюрприз старшему сыну, который скоро придет и еще ничего не знает. Все они улыбались, предвкушая, как он удивится. Поглядывали на путников, на дверь и ждали. В передней зазвонил звонок, вся семья с ликующими лицами торжественно выстроилась у притворенных дверей. Вошел розовый юноша и, увидя кровать и гостей, остановился в простодушном недоумении. Семья аплодировала. Русские гости с интересом наблюдали тот домашний быт немцев, казавшийся им сентиментальным и немножко смешным.
Семья была, по-видимому, среднего достатка, благополучная. Хозяин по внешности походил на небогатого коммерсанта, вероятно, имел какой-нибудь магазин ми контору. Акцент Анны заинтересовал всю семью. Кто ни такие? Откуда едут? из Франции? из Италии? из Англии? Нет, русские? Все пришли в изумление. Отец обвел всех торжественным взглядом и начал что- то говорить. Они еще никогда не видели русских и никак не ожидали, что русские похожи на культурных людей. Русские туристы совсем не похожи на то, что известно в Европе о людях этой холодной страны, где круглый год много снега. Вероятно, они бояре, аристократы? Помещики? Ах, это понятно: молодые русские помещики, владельцы необъятных русских степей... Они хотят пройти пешком через Альпы? Это можно. Много туристов едут и идут пешком через Альпы. Дождь кончился, завтра будет отличная погода. Нужно доехать отсюда до маленького городка Туна, а там пешком через мост... Страшно ли? Хе-хе! Нисколько. Отличная шоссейная дорога, можно идти без калош, в одних башмаках. Но теперь пусть они поскорее лягут спать, чтобы завтра встать в семь часов к поезду.
Разговор на немецком языке действовал на Анну утомительно, у нее заметно слипались глаза. Вся семья пожелала гостям «гуте нахт» и деликатно оставила их вдвоем, плотно затворив двери столовой.
Утром, еще до семи часов, путники были на ногах. Все в доме спали... Чтобы не будить хозяев, не стали умываться, вытерли лицо одеколоном, положили на стол три франка и на цыпочках вышли из квартиры.
После вчерашнего дождя свежее, тихое утро обещало солнечный день. Вокзал оказался недалеко. Поезд стоял наготове, и путники забрались в вагон по русской привычке за четверть часа до отхода: кроме них, никого не было в вагоне.
— На этот раз у меня даже бессонницы не было, — сказал Дмитрий: — путешествие в самом деле хорошо действует на нервы. А ты — выспалась?
— Я спала крепко, только сон нехороший видела, уж теперь и не помню что.
За минуту до отхода в вагон хлынула откуда-то взявшаяся толпа, и он сразу оказался переполненным. Поезд пошел. Из окна видно было голубое тихое озеро и крутые зеленые горы, окружавшие его. Скоро озеро исчезло за поворотом.
В Тун приехали скоро, едва только солнце обогрело. Отсюда начинался перевал через Альпы, вдали виднелась грандиозная панорама снежных вершин.
Городок оказался крохотным, меньше иной деревни, занимая маленькую, ровную площадку у подножья зеленых гор, стоя как на ладони, напоминая что-то искусственное, как театральная декорация. Старинные готические домики с крутыми кровлями, крытыми черепицей, старая готическая церковь. На узких, неправильных, игрушечных улицах царствовали безлюдье и тишина: городок был так мал, что в нем не было даже извозчиков, казался случайным остатком средневековой жизни, которая словно ещё не умерла в этой горной глуши. Навстречу попались две женщины в костюмах Маргариты и Марты. Путники шли серединой шоссе и, миновав городок, невольно оглянулись.
— Какой уголок прелестный! — сказала Анна. — Наверно, люди тут живут счастливо и любят до гроба.
— «В Туне жил король...» — козлиным баском запел Дмитрий.
Через четверть часа дорога уперлась в отвесную скалу и, огибая ее влево, повела в пролом между двумя горами, где и терялась за нависшими громадами скал. У подъема при дороге, прислонясь к скале, стоял маленький одноэтажный домик с верандой и беленькими столиками на веранде. Над входом была вывеска с готической надписью.
— Чертов мост! — удивленно перевела Анна.
На гладкой, отвесной, как стена, скале был нарисован черной краской гигантский черт, величиной в несколько сажен, с рогами, хвостом, с высунутым красным языком и красными глазами. Когтистой лапой он показывал на кабачок и как бы приглашал выпить и отдохнуть. Внизу зияла глубокая пропасть, на дне шумел поток.
— Так это есть знаменитый Чертов мост? — разочарованно спросила Анна. — Но где же он? Я не вижу никакого моста.
Дмитрий поднял голову кверху, к страшным вершинам, возносившимся к небу.
— Моста и тогда не было: Суворов переходил вот через ту чертову щель, где, видишь, бежит вода. Не было ни шоссе, ни кабака.
Дорога шла между отвесных гор все выше. Казалось, что весь путь через Альпы будет походить на это грозное ущелье, напоминавшее вход в дантовский ад, но, взобравшись на вершину горы, они увидели расстилавшийся перед ними обширный, ровный зеленый луг, куда вела все та же дорога; скалы остались внизу. Ровное зеленое полотно на вершине горного хребта постепенно повышалось. Вблизи белела колокольня горной деревушки.
По дороге, впереди и позади их, двигались разрозненные фигуры туристов с альпийскими мешками за спиной, в кожаных гетрах, с длинными палками в руках, иногда проезжали экипажи.
Солнечная погода быстро изменилась. Небо заволоклось дождевыми облаками, стал накрапывать дождь. Пришлось вынуть из котомки плащи. Вместо дождя пошел снег крупными, пушистыми хлопьями и тут же таял на дороге. Пыльное шоссе покрылось жидкой, хотя и неглубокой грязью.
Невдалеке, при дороге, сквозь пелену падавшего снега завиднелось небольшое здание. Лишь бы как-нибудь до него добраться: там они попросят приюта и переждут снег. Может, какой-нибудь случайный экипаж попадется.
Здание оказалось придорожным отелем, или скорее — маленьким кабачком, состоящим всего из двух комнат: в одной помещалась буфет-столовая, битком набитая туристами, а другая, приспособленная для ночевки, была уже занята.
С трудом получили два стула за общим столом. Спросили кофе. В окно было видно, как гуськом шли туристы в альпийских башмаках на толстых подошвах. Некоторые продолжали свой путь, не останавливаясь и не обращая внимания на падающий снег, другие заходили в отель передохнуть и переждать. Народу в комнате все прибавлялось.
Из общего говора Анна поняла, что снега бояться нечего: он скоро пройдет; а ночевать все равно негде. Анна натерла ногу, которая так болела, что о ходьбе нечего было и думать. Решили сидеть и ждать, не попадется ли попутный экипаж.
Экипажи проезжали мимо довольно часто, но все были с пассажирами и, не останавливаясь, двигались дальше. Так сидели они часа два. Кругом все побелело от свежевыпавшего снега. Вдруг подъехал и остановился большой экипаж без пассажиров, запряженный парой прекрасных вороных лошадей.
Анна вступила в переговоры с кучером: он возвращался домой в долину Роны и согласился довезти их до ближайшей станции железной дороги всего только за двадцать франков; это было дешево, но и такую суммv никто из туристов не хотел тратить.
Только что отъехали, как в природе опять произошла феерическая перемена, дождя, вьюги, снега — как не бывало, засияло жаркое солнце, с гор побежали ручьи от быстро таявшего снега. Это напоминало русскую весну.
Картина была поражающая: над горами, покрытыми, как серебром, только что выпавшим ослепительно-чистым снегом, царило прозрачно-синее небо, кругом величавой толпой стояли конусы как бы сахарных голов, вдали и вверху над горизонтом возносился к небесам грандиозный горный хребет, как бы вылитый из серебра.
Ехали долго, дорога начала спускаться с перевала. Совсем близко проехали мимо грандиозного глетчера, похожего на хвост бобра, из-под которого вытекал маленький ручей, внизу обращавшийся в глубокую реку. Начались опять бирюза, изумруд и бархат ласковых гор, сады и виноградники...
— Спроси кучера, как называется этот бобровый хвост?
— Роннен-глетчер, — послышался ответ.
— Он говорит, что отсюда вытекает Рона.
Анна спросила еще что-то, указывая на ледяного мертвеца.
— Монблан, — равнодушно ответил кучер.
Черные, взмыленные кони быстро уносили их в цветущую долину, но Монблан все еще плыл за ними, тяготя, как привидение.
V
Михаил Блинов жил отдельно от родителей, во дворе роскошного отцовского дома, в хибарке, предназначенной для кучера и работников, с маленькими окнами, низким потолком, оклеенным газетной бумагой. В ней было мрачно, грязно, неприбрано. Вся обстановка странным образом навевала мысли о преступлении и самоубийств Солнце редко заглядывало в никогда не мытые окна, как бы стыдясь мерзости и запустения, царивших в этом логовище. Старая железная кровать, зани-мавшая большую часть комнаты, оставалась всегда неубранной, у окна печально стояли некрашенный стол и два хромых, продавленных стула; по углам висела паутина, на полу были грязь, плевки и окурки, но главное, что прежде всего бросалось в глаза, — это обилие пустых бутылок; они были различной величины — большие, маленькие, из-под пива и водки, нестройной толпой стояли на подоконниках, как любопытные зрители унылой жизни наследника миллионного состояния. Бутылки попадались на столе, на стульях, в углах, нескромно выглядывали из-под кровати.
На ней лежал Михаил. Молодой человек был очень красив, с густыми, спутанными, вьющимися волосами медного цвета, но с бледным, изможденным лицом.
Проснулся он в мрачном настроении, в голове сидело что-то тяжелое, огромное и давящее. Михаил называл это состояние «медведем».
Тяжесть «медведя» причиняла страдания не только голове, но и душе Михаила. Он чувствовал равнодушие ко всему на свете и положительное отвращение к жизни. Тяготило беспричинное ощущение страха, почти ужаса не известно перед чем. Казалось, что вот-вот должно совершиться с ним что-то страшное. Чувствовал, что уже совершил какое-то преступление, и вместе с тем сознавал, что ничего подобного не было. Михаил по опыту знал, что беспричинное ощущение страха, равнодушие и отвращение ко всему проистекали от многодневного мрачного и грязного пьянства. Его мучил тонкий, но неумолкающий голос, раздававшийся в душе, укоряющий, требующий, яростный, настойчивый и властный. Он, этот голос, укорял Михаила за всю его жизнь, за все, что он сделал и чего не сделал, за всю бесполезность и бесплодность его существования, за мрачное одиночество сердца, за ненормальную жизнь. Он давно махнул рукой на эту жизнь, но тем не менее какое-то глухое сожаление, раскаяние и мрачное сознание непо-правимости сочились в нем тонким ядом, медленной отравой.
Михаил долго лежал на грязной, измятой постели, в которой заснул вчера, не раздеваясь и только сбросив поддевку: она лежала теперь на полу. Тупо смотрел перед собой тусклыми, бессмысленными глазами и по временам, тяжело вздыхая, стонал.
Наконец он встал, одернул косоворотку и нетвердой походкой прошелся по комнате. В то время как в голове ощущалась тяжесть, в теле была слабость, легкость, как будто оно не имело никакого веса.
Воздух в лачуге приобрел специфический спиртной запах. Грязь и неприглядность полутемной конуры казались ему теперь особенно отвратительными, как и сам он себе, как и все на свете.
Чувство страха, боязни самого себя и своего одиночества возбудило у него настоятельное желание выйти на улицу, видеть по крайней мере прохожих, слышать уличный шум.
Он пошарил в карманах, надел поддевку и картуз, увидел на столе недопитую бутылку водки, с отвращением выпил глоток без закуски. Потом, как вор, крадучись, вышел из хибарки и шмыгнул в калитку.
Улица несколько оживила его. Солнце не то всходило, не то закатывалось: Михаил не мог сразу определить, но потом догадался, что проспал целый день. Наступал вечер.
Сквозь шум экипажей откуда-то доносились веселые и грустные звуки хриплой шарманки.
«Медведь», смягчаясь, медленно выходил из его головы. Знакомые улицы предстали в новом свете, словно он давно не был в этом городе или смотрел на него с каланчи. Звуки города доносились как бы издалека и баюкали его. Отрывки неясных мыслей медленно ползли в голове, и он сам не знал, о чем думал.
Назойливо лезла в голову строчка из песни или стихотворения: «И прошедшего не жаль». Михаил силился вспомнить — откуда это, но так и не вспомнил.
В таком настроении он бродил по улицам, безучастно глядя на встречных людей, на проезжавшие экипажи, бессознательно ища, с кем бы встретиться. Чувство страха и ужаса перед чем-то, что должно было совершиться, не оставляло его, тяжкое предчувствие тяготило душу.
Зачем он пьет? Ведь нет в этом никакого удовольствия. Так. У отца два миллиона, а он остался полуграмотным парнем и почти до тридцати лет живет, ничего не делая. Зачем что-то делать, когда два миллиона? Отец презирает его, считая выродком. Михаил ненавидит отца, видеть его равнодушно не может: так и хочется схватить за бороду и ударить об пол, а потом топтать каблуками. Из-за отца, из-за скупости и черствости его озлобился Михаил, пьет горькую. Нарочно поселился в дворницкой и водит компанию с самыми последними людьми, чтобы досадить отцу. Хуже пса дворового живет Михаил. Дошел до него слух, что отец в завещании лишил его наследства, а за пьянство собирается в сумасшедший дом запереть. Что ж, заплатит деньги — и запрут на всю жизнь. А там и на самом деле с ума сойдешь.
Волосы зашевелились на голове, дрожь пробежала по телу.
— Куда деваться? — прошептал он, сжимая кулаки, и замер у двери подвального притона «Италия».
Слышались пьяные голоса, рев гармоники и пляска. Михаил, толкнув дверь, спустился по каменной лестнице.
В густом тумане от табачного дыма и винных испарений двигались и галдели какие-то фигуры. Рыжий парень с серьгой в ухе оглушительно играл на большой гармони. На спинке промятого дивана перед группой гостей сидела смуглая девка, крепкая, коренастая, похожая на цыганку, с растрепанной черной косой, перекинутой на высокую грудь, и, раскрывая объятия, очень хорошо пела под гармонь густым, низким голосом:
Не вздыхай-ка, душа Маша,
Не вздыхай-кась тижало.
Если друга тебе жалко,
Забывать надо его.
Свирельный голос ее выделялся из общего гама, заунывно-надрывно звенел и вдруг опускался на низкие, баритональные ноты.
Гармонист, наклонив ухо к гармони, пустил зазвонистый перебор. Серебряные лады словно говорили вслед за певицей:
Я тогда его забуду,
Когда скроются глаза,
Уста кровью запекутся,
Мил не станет целовать...
Высокая, худая женщина, с бельмом на глазу, яростно ругала плюгавенького пьяного человека в потертом фраке, с алкоголическим лицом.
- Ты рази муж мне? Какой ты муж? Что ты мне приносишь из клуба? Только слава, что лакей, а ты просто пьяница! Только морду мочишь. А кто детей кормит и тебя вместе с ними? Я, воровка, кормлю вас всех. Негодяй ты!
— Ты мне душу-то... — бормотал клубный лакей, бия себя в крахмальную грязную сорочку обоими кулаками, — душу ты мне... всю...
Наплевать мне на твою душу! — с необычайной энергией вскричала женщина, сверкая бельмом. Это бельмо придавало ее правильному, когда-то красивому лицу зловещий вид.
— Ты мне всю душу...
Белы руки разоймутся,
Перестанут обнимать... —
рыдало густое контральто.
При входе Михаила певица соскочила с дивана и подбежала к нему.
— Миша! зачем пришел? Не твоя компания... Тут всякое ворье собралось. Ха-ха! — Она потащила его за руку к столу. — Садись, гость будешь!
— Мы не воры, — смеясь, говорили пьющие за столом, — мы по Волге-матушке рыболовы.
— По ярмаркам ездим, красным товаром торгуем.
— Он сам купец, — возразила девица. — Это Блинов, свой магазин в пассаже. У отца-то — милльоны, Вот это кто!
— У отца! — хмуро сказал Михаил. — Не у меня.
Мещане мы. Выпей, купец, с нами, с мещанами.
Девица налила чайный стакан водки и поднесла Михаилу:
— Пей! Михаил отодвинул стакан с отвращением.
- Водки не могу. Пива бы мне... Душа пересохла.,, Тоска.
- У нас тоска? — вежливо вмешался человек, похожий на монгола, с узкими щелками глаз и черной жесткой шерстью длинных волос, — купеческая? Знаю. Купцы часто пьют от тоски... У вас она своя, особенная, — от совести. Р-рекомендуюсь: по призванию я есть писатель-самоучка. А по профессии — музыкант, в публичных домах на цимбале играю. Выпьем!..
— Сочинитель! — с хохотом закричала девка. — А я вот судомойкой была, теперь кшица уличная, в платочке хожу... Есть из нашей сестры шикарные, в шляпках ходят, а я — платочница. Что с того? Всякой шикарной нос утру!.. Вот они — руки — смотрите: швы да шрамы! Любовник из ревности зарезать хотел, а я не далась.., отбилась.
— Зарезать? — серьезно спросил Михаил.
— Ножом. Из голенища вынул. Забыть его не могу: любил меня, даром что я — кшица. Ненавижу шикарных!.. Вот она, поглядите!
На диване, в компании «рыболовов» сидела девушка в гладком сером платье с матово-бледным, красивым, почти интеллигентным лицом, до такой степени пьяная, что поминутно икала. Голова не держалась прямо, язык заплетался, большие серые глаза «с поволокой» посоловели. Вряд ли она сознавала и видела что-либо.
— Оставьте!.. Ик! Выпила я.
Кшица жестоко и зло измывалась над подругой:
— Шикарная! В шляпке ходишь, содержателя имеешь... а нализалась — как свинья. Ни папы, ни мамы не выговариваешь. Сусло у тебя в жилах, — не кровь. А я вот, простая кшица, пью и не пьянею, петь и плясать могу. Эй, гармонист, валяй русскую!..
Гармонист грянул плясовую.
Кшица схватила со стола раскрытый складной нож и, перебрасывая его из руки в руку, по-мужски пустилась в присядку, вскидывая из-под короткой юбки сильные, мускулистые ноги в черных чулках.
Гармонь захлебывалась.
Девка плясала с чрезвычайной энергией, как бы бросая вызов «шикарной». Пьяные галдели за столом. Цимбалист подсел поближе к Михаилу.
— Вы замечаете, что даже здесь, в подонках жизни, нет равенства: существуют высшие и низшие, шикарные и кшицы... Как она жалка, эта шикарная! Все условно в мире. — Он строго поднял палец кверху и, сдвинув брови, повторил: — Все условно. Вы согласны со мной? Низшие часто бывают сильнее и ярче высших. В них больше жизни.
Он отпил несколько глотков пива, крепко поставил стакан.
— Вот и вы, например: богатый человек, во дворце живете, казалось бы — счастливая жизнь... Ах, как мы все завидуем вам!.. Но зачем же вы здесь, среди нас?
Объелись счастьем, на черный хлеб, на капусту потянуло?
— Скучно!.. — хмуро сказал Михаил.
Собеседник засмеялся.
— Скучно?! Развлечений ищите? Но почему же вас, шикарных, тянет именно сюда, как убийцу на место преступления?.. Извините, это я так, для сравнения... Сестрица ваша с супругом в Италию поехала вы — сюда... Кстати, учреждение сие тоже называется «Италия». Хе-хе-хе!
Гармонь рявкнула и умолкла.
Кшица, вся красная, упала на стул, тяжело дыша от пляски. «Писатель» с поклоном поднес ей стакан пива. Она выпила с жадностью. «Шикарная» заснула, свесив голову на локотник дивана, как изломанная кукла.
Финский нож, брошенный на стол, упал на тарелку перед Михаилом. Он взял его, вдвинул лезвие в рукоятку и бессознательно опустил в карман.
— Вы где получили образование? — продолжал цимбалист.
— Нигде, — мрачно пробурчал Михаил. — Тоже самоучка.
— Неужели? При таких капиталах? Очень даже странно. А меня выгнали из школы именно за то, что хорошо учился. Это не удивительно со стороны начальства, но интеллигенция наша скверно относится к самоучкам из народа. Отец мой спился, мать умерла с голоду, сестра — проститутка. А я лез к обожаемой интеллигенции, настроен был героически, за честь бы почел, если бы мне тогда дали возможность умереть — за народ. Накипело у меня вот здесь! Понимаете? Начали тогда меня развивать. Слышу — народ, мол, готов к революции и ждет только мановения. Давно это было. А я — только что из деревни. Говорю им: неверно это, никакой готовности не заметно. Началась рознь: они меня учить, а я им — возражать! Если бы не возражал, то и место бы хорошее по протекции получил и с образованными барышнями под ручку бы гулял, но возражениями свою карьеру погубил. Я сам из народа и знаю: самые для него непонятные и чужие люди — это интеллигенция: слома хорошие, а дела те же, что у господ. Они — гения отвергли, гения — то есть меня. В журналы посылал стихи — не приняли.
Михаил сначала с интересом слушал, потом писатель надоел ему. В комнате стоял гам от общего говора. «Откуда такой привязался?» — с неприязнью думал Михаил.
Отца я зарезал,
Мать свою убил... —
во все горло пела кшица, хохоча и кривляясь.
Малую сестренку
В море утопил.
Писатель, возвысив голос, стал говорить нараспев:
— Хотелось придти в ваше высшее общество и сказать: «Вот пришел я из мрака жизни в светлый ваш мир, дайте и мне место за вашим столом». И ответят они: «Здесь место для добрых и чистых, а в глазах твоих злоба, платье в грязи, темное лицо у тебя. Ступай туда, где мучаются грешники, подобные тебе!» И скажу я им: «Вижу, что вы — действительно добрые, потому что не вы обижены, и вы действительно чистые, ибо грязь не касалась вас; лица ваши светлые, глаза не знали слез. А я пришел оттуда, где не всходит заря и не светит солнце. Сердце мое озлоблено от обид, и лицо потемнело от мрака. В цепях была душа моя, выпили цепи кровь из меня, и не было цветов на пути моем. Как же теперь могу я быть добрым с вами? Примите же меня не выдуманным и не сочиненным, таким, каким вы сами сделали меня. Настало время выслушать вам горькие песни мои, принять на светлые лица ваши удары мои. Забыли вы о страданиях людских, но я озлоблю вас, добрые, чистые, бесстыдные, безжалостные себялюбцы!»
— Из книжки жарит. Ловко как! Похвалила кшица.
— Светлый мир? — криво усмехнулся Михаил. — Это ты про нас?
Писатель кивнул головой.
— Про всех счастливых.
— Счастливых? — переспросил Михаил. — Это мы то счастливые?
Кшица обняла Михаила.
— Чем же ты несчастлив, Миша?
On медленно снял ее руку с плеча и, помолчав, ответил, тяжело дыша и ни на кого не глядя:
— Отца родного ненавижу.
— За что?
В сумасшедший дом собирается меня посадить.
— А ты пришей его! Чего старому в зубы глядеть? — шутливо сказал кто-то.
Все засмеялись.
— Где ему? Купеческий сынок! Антиллигент!
Кшица села к Михаилу на колени, крепко обвилась руками вокруг его шеи и, целуя, вдруг больно укусила его в губы. Михаил схватил ее за горло, но не мог оторвать от себя. В это время чьи-то руки обшаривали его карманы. Кшица с хохотом выбежала на улицу. Михаил бросился за ней. Вдогонку ему кричали: «Держи его!» Слышался топот бегущих людей...
Сердце Михаила колотилось. Он вскрикнул и проснулся.
Яркая луна светила в тусклые окна. Михаил по- прежнему лежал в своей хибарке, на кровати, в сапогах и поддевке. Под щекой у него был нож, коловший его, когда он спал. Сон оказался действительностью: Михаил вспомнил, что нечто подобное было несколько дней назад, во время его пьянства, а теперь приснилось во сне.
Луна так ярко светила, что в комнате было светло, как днем.
В дверь тихо постучали. Михаил вздрогнул и, подойдя к двери, прислушался. Чувство страха снова охватило его. Стук повторился.
— Кто там?
— Отопри! — послышался сердитый голос старика Блинова Что заперся? Ужинать пора!
Михаил отпер. В комнату вошел отец в широком суконном сюртуке, опираясь на толстую палку. За ним вошло несколько незнакомых людей. Михаил побледнел.
- Что?.. Зачем?.. — прошептал он.
Отец что-то ответил, но так тихо, что Михаил не понял.
— Белая горячка! — как будто издали дошел голос отца. — С ножом бегал. В больницу тебя.
— В сумасшедший дом? — спросил Михаил. — Знаю. А это кто?
— За тобой! — опять чуть слышно сказал старик.
Люди, пришедшие с отцом, были похожи на дворников, а позади всех стоял человек в белом балахоне.
Михаил, вытянув руки вперед, молча пятился от них в угол, с вытаращенными белыми глазами и сам белый. Люди переминались, тихо переговаривались. Михаил дрожал всем телом. Ему казалось, что продолжается страшный сон.
Чьи-то сильные руки схватили его сзади. Он закричал дико, хрипло, на губах появилась пена. С необычайной силой Михаил стряхнул с плеч навалившихся на него людей, так что они посыпались на пол, опрокидывая стол и стулья.
Михаил присел на корточки и вдруг кошкой прыгнул к отцу, схватил его левой рукой за бороду, а кулаком правой изо всей силы ударил в грудь. Старик грохнулся и захрипел. Руки и ноги его странно задергались. От силы собственного удара Михаил потерял равновесие; казалось, что пол качается. Упал навзничь, ударившись затылком о кровать. Люди снова, пыхтя и топая ногами, навалились на него. Тут Михаил вспомнил о ноже: когда ударил отца, нож был зажат у него в кулаке, а теперь ножа не было.
Михаила вязали веревками на полу. Он с удивлением смотрел на неподвижное тело отца и мучительно желал проснуться от страшных сновидений, давно уже преследовавших его.
VI
Лазурная морская даль горит под солнцем, а по ней, то появляясь, то исчезая, мелькают белые гривы волн, напоминающие как бы живые существа, которые то выскакивают на поверхность моря, то снова погружаются в бездну. Море звучит величаво: кажется, что откуда-то издалека разносятся по его безграничной пустыне аккорды исполинской арфы. В далекой глубине этой призрачной музыки чудится безотрадно-печальное пение, Сладостно-волшебный рыдающий голос, поющий о великой тоске.
Бескрайное море прозрачно, залито весенним солнцем и чуть-чуть колышется. Залив образуется между маленьким зеленым полуостровом Сен-Жен, с белым маяком на конце, выдающимся в море, с другой стороны — мысом, где на берегу стоит бывшая итальянская тюрьма — мрачное средневековое здание. К заливу по склону горы, до самых волн, спускается крохотный городок Виллафранка.
Это рыбацкий поселок, с целым рядом кабачков специально для солдат и матросов, которыми по временам наводняется Виллафранка, когда на рейде стоит корабль или с гор спускается батальон.
Вдали, в нескольких верстах, белеет Ницца, а за полуостровом начинаются виллы и санатории, виден высокий берег княжества Монако.
Там идет иная жизнь: жизнь блестящей французской Ривьеры. Жизнь богатых, нарядных, «отдыхающих», играющих в рулетку. Отголоски этой неестественной жизни доносятся сюда: ежеминутно мчатся поезда, вагоны трамвая, автомобили. Эта жизнь проносится мимо Виллафранки, как нечто чуждое ее тишине и бедности.
С моря Виллафранка очень красива: она словно высечена уступами и террасами в крутой горе. Старые, грязные, прокоптелые здания тесно громоздятся одно над другим: плоские кровли нижних домов служат улицами для верхних.
Улицы узкие, как щели, неправильные, кривые, темные, иногда имеющие вид туннелей, так как над ними устроены своды, а на сводах опять дома.
Есть в этом гнезде своеобразная живописность: от него веет романтизмом старой Италии. Говорят, что начало ему положили пираты. Это они построили мрачное здание с темными кривыми переходами и маленькими, словно потайными, дверями.
На набережной, выложенной большими каменными плитами, и изъеденными временем и волнами, ширина которой пять шагов, в ряду кабачков и кофеен стоит маленький, в два этажа, отельчик «Золотой дом» с двумя столиками на набережной.
В каменные плиты, поросшие влажным зеленым мхом, плещут ярко лазурные волны. В бухте качаются рыбацкие лодки, а на рейде стоит французский броненосец, черный, стройный, словно вылитый из цельной стали.
Валерьян проснулся в маленькой комнате, наверху «Золотого дома», и некоторое время лежал без движения.
Сквозь притворенные решетчатые зеленые ставни пробивается золотое солнце, слышится плеск моря о каменные плиты., голоса проходящих мимо людей и веселый лай хозяйкиной болонки.
Он встает и открывает окно: в комнату врывается, волна золотого света, море плещется в нескольких шагах от крыльца, и тут же разостланы для просушки тонкие и частые рыбацкие сети. У берега на своем месте стоит «бото» — утлый челн, взятый им на прокат у старого рыбака.
Хлынули нежные краски моря, хрустальный воздух неба и трепетные звуки мандолины: это играет по нотам одинокая хозяйка соседнего кабачка в тщетном ожидании клиентов.
Вдали белеет дворец бельгийского короля, обнесенный зубчатой стеной. Король выбрал самое красивое место на полуострове: видно, не лишен был вкуса этот буржуа с длинной бородой, который хорошо играл на бирже, плохо заботился о подданных и был не в ладах со своими дочерьми.
Художник оделся в легкий летний костюм, взял шляпу и спустился по лестнице, рассеянно напевая.
Сел у дверей за одним из столов, закурил дешевую сигару. Потом взглянул вверх, на окно Наташи: ставень закрыт, значит — еще не проснулась. Антонио, единственный лакей отеля, принес утренний кофе. Это старый итальянец, еле передвигающий ноги, но во фраке и с нафабренными черной краской усами. Объясняется с Валерьяном, как с глухонемым, — мелкими выразительными жестами. По набережной бегает Ленька, гоняя палочкой обруч, и звонко хохочет; вместе с ним с лаем бегает лохматая болонка.
Валерьян следит за ними глазами, курит и думает. Кончена давосская жизнь. Наташе разрешили спуститься с гор и провести весну на Ривьере. Но она, конечно, думает, мечтает совсем увильнуть от возвращения в Давос. Журнал в Давосе влачит жалкое существование и вряд ли дотянет до осени; дивиденды грошовые. Из России обещали выслать пятьсот рублей — в последний раз: требуют прибытия лично для распутывания запутанных денежных дел. Придется поехать, как только вышлют деньги.
Ленька бросил обруч и залез к нему на колени. Он раскраснелся, глаза блестят и смеются. Наклоняется к уху;
— Поедем на лодке, покуда мамка спит.
— Пожалуй. Только куда бы нам съездить — на отлогий бережок или к дяде Евсею?
Решили ехать к Евсею, в лабораторию, которая существует теперь в здании прежней тюрьмы. Там занимается наукой их общий друг Евсей.
Сели в «бото», отчалили, опасливо поглядывая на закрытое окно: Наташа боится отпускать Леньку в море.
Мальчик схватился за весла, гребет стоя, опираясь ногой о скамейку. Отцу предоставил руль, а сам улыбается от счастья. Они отъехали далеко, когда открылось окно, а в нем появилась Ленькина мама, всплеснувшая руками.
Валерьян правил против ветра; лодка то высоко взбиралась на гребень волны, то быстро скользила вниз.
Через полчаса они осторожно причалили к маленькому молу угрюмого здания с двумя рядами продолговат х окон, привязали «бото» и через калитку железных ворот вошли во двор, поросший травой. За стеной двора виднелся маленький садик. Спустились в нижний этаж в пустой продолговатый сарай с истертым каменным полом. Когда-то здесь томились закованные в цепи узники, а теперь здание уступлено под русскую морскую лабораторию.
В полуподвальной комнате, находящейся ниже уровня моря, устроен аквариум: в одной стене ее в особых помещениях за толстыми стеклами плавают жители моря. Именно по этой причине Ленька любит ездить «к дя-де Евсею».
— Пойдем смотреть осьминогов! — говорит он отцу.
Их живет двое в одном помещении, каждый в своем углу, в темной норе. Там они лежат, неподвижные и серые, подобные серым камням. Свет к ним попадает откуда-то сверху. Один спрут свернулся комком в своей темной, унылой пещере и смотрит двумя неподвижными, злыми глазами. Пещера устроена внизу большого, ноздреватого камня, верх которого возвышается над водой. Вдруг оттуда спускается в воду маленький, совсем еще глупый крабик. Осьминог увидел его, зашевелился, выполз и стал расправлять свои змеевидные щупальцы. Краб спрятался за уступ камня, чудовище начинает шарить по камню своими гибкими лапами, не находит здесь краба и от злости принимает фиолетовый цвет. Краб выбежал на верх камня, в безопасное место, и там, встретившись с другим таким же маленьким крабом, долго стоит, шевеля клешнями и усиками, словно рассказывает о том, что он испытал. Вероятно, они толковали о чудовище, пожирающем крабов, может быть, даже совещались о низвержении строя, существующего в их владениях.
Ленька захлопал в ладоши.
— Браво! Чуть-чуть не сожрал его проклятый осьминог.
— Все равно съест, — возражает отец.
— Для чего же туг живут крабы?
— Для осьминогов: их кормят крабами. Сколько ни бегает краб, а в конце концов осьминог его съест.
— Я бы прогнал осьминога палкой... растоптал бы ногой.
— Зачем?.. Ведь и люди так же, как эти крабы, бегают от судьбы... Впрочем, это, брат, — философия.
Дверь из соседней комнаты отворяется, и в ней показывается огромная, худая фигура Евсея в вечном се-ром костюме.
— А, гости! — улыбаясь в белокурые усы, хрипло говорит он. Широким жестом длинной руки манит их к себе.
Гости поднялись по каменным ступеням в светлую комнату, расположенную над морем; в высокие окна видно, как в них заглядывают гребни пенистых волн.
В комнате длинный стол с непонятными приборами, стеклянный шкаф и продавленный диван. В смежной комнате, за дверью слышатся голоса: там занимаются студенты, приехавшие из России на практические занятия в лаборатории.
— Время к завтраку! — говорит Валерьян, вынимая часы. — Поедем к нам на лодке.
— Подождите немножко. — Евсей убирает что-то со стола в шкаф. — Сейчас у нас кончится.
Гости сели на диван. Евсей у стола набивает табаком свою коротенькую трубку.
— Эх, ты, жизнь треугольная! — говорит он тоном вступления.
— А что?
— Да фрака нет. Жду свой старый фрак из России — и все нет.
— А на кой черт тебе фрак?
— А разве я не говорил, что я тоже, как все здешние профессора, приглашен на ежегодный обед к монакскому князю?
— Нет, не говорил.
— Ну вот, приглашен. Если получу фрак — поеду. Там, брат, все во фраках будут. Да дело, видишь ли, в том, что за меня хлопочут у этого неограниченного монарха: можно заделаться придворным зоологом.
— Не верится мне что-то.
— Да я и сам мало верю в успех; уж сколько раз так срывалось! Как узнают, что русский эмигрант, так и — атанде. Но чем черт не шутит и чего не выдумает наш брат, мастеровой? Ведь я здесь занимаюсь, так ска-зать, из любви к науке: разве что настрочу научную статейку — вот и весь заработок на табак.
Леньке неинтересно слушать. Он залез к Евсею на колени, уселся поудобнее и погладил пальцами его усатое лицо.
— Скучно! — капризно затянул он. — Расскажи что-нибудь.
— Гм! что же я тебе расскажу?
— Ну, сказку.
— Гм! сказку? Легко сказать!
Евсей, подобно всем бродячим, бессемейным людям, не помнит ни одной детской сказки, но не хочет ударить лицом в грязь.
Он покрутил ус, помолчал.
— Ва! расскажу тебе про Ледовитый океан. Хочешь?
— Хочу,
— Гм!
Раскурил трубку и начал, выпуская дым в сторону:
— Вот, знаешь ли, отправились мы на север, в научную экспедицию. Запрягли в сани много собак, взяли
провизии, оделись в оленьи шубы мехом вверх — знаешь, как у шоферов, — надели шапки с наушниками, меховые сапоги: там холодно, брат, везде снег, и даже море около берега на много верст замерзло, а по морю громаднейшие льдины плавают — с гору каждая льдина. Поехали по льду. Ехали-ехали, вдруг — глядим — лед оторвало от берега и понесло в открытое море. Испугались мы, а ничего не попишешь: унесло! Плывем по Ледовитому океану на льдине. Кругом волны — как холмы, океан мечется, будто седой, взбешенный старик.
Евсей развел руки, сделал страшное лицо, изображая взбешенный океан.
— Кидается этакими водяными громадами, только гуд идет. Моржи играют и на нас поглядывают: лысые такие, усы у них вниз, с головы-то на людей похожи.
— На тебя? — дружески вставляет Ленька.
— Отчасти... Морж — он вот такой, большой! У него клыки есть, случается — схватит клыками за лодку с охотниками и лодку перевернет.
Евсей отклоняется от рассказа, сам увлекаясь описанием моржа. Ленька смотрит ему в лицо и внимательно слушает.
— Ну-с, носило нас таким манером целый день и ночь, и еще много дней и ночей. Прошло три недели, а нас все носит по океану... А океан очень большой, много больше вот этого моря, и холодный при этом, потому что там лета не бывает, а всегда зима: одним словом — очень ледовитый океан. Съели мы всю провизию, съел всех собак...
— Собак не едят! — возражает Ленька.
— Едят, брат, в некоторых случаях... Ну вот, съели собак. Осталось немного мяса. А нас было восемнадцать человек. Голодные все и страсть как озябли. Видим, скоро всем нам с голоду помирать придется. А был у нас старший, набольший, вроде начальника. Вот он и говорит: «Метнемте жребий — кому помереть, кому жить оставаться. Нужно, — говорит, — только шестерых оставить, а остальные пускай сами себя из ружья убьют».
— Зачем?
— Чудак! Да ведь шестерым-то надольше провизии хватит. Ну вот, тут я и сказал: «Братцы! коли помирать, гак уж лучше всем вместе, а не этак. Нехорошо этак. Может быть, еще не все пропало, как-нибудь выкрутимся из беды». Меня все послушали. Действительно, в тот же день переменился ветер., и нас неожиданно к берегу прибило, да прямо к человечьему жилью. Все мы паслись и остались живы, только многие простудились и захворали. Я тоже грудь тогда застудил и сейчас нее еще немножко кашляю, но в общем зажило, как на собаке. Теперь у теплого моря из кулька в рогожку поправляюсь...
Евсей выколотил погасшую трубку, и, набивая ее вновь, закончил так:
— Жизнь, брат Ленька, играет человеком: человек норовит ускользнуть, а она его ловит; поймает — и кончена игра. Жизнь, брат, — она треугольная: куда ни кинь, все клин.
Валерьян, внимательно слушавший, при последней фразе расхохотался, но на мальчика этот кусочек жизни, рассказанный вместо сказки, произвел неожиданно сильное впечатление. Он гладил руку Евсея и внимательно рассматривал его усатое, большое, исхудалое лицо.
В соседней комнате сразу поднялся шум, говор, смех, шарканье ног и хлопанье дверей: студенты кончили занятие.
Вышли прежним путем к молу, сели в лодку и отчалили. Теперь уже Валерьян сидел на веслах. Евсей правил, а мальчик чинно сидел на лавочке, лицом к Евсею: он все еще был под впечатлением рассказа и по-новому, интересом и удивлением, рассматривал сидевшую напротив него огромную фигуру.
Наташа сидела на каменной скамье на берегу залива, против дверей «Золотого дома».
С тревогой посматривала вдаль на морские волны и перечитывала только что полученное письмо.
«Мы опять в Лондоне, — писала Варвара. — Наконец-таки потратились в нашу «старую, добрую» Англию. Но возвратились, как я и ожидала, — ни с чем.
«С родителем расстались в Париже, откуда он отправился восвояси. Представь себе — положил в Лионский банк двести тысяч, а нам не дал ни гроша, — только на дорогу. До сих пор не могу придти в себя от омерзения к собственному родителю. Плюшкин! Иудушка! Ростовщик! Кажется, у Гоголя есть фантастический рассказ о портрете ростовщика с глазами дьявола — так это он. Посоветуй твоему мужу взять эту тему. Но, вероятно, и ему противно будет изображать отвратительную физию скряги, продавшего деньгам свою душу, если только она когда-нибудь была у него. Ну, что тут особенного — помочь хоть немного дочери-эмигрантке? Ведь мы живем, как нищие. Но если бы ты видела, как он испугался за свою мошну, как затрясся от омерзительной злости! Все пошло к черту, весь Париж со всеми его достопримечательностями, до которых ему, конечно, — как до прошлогоднего снега. И ни капли чувства к родным детям, перекалеченным им из-за гнусной скаредности, больным, беспомощным, не приспособленным к жизни благодаря его бессердечию и бездушию!
«Знаешь ли ты, что он почти все свои деньги роздал в рост, под заклад ему дворянских имений? О, как рада я буду, если грянет революция (ведь грянет же она когда-нибудь!) и у него отнимут все эти имения, дома и единственного его бога — деньги! Пусть ни мне, ни всем нам ничего не достанется — что мы теряем? Все равно я всю жизнь прожила в нужде и бедности, ты тоже ни гроша в приданое не получила. Как голодные собаки, униженно получаем грошовые подачки, лишь бы с голоду не умереть. А ведь все нас считают богатыми!
«О, если бы революция сделала его нищим, собирающим милостыню, какое было бы в этом справедливое отмщение судьбы за нас и за всех, кого он разорил и обидел! Прости меня, но такого отца я бы, кажется, собственными руками задушила. Никогда еще не ненавидела его так, как после этой поездки. Он всласть наиздевался над нами... Если бы дело было только во мне одной — наплевать, не привыкать стать... Но он унизил человека, которого я люблю и уважаю, которого знает весь мир. Этого я никогда не забуду и не прощу... Ведь ему ничего не стоило вышвырнуть какую-нибудь тысячу, но он отказал грубо, как пощечину дал. О, я отомщу ему за это, за всю мою изломанную жизнь, лишь бы представился случай! Не удастся отомстить мне — отомстит сама судьба за его служение дьяволу денег, отомстит, к сожалению, быть может, нашей гибелью и гибелью наших детей до десятого колена... Тьфу, как мерзко на душе...
«Я больна: развивается ревматизм от прекрасного климата «старой, доброй» Англии...»
Последние строки этого яростного рычания были размазаны кляксами.
Жаль было озлобленную Варвару, но ведь и Наташино положение не лучше: Валерьян совсем выбился из сил, не может работать, денежные дела расстроены, зовут в Россию... Ах, если бы и ей поехать вместе с ним! Но без разрешения докторов ее туда не пустят ни муж, ни родные... Как только уехала из Давоса — опять похудела. Поведут к докторам — и так без конца. А в семье давнишний разлад, все больны, братья тоже сюда едут, всем нужно денег...
Наташа не могла разобраться в нудной канители отцовской семьи, знала только одно, — что, выходя замуж, надеялась обойтись без помощи отца, но ее болезнь как-то вышибла Валерьяна из колеи, и он не зара-батывает теперь прежних больших гонораров. Жил здесь для нее до тех пор, пока были деньги. Теперь денег нет... Братья поженились и как-то отдалились от нее. Жен их она совсем не знает. От Мити была недавно открытка: едут с женой в Ниццу...
Наташа склонила голову на руки. Глаза ее затуманились слезами, словно дождь шел над морем.
Кто-то подъехал к «Золотому дому» на извозчике. Наташа подняла голову и ахнула: из экипажа вылезал длинный Митя, Анна выскочила раньше и кивала ей головой, улыбаясь...
Наташа пошла им навстречу. По обычаям черновской семьи родственная встреча произошла безо всякой чувствительности.
- Хотим немножко пожить с вами, а потом куда- нибудь и санаторий, — говорила Анна. — Ждите еще другую пару: недели через две Костя приедет с Зинаидой.
Дмитрии был по-прежнему худ, молчалив и с виду мрачен. Наташа побила брата, была искренне рада его приезду. Анну она едва знала, плохо помнила... Приходилось знакомиться ближе... Повела их наверх, где только одна комната оставалась свободной.
— А где же твое семейство? — озираясь, спросил Дмитрий.
Наташа показала в окно: из лодки вылезали на берег Валерьян, Евсей и Ленька.
Дмитрий из окна помахал им шляпой.
Через десять минут все они сидели внизу, в столовой, за завтраком.
Больше всех говорил Евсей.
— Я, собственно, живу в «Эдене», — объяснил он приезжим, — но там кормят так, что в рот ничего не возьмешь: поковыряешь вилкой и уходишь голодный..,
— Как же вы живете в таком отеле? — поддерживала разговор Анна.
— А ничего, обтерпелся. Ко всему ведь животное, человеком именуемое, привыкает. Зимой и весной здесь еще с полгоря: иностранец, какой ни на есть, водится, отельщики торгуют и пансион держат. А вот летом — прямо жутко: тишина мертвая, эскадры нет, батальон уходит в горы, кабатчицы плачут и стонут; отели закрываются, остается местная публика и ждет нового прилета. Это нечто вроде зоологической спячки, только не на зиму, а на лето. Одним словом, жизнь наступает треугольная. Прошлым летом я так-то и остался один во всей Виллафранке. «Эден» закрылся, я переселился в лабораторию. Пока были кой-какие франки, питался яйцами и молоком. Потом франки прекратились. Дошло дело до того, что хоть в петлю: ниоткуда ни сантима, да и задолжал кругом. И стало мне весьма огорчительно. С голодухи, что ли, открылось кровохарканье, температура 39, гайка ослабла, кишка не действует. Свалился, лежу один в пустой лаборатории, напиться подать некому, губы запеклись, нет ни души кругом: околевай, как собака.
Евсей рассказывал все это совершенно спокойно, обращаясь главным образом к Анне и запивая завтрак дешевым, дрянным вином, какое пили они обыкновенно с Валерьяном.
Дмитрий спросил себе бургундского и, плохо слушая рассказы Евсея, пил один, никому не предлагая из своей бутылки: ему не приходило в голову, что ученый и художник пьют дешевое вино из-за безденежья.
Сидя за одним столом с приезжими и дружелюбно с ними разговаривая, они чувствовали себя пролетариями в обществе беспечных буржуа.
Евсей все чаще и выразительнее поглядывал на осанистую бутылку Дмитрия, переводя недоумевающий взгляд на Валерьяна.
В самом деле, Евсей и Валерьян служат науке и искусству, их имена известны в мире наук и искусств, между тем они пьют дрянное вино, а за одним столом с ними, как в насмешку, сидит безвестный скромный буржуа и тянет бургундское... у него амброзия, а у них — уксус. Где же справедливость в этом мире? Почему Дмитрию не приходит в голову хотя бы раз подсластить их кислую чашу?
Удовольствие на лице Мити, покрякивание и простодушные похвалы бургундскому — все это падало горечью в чашу испытаний ученого и художника, сидевших в Виллафранке без денег.
— Ах, как это несправедливо! — с равнодушным участием отозвалась Анна на рассказ Евсея.
— Да, мадам, на свете нет справедливости. Я зоолог и в мире людей вижу такую же зоологическую борьбу, как и в мире зверей.
— Ну и что же, вы все-таки поправились? Кто-нибудь помог вам?
— Конечно! — вдохновенно воскликнул Евсей.— Отвалялся! Зажило, як на собаци. Встал на ноги и задумал одно дело: стал торговать наукой. Чего не выдумает наш брат, мастеровой? Стал я заготовлять у моря всякие препараты, материалы и продавать их сухопутным ученым из водяных-то ведь только один я тут остался. Как раз приехал старый приятель, московский профессор. «Ты, говорит, водяной, что ли, теперь?» — Водяной, мол. Ну, и выручил меня: сделал заказ, аванс дал.
«Водяной» набил трубку табаком, аппетитно ее раскурил и переменил тему разговора.
- Сегодня с двух часов на полуострове около маяка будет авиация, — обратился он к Анне и Дмитрию. — Вам, как приезжим, да и тебе, Валерьян, и вам, Наталья Силовна, - всем советую посмотреть. Давно здесь авиации не было Из Ниццы прилетят аэропланы, обогнут маяк и полтят обратно. К маяку соберется толпа; будут петь уличим- немцы, играть музыканты... Не упускайте случая! Давайте разделимся на две группы: мы с Валерьяном пере махнем через залив на лодке, а так как лодка мала и Наталья Силовна боится за Леньку, то все остальные жарьте трамваем. Сбор назначим в ресторане у маяка.
План Евсея был единогласно принят, и по окончании завтрака Валерьян с зоологом сели в «бото».
На середине залива их неожиданно задержало приключение: лодка зацепилась рулем за рыбацкие сети, и они долго кружились на месте, пока не выпростали руль. Поэтому, когда поднялись к маяку, там уже оказалась густая толпа зевак, а на условленном месте компании они не застали. Толпа сновала взад и вперед по лужайке, усыпала изгороди, тропинки, уступы скал. Ходили продавцы прохладительных напитков, торговцы раковинами, открытками, безделушками, было много мальчишек; в разных местах слышались музыка и пение.
Под тягучий аккомпанемент фисгармонии звучал прелестный женский голос: певица пела арию Джильды из «Риголетто». Пела она с большим искусством, чувствовалась школа; голос лился просто, свободно и плавно. Фисгармония с той же простотой и вкусом давала всю сложную музыку оркестра. Замечательно пели эти неведомые, скрытые за густой толпой уличные артисты.
Евсей послушал и сказал:
— Мне кажется, я где-то же слышал эту певицу.
Они протолкались сквозь густую, плотную, пеструю
толпу, залитую щедрым, ликующим солнцем, поближе к пению.
За клавишами старой, маленькой фисгармонии, приспособленной к тому, чтобы ее носить за спиной, на складной скамейке сидел и играл слепой старик, бедно, грязно одетый. Рядом с ним, лицом к толпе, стояла и пела худая старуха в черном, бедном, запыленном платье, в дешевой соломенной шляпке, с истомленным, бледным лицом. На этом усталом лице слишком ясно запечатлелись черты давнишней бедности, горя, нужды. Она была стара, но к ее голосу, казалось, еще не посмело прикоснуться время.
— Так и есть, это они! — воскликнул Евсей. — Я их знаю, этих стариков; мне рассказывали их биографию. Это, видишь ли, бывшие знаменитости: она была когда то примадонной королевского театра, а он — дирижером. Потом пришла старость, дирижер ослеп, у нее спал голос; оба сошли со сцены и вот — конец их. Целая драма перед тобой — жизнь треугольная.
Слепой чуть касался худыми пальцами знакомых клавишей, подчеркивая и оттеняя каждый звук ее голоса, каждое проникновенное слово, — все, чему была отдана его жизнь. Вероятно, ему казалось, что он сидит в оркестре королевского театра, сопровождая дивное пение, а она поет перед залитым огнями театром.
Конечно, в молодости ее голос был еще лучше, но кто знает, пела ли она тогда с таким глубоким драматизмом, как теперь? Может быть, в ее памяти вставало все е блестящее прошлое, огромная слава, шумная жизнь, оценку которым она могла сделать только теперь.
Когда певица умолкла и стала обходить слушателей с тарелкой для добровольных даяний, в другом конце толпы раздались звуки арфы, запел другой женский голос: молодая девушка, в ярком, кричащем наряде и сама ярко-красивая, смуглая, с черными, огневыми глазами, пела сильно и страстно. Голос ее — густое контральто — на низких нотах переходил как бы в баритон. В ней было мало женственности, но много южной страсти. Позади ее спокойно стоял небритый мужчина и аккомпанировал на плохой уличной арфе.
— Это — испанка! — сказал Евсей. — Я ее тоже знаю.
Едва умолкла испанка, как где-то в другом месте снова зазвучали струны: в толпе виднелся высокий, молодой красавец смуглый юноша с черными усиками, весело улыбающийся, в картузе с прямым козырьком; ухарски сдвинутым на затылок, и, аккомпанируя себе на звучной, гулкой гитаре, артистически, неподражаемо свистел соловьем. Его белые ровные зубы сверкали, на здоровом, пышащем румянцем, смуглом лице было наткано беззаботное веселье, и соловьиными руладами неслась его развеселая песня. На самых высоких нотах он вдруг заливался канарейкой, на средних — подражал соловью, а на нижних — крякал селезнем.
Все это под гулкие аккорды металлических струн выходило у него, а беззаботная улыбка вызывала также же улыбки у толпы.
Это был, не несомненно, итальянец. Подражание птицам оказалось только прелюдией к настоящему пению: обратив на себя внимание слушателей, он вдруг запел звучным баритональным тенором.
От Ниццы по морю приближалось несколько миноносцев, следовавших гуськом один за другим, а над ними высоко в небе чуть виднелось прозрачное насекомое.
Все певцы и музыканты умолкли. Взоры толпы обратились туда. Евсей, посмотрев из-под ладони в даль блестящего моря, воскликнул:
— Стрекоза! Французский аэроплан впереди всех, возьмет первый приз.
Стрекоза быстро увеличивалась в объеме, и уже слышно стало в воздухе ее ровное жужжание. Вслед за ней показалось еще несколько летящих насекомых иной формы, а под ними, внизу, по лазурному шелку моря ползли друг за другом пять или шесть черных миноносцев. Жужжание насекомых превратилось наконец в мощный гул, и к маяку с неожиданной быстротой подлетел дракон на распростертых крыльях. Около зеленой головы его, напоминавшей голову кузнечика, сидел неподвижно человек в жокейском картузике.
Дракон снизился, круто завернул к маяку, так, что одно крыло опустилось ниже другого, и, как птица, обогнул его над головами толпы.
Лица всех были подняты к небу. Мелькали шапки я поднятые руки, которыми махала ревущая толпа.
— Браво! — с восторгом выла она.
Француз был неподвижен, сидел в напряженной, согнутой позе. Толпе были видны только его голова и плечи. Почти никто не рассмотрел лица.
Авиатор умчался, как демон, опускаясь, к морю, а внизу, на море, миноносцы заворачивали обратно, чтобы поспеть за ним.
Высоко под облаками появилась крохотная четырехугольная клетка и, все увеличиваясь, стала опускаться над маяком. Послышалось жужжание мотора.
— Это наш, — объяснил Валерьяну зоолог: — русский аэроплан. Летит известный пилот. Знаю я его — простой рабочий, из машинистов, но отчаянная башке, Всегда на высоту берет: во время ветра никто из авиаторов не решается брать на высоту, только один он поднимается в облака. Из бахвальства поднимается, чтобы удаль свою показать. Когда-нибудь сломит шею.
Русский, следом за французом, круто и низко обогнул маяк, пролетая почти над самыми головами толпы, так, что все увидели его скуластое лицо и большие, сильные руки. На оглушительные крики толпы нашел время сделать «ручкой».
— Знай наших! — гордо сказал вслед ему Евсей. — Возьмет второй приз, а может быть, еще и стрекозу обгонит, разбойник.
Пилот по своему обычаю опять взмыл на необычайную высоту, его клеткообразный аэроплан сказочно превратился в комарика, едва заметного в облаках.
Началось волнующее состязание между комаром и стрекозой, летевшей низко над морем, как чайка, распластав неподвижно крылья. Казалось, что вот-вот она заденет?; крылом за серебряный гребень волны.
Вдруг что-то случилось. Высокий белый столб воды взметнулся над стрекозой. Миноносцы, следовавшие за ней, в беспорядке обгоняя друг друга, оставляя за собой хвосты черного дыма, бросились вперед и сбились в кучу, как мухи. Стрекоза тонула. Четырехугольная клетка, похожая на прозрачное насекомое, высоко в небе хищно промчалась над ней и скрылась из виду.
В публике началось волнение. Замелькали бинокли.
Но вот через две минуты над миноносцами в воздухе опять взмыла стрекоза и помчалась вслед за комаром, уже спускавшимся к Ницце. Между тем к маяку приближался новый аэроплан, за ним на некотором расстоянии плыли в небе и другие.
Полет продолжался.
- А ведь наш возьмет первый приз! — торжествовал Евсей Не тогнать его теперь французу. Наши, брат, везде теперь европейцам нос утирают.
- Как быстро развивается авиация! — заметил Валерьян.
- Да, и все для войны: к войне готовятся. Будет каша когда-нибудь... Неспроста упражняются.
- Пойдем, поищем наших! — прервал его Валерьян.
- А и впрямь поищем, — лукаво прищуриваясь и нащупывая сантимы в жилетном кармане, ответил Ев- сей - Пойдем в садик ресторана: чует мое сердце, что твой свояк опять бургундское пьет.
Евсей наконец получил старый фрак из России, и весьма кстати: как раз на этот день был назначен парадный обед у князя монакского.
В «Золотом доме» зоолог появился вечером, когда уже совсем си число и компания сидела в столовой за ужином. На нем был потертый, измятый фрак, а сам Евсей походил в этом костюме на утомленного трактирного официанта; вид у него был жалкий, измученный. Сразу было видно, что карьера придворного зоолога прошла мимо Евсея.
— Сорвалось? — кратко спросил художник.
— Полное фиаско, — прошептал Евсей, почти без чувств опускаясь на стул. — Куда ни кинь — все клин...
Валерьян молча налил ему полный стакан вина, — не бургундского: бургундское пил Митя. Освежившись вином, Евсей немного приободрился, но ненадолго: слишком уж мрачен и жалок был его вид. Он расправил растрепанные белокурые усы и глубоко перевел дух.
— Сначала все шло хорошо, — тихим, слабым голосом начал он. — Хлопотали за меня влиятельные лица. Но как только обнаружилось, что я беглый, — крышка! И так везде — и давно уж. Эх, жизнь треугольная!
Все молчали. Наташа с тревогой и болью на лице смотрела на несчастного зоолога. Дмитрий и Анна недоумевали.
Все поведение и вид Евсея выражали тихое, сдержанное отчаяние, которое, казалось, вот-вот вырвется наружу. Он мрачно посмотрел на Митино бургундское и вдруг ни с того, ни с сего разразился неудержимой тирадой:
— Жрать нечего! — мрачно воскликнул Евсей при общем молчании. — Да. Я, не стыдясь, откровенно говорю: мне нечего жрать. Ведь вот все видят, что я прилично одет — и воротничок на мне, и галстук, и даже — ха-ха! — фррак, черт его побери-то! Я — приват- доцент зоологии, занимаюсь наукой, студенты относятся ко мне с почтением, профессора со мной в дружбе; но никто не знает, что мне нечего жрать. Нечего! И нет никаких надежд ни на что. Семь лет мотаюсь за границей. Сначала помогали из России, теперь — бросили. Был избран профессором в Харьковский университет — и пропадаю здесь, как собака. Черт бы побрал совсем эту культурную Европу! Хоть бы выбраться как-нибудь в Россию! Легче опять в ссылку пойти, чем голодать в этой шикарной Ривьере, провалиться бы ей, ни дна ей, ни покрышки! Хоть бы поколеть, да в России, а не на чужбине, где ничье сердце не тронется, хоть ты сдохни совсем. Здесь живут только богатые, отдыхающие от ничегонеделания, презирающие эмигрантов, как нищих, как отбросы нашей страны, как отработанный пар. Мещане, буржуа, которым наплевать, что мы гибнем.
Евсей говорил звенящим голосом, ни на кого не глядя. Губы и лицо его дергались. Всем тяжело было смотреть на него, но никто не перебивал его речь.
— А наши-то, — желчно продолжал он, машинально глотнув вина. — Там, в России! Кто поможет, кто захочет спасти тех, которые когда-то боролись и жертвовали собой? Кто услышит нас? Иные притаились, струсили, да и забыли нас, а кто помнит — сам страдает. Не буржуи же помогут! Они торжествуют, они злорадствуют... Но погодите! Мы еще придем, мы вернемся. Не все, но кто выдержит эту муку, тот вернется... Я верю, верю, убежден... Будет великое отмщение, и тогда пусть не жалуются на нашу жестокость. Всем, кто теперь там обжирается, торжествует, властвует, нет прощения и не будет...
Тут лицо Евсея исказилось: он делал отчаянные усилия, чтобы не разрыдаться, и не мог, схватил со стола салфетку, закрыл ею лицо и заплакал навзрыд: этот большой могучий человек, не раз в своей жизни смотревший смерти в глаза, сердился за свои неуместные слезы, но не имел сил сдержать их: нервы его натянулись до предела еще, должно быть, на злополучном обеде у монакского князя, а теперь сразу ослабли...
Все растерялись.
Потом, пересилив себя, Евсей решительно поднялся, чтобы идти домой. Валерьян пошел проводить его.
Над заливом ярко светила луна. Море уснуло и сквозь сон бормотало что-то прибрежным камням, словно осипшим от лунного света и грезившим о чем-то своем, безмолвном и таинственном.
Виллафранка, погруженная в собственные тени, казалась волшебным видением. Чутко спали черные арки и старые, причудливые здания, амфитеатром нагроможденные одно на другое. Где-то в кабаке светился огонек, и оттуда ясно доносились дрожащие, нежно-певучие, хватающие за сердце грустные трели мандолины.
Евсей остановился.
— Зайдем? вопросительно сказал он Валерьяну.
Они вошли поз темную арку и по каменной лестнице поднялись и верхнюю улицу, узкую, как туннель. Тусклый фонарь горел над входом грязного кабачка. Он был полон солдат местного гарнизона. Все они сидели за маленькими столиками по двое, по трое, пили пиво и буднично коротали вечер: играли в домино, в карты, некоторые писали письма. Разговаривали вполголоса.
Пиво разносили две молодые, красивые девушки- итальянки, В глубине комнаты — стойка с буфетом, на стойке мандолина. В соседнюю комнату, в которой тоже виднелись солдаты, вела лестница в несколько ступеней.
Русские сели в уголок, за свободный стол. К ним тотчас же подошла одна из девушек — высокая, тонкая, с римским профилем. Евсей поздоровался с ней за руку, заговорил по-французски и представил художника. Она, улыбаясь, протянула руку Валерьяну. Рука была большая, сильная, шероховатая от кухонной работы.
— Грог америкен! — сказал Евсей кельнерше.
— Ого! — удивился художник.
— Ничего, давай, брат, выпьем сегодня горячительного, чтобы в голову ударило, а иначе я не засну: совсем нервы не слушаются. Тяжелый у меня сегодня день: подкузьмил монакский князь, а главное — от жены из России плохое письмо получил.
— Что с ней?
Евсей махнул рукой.
— Э! Лучше не спрашивай.
Он закрыл глаза ладонью и тихо уронил, вздыхая:
— Помирает. Чахотка у нее.
Итальянка принесла два бокала, кипяток в кувшинчике и большой штоф американской марки с густой темно-вишневой жидкостью. Треть бокалов она напол-нила из штофа, а остальное долила кипятком.
Они стали пить этот горячий и крепкий напиток маленькими глотками, и тотчас же по жилам заструилась огненная теплота. Лица их зарумянились, повеселели.
— Скоро в России настанут лучшие времена, — мечтательно говорил Евсей: — реакция должна дойти до своего предела, начнется революция. Вот тогда-то, коли доживем, встретимся мы с тобой. Ты когда уезжаешь?
— Как только деньги получу.
— С женой?
— Не известно. Если отпустят доктора. Не отпустят — один поеду: денежные дела плохи.
— Знаю. Но ведь у тебя тесть — купец богатый, у него бы занял?
Валерьян усмехнулся.
— Он дает ей, сколько нужно на лечение, а я с ним денежных дел не имею... Не хочу одолжаться.
— Это, положим, хорошо. Да ведь ты, если вернешься, сразу кучу денег заработаешь...
Евсей допил грог, спросил еще и, вздохнув, сказал:
— А старик-то у вас оригинальный, не купеческого типа, на Победоносцева похож... Государственный ум. Хе-хе!
— Да, с ним поговорить интересно, если только денег не просить.
— Хе-хе! А все-таки — буржуйная родня у тебя. Дмитрий в свое время почище тятеньки будет. Вот жена у тебя — действительно, не от мира сего. И в кого только уродилась такая!
— В купеческих семьях это бывает, — отмщение родителям: Алеша Карамазов в юбке.
— Верно! Странная русская жизнь, странные русские люди. Поглядишь — купец какой-нибудь всю жизнь деньги копит, а под конец в монастырь уйдет и все деньги попам завещает... Ваш, впрочем, не таков, но что- нибудь да отмочит. Капитал и земля должны принад-лежать государству, а капиталистов в будущем совсем не надо, — неожиданно подытожил Евсей.
— Ничего не имею против, — иронически согласился художник. — Неприятный народ в личной жизни: ни себе, ни ЛЮДЯМ. Ты не представляешь себе, какая у них всегда драма в семье.
— Желал бы я им мою драму испытать, — желчно воскликнул кликнул Евсей. — Ну, по третьей, что ли? Больше трех порций грогу не дадут: подумают, что мы самоубийцы... А я бы и по четвертой выпил.
Итальянка получила новый заказ, а Евсей впал в задушевность.
- Поедешь в Россию — в Харьков на денек заверни, зайди к матери моей, — я тебе адрес дам. Милейшая старушенция. Простая крестьянка, но сочувствует нашим идеям, понимает. Какой тебе будет почет, когда ты произнесешь ей мое имя! Да она не будет знать, где тебя посадить, чем тебя ублаготворить. Только ты ей ничего не говори о моей треугольной жизни — ни-ни! Ты ври ей. Ведь ты художник, фантазии не занимать стать. Великолепно можешь наврать ей что-нибудь хорошее про меня. Будешь врать?
— Буду! — покорно сказал Валерьян.
— На днях в лаборатории эмигрантский вечер будет. Придешь?
— Приду, конечно.
Головы их слегка затуманились, на душе стало тепло и бодро. Валерьян уже чувствовал себя одной ногой в милой России и плохо слушал Евсея. Как сквозь туман доносился до сознания длинный рассказ друга о жизни в ссылке, о девятьсот пятом годе, о бегстве через границу, когда в него стреляли солдаты...
А солдаты в кабаке продолжали игру в кости и карты. Итальянка бренчала на мандолине. Один из молодых солдат встал в позу и запел веселую песенку. Голос у него был небольшой, и пел он, как поют на открытой сцене: жестикулируя, обращаясь к слушателям и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Песенка была грациозна и, по-видимому, легкомысленна. Кончив, он поклонился, и весь кабак ему аплодировал.
Тотчас же встал другой. Этот был постарше, с воинственным лицом и закрученными кверху широкими усами. Он пел военную песню, похожую на сигналы солдатского рожка, играющего утреннюю или вечернюю зорю. Ему тоже аплодировали.
Кабак оживился. Один за другим выступали новые певцы. Все они умели недурно петь, и каждый во время пения становился в позу. У всех были бравурные, красивые жесты, в которых чувствовалось что-то национально-французское, сказывалась привычка жить в толпе и с толпой, обращаясь к ней с картинным жестом певца или оратора — все равно.
— Вот, — сказал зоолог, — тема тебе для картины: французские солдаты. С каким достоинством держатся! И оказывается, все умеют петь, а между тем ведь это — только простые рядовые!
В кабак вошел и весело остановился на пороге красивый, небольшой солдатик бравого вида, с живым, выразительным лицом, с фуражкой на затылке.
Он изобразил на лице комический вопросительный знак и на момент застыл в разудалой позе. При его появлении раздались дружные аплодисменты: очевидно, это был общий любимец, «душа общества». Он тут же, около двери, запел хорошим тенором, с теми же плавными, красивыми жестами, как и все они, что-то люби мое, заветное. У всех засверкали глаза, а лица обратились к певцу. А он уже стоял в глубине комнаты на возвышении, обратил его в эстраду и пел оттуда бравурную, воодушевляющую песню. Солдаты не выдержали и дружно подхватили припев.
Певец закончил эффектной нотой и красивым жестом руки, которая кстати обвилась вокруг талии проходившей мимо итальяночки. Она рассмеялась — общий любимец нравился и ей. Но в следующий момент он уже забыл о ней, проходя в другую комнату, где тоже был встречен аплодисментами.
— Как все это непохоже на неуклюжую и мрачную русскую жизнь! Все у нас там — свара, злоба, ненависть всеобщая. Нигде в мире, ни в одной стране нет такой классовой борьбы и ненависти, как у нас, в России. Ведь мужики и дворяне — это классы, до ожесточения взаимно ненавидящие один другой. Уж какая там свобода, какой свет, какой воздух? Ночь! Одна сплошная ночь незакатная.
— Все эти славные парни и наши мужики в солдатских шинелях будут когда-нибудь пушечным мясом для разрешения международных вопросов.
Евсей встал во фраке и белом галстуке и обратился к солдатам с речью. Говорил долго, с пафосом, непонятным для Валерьяна, не знавшего французского языка.
Валерьян поехал в лабораторию не к началу эмигрантского вечера, а гораздо позднее.
Подойдя к воротам угрюмого здания, он был приятно удивлен: небольшой садик бывшей тюрьмы освещался разноцветными бумажными фонарями, во всех окнах горели огни, и слышен был гул многолюдного собрания.
В дверях его уже поджидал Евсей в своем неизменном сером костюме и с махровым цветком распорядителя н петлице. Вид у него был трогательно-самодовольный.
— Каково? — спросил он, подхватывая художника под руку. — Иллюминацию видел? Это я изобрел. Сам со студентами фонари клеил и сам развешивал в саду. Все моих рук дело. А стены — посмотри на стены!
Стены аквариума убраны были гирляндами морских водорослей. Необычайно длинный, как манеж, каменный сарай с черным сводчатым потолком и истертым каменным полом, переполненный публикой, освещался большими стенными лампами. Толпа почти вплотную напол-няла сарай. Кроме приехавших из России для занятий в лаборатории студентов и студенток, главную массу составляли политические эмигранты — беглецы из России и Сибири, деятели первой революции, претерпевшие ссылку, тайгу, русские тюрьмы, сибирскую каторгу. Странным казалось, что вечер бывших обитателей тюрьмы происходил тоже в бывшей тюрьме.
С подмостков, размахивая руками, что-то выкрикивал какой-то человек. Стоявшие близко к нему отвечали- иногда густым гулом одобрения, но задние, которым плохо было слышно, шумели, двигались, разговаривали, входя в смежные комнаты и возвращаясь оттуда.
— А что, Владимир, будет сегодня? — спросил Евсея кто-то из проходивших в толпе.
— Обязательно! Специально приехал с вечерним поездом.
— Хорошо. Послушаем.
— Вот это — оратор! — обернулся к Валерьяну зоолог. — Слышал я его еще в пятом году в Петербурге, в Харькове и в Крыму. Везде фурор производил. Только выйдет, поднимет руку, скажет: «Граждане!» — и готово дело. И ведь странность какая: ничего нового-то как будто и не говорит, то же самое скажет, что все партийцы говорят, а совсем другой коленкор выходит.
— Голос у него такой, — заметил человек, стоявший рядом.
— Не голос, а сила в нем особая и логика, — возразил другой.
— Говорил он раз в Ялте, на митинге в парке, — продолжал Евсей, — а внизу, под горой, почти за полверсты, мы стояли на крыше и слушали: слышно было каждое слово. А ведь и голос-то у него только во время речи является. Так, на улице, его, бывало, встретишь — маленький, худенький, плечи подняты, руки в карманах, а выйдет говорить — высокий сделается, голос гремит.
— Как есть Мефистофель! — с улыбкой засмеялся сосед.
— Было тогда у нас в Харькове шествие по улице с флагами. И мы несли его впереди на стуле, надо вам. толпой. А он, миляга, без шапки, в блузе, распоясанный, сидит и высоко держит наше знамя. А народ поет. Так, веришь, если бы он тогда сказал: «Идите и умирайте!»— пошли бы и умерли. Вот какая душа в человеке!
— Не в душе дело. Волевой человек!
— Неистовый.
— Его не собьешь: твердокаменный.
На эстраде показалась новая фигура, одним своим появлением вызвавшая добродушные улыбки.
— Это кузнец Федор, — заговорили в толпе. — Федора выпустили.
Федор был неуклюж, коренаст, в рабочей блузе, загорелый, с длинными, свешенными вниз «хохлацкими» усами.
— Да здравствует революция! — сказал он густо, но спокойно, как привычную поговорку. — Не ждите, братцы, — начал он с южнорусским акцентом, сильным - и резким басом, — не ждите, чтобы я сказал вам что-нибудь красноречиво, как предыдущий оратор: нет, я — рабочий, кузнец и красно балакать не умею. Только скажу: я из тех сознательных рабочих, которых в России начальство нагайками да пулями угощает. Мы сознательные, а нас, сознательных, девятого января у царского дворца картечью встречали... Мы сознательные, а нас на Ленских приисках...
— Остроумный кузнец, — улыбаясь, сказал Евсею художник. - У него бессознательный юмор.
- Вот и говорят, братцы, не только у нас, на родине, а даже и здешние, европейские люди, будто никак нельзя без того, чтобы нас не давить, потому — так уже на свете все зроблено, як лестница або пирамида: наверху— министры, буржуи, дворяне и всякое начальство, а в самом низу, значит, — мы. Оттого нас все и давют. Нам, рабочим, одно только остается: колы у нас на плечах та бисова пирамида, то мы визьмемо да из-под низу- то зараз посунемся — воны уси и посыплются.
Толпа густо засмеялась. Раздались аплодисменты и крики «брано».
Когда все утихло, кузнец с прежней серьезностью, расставив ноги циркулем, сказал:
— Усе.
И, пожелав доброго здоровья революции, стал спускаться с подмостков.
Толпа затихла Тщедушная, маленькая фигура человека в поношенном костюме появилась на эстраде. Лица
у всех сияли. По сараю прошел густой, сдержанный гул:
— Вот он! Вот!.. Вышел!.. Владимир!..
Владимир был еще сравнительно молод, но очень худ
и бледен. Коротко остриженные каштановые волосы торчали вихрами на круглой голове с большим, выпуклым лбом и голубоватыми глазами, смотревшими пронзи-тельно.
С легким полупоклоном он протянул вперед дрожавшую бледную руку, потом сразу поднял ее и выпрямился так, что, казалось, сделался выше. .
В зале наступила тишина.
— Товарищи!.. — раскатился вдруг гремучий, страстный голос, отчетливо прозвучавший по всему громадному зданию.
Толпа сразу замерла и так застыла, что Валерьяну стало слышно глубокое, хрипящее дыхание чахоточного Евсея, стоявшего рядом и не спускавшего глаз с выпрямившейся фигуры Владимира. В привычном, коротком слове все вдруг почувствовали необыкновенную властность, убежденность, стремительную напряженность всех душевных сил этого человека: казалось, что он произнес страстную клятву.
— Товарищи, — повторил он в новом тоне, тише, но глубже, с непередаваемой выразительностью и жаром, — близко время великой русской революции, за которой последует потрясение всего мира. Я не буду говорить о признаках ее близости: признаки эти вы скоро почувствуете сами. Я буду говорить о том, что предстоит нам делать, когда начнется революция. Она не должна застать нас неготовыми. У нас должны быть твердые, ясные тезисы, и они уже есть.
Он снова поднял руку и, как будто все еще вырастая на глазах у всех, обводя толпу горящим взглядом, стал бросать ей отрывистые, повелительные, жаркие слова:
— Вог наши тезисы: захват власти пролетариатом... захват фабрик и заводов... захват банков... арест капиталистов...
Каждое из этих слов, взлетая в воздух, разряжалось, словно обжигая всех.
— Диктатура пролетариата... — гремел жгучий, клокотавший голос, — уничтожение частной собственности... социальная революция...
Эти слова казались раскаленно-взрывчатыми: они жгли, оглушали толпу, казались громовыми.
— Вот тезисы.
Рыжевато-каштановая голова с широким, выпуклым лбом как бы горела, полная кипящих, взрывчатых мыслей. Взрывами разряжался голос, стальные синие глаза то загорались, то гасли. Валерьяну казалось, что толпой завладел безумец, фанатик грандиозной фантазии. Художник видел, как огнем жгучих слов накалялась и заряжалась толпа, жаждавшая верить в осуществление тезисов. Она сама тянулась навстречу очарованию в несомненном самогипнозе. Вспомнились ходячие, известные стихи: «Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, — честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!»
Перечислив тезисы, оратор вернулся к началу и заговорил о каждом из них отдельно. И опять взрывами взлетали отрывистые, волнующие, ошеломляющие слова.
— Для торжества социальной революции в России потребуются жертвы... Но это немного в сравнении с величием задачи. Капиталистический строй ненавистен всему миру, всем, кроме самих капиталистов... Он не может существовать вечно... должен погибнуть. В прошлом человечества много раз погибал устарелый строй... заменялся новым... Погибнет и отживающее, дряхлеющее царство капитала... его заменит социализм. К этому идет история, и нет тех сил, которые могли бы остановить ее. История — за нас!
Валерьян слушал и смотрел на оратора с тревогой и изумлением. Это был пафос пророка, фанатика, безумца или кто знает? — быть может, гения, который уже и теперь покоряет и зажигает толпу.
До сих пор он думал, что русские революционеры хотят: одни только конституции, другие — республики, но теперь впервые услышал страстную, исступленную речь о социальной мировой революции. Тщедушный человек покоряющим голосом, полным несокрушимого убеждения и пламенной веры, рисовал вдохновенными, горячими словами невероятную, фантастическую, притягательную картину. Все слушали с жадностью. Валерьян видел, как стоявший рядом с ним Евсей как бы глотал на лету слова Владимира, как вся толпа была загипнотизирована пронзительными, горящими глазами оратора, его не допускающим сомнения голосом. Когда он кончил, зал долго грохотал аплодисментами, стонал от криков. Протестовала и негодовала лишь незначительная часть публики, некоторые пожимали плечами, язвительно улыбались.
На смену ему вышел пожилой человек, по-европейски, элегантно одетый, с лысеющим лбом и сильной проседью в подстриженной острой бородке. Жидкие аплодисменты встретили его. Зал еще не успокоился под впечатлением только что слышанного. Когда шум затих, новый оратор начал говорить, но его плохо слушали. Говорил спокойно, уверенно, с видом опытного бойца.
—Ну, опять начнет разбирать по косточкам, — рычали в задних рядах, — живого места не оставит.
— Что же, известно, что победить его невозможно: вооружен всегда — как черт...
— Конечно, — эрудиция. Но нам дорого наше настроение. Лучше бы сегодня не выходить ему...
— Слышали! Старо! Довольно! — волновались слушатели.
— Наши разногласия — во взглядах на ближайшие судьбы капитализма... Вредно обманываться упованиями на его дряхлость: европейский капитал еще достаточно силен, и до известного момента русская революция вынуждена будет идти с ним в контакте... Мировая буржуазия...
— Долой буржуазию! — взревела толпа: самое это слово вдруг обожгло ее, как раскаленным железом. — Да здравствует революция!
—- Товарищи, — напрягая тонкий голос, взывал к толпе старый оратор, — можете меня не слушать, но не можете заставить мыслить иначе. Во имя революции, которая мне так же дорога, как и вам, заклинаю вас: бойтесь преждевременной социальной революции. Несвоевременно захватив власть, рабочий класс не совершит социальной революции.
— Совершит! А-а! А-а!
Невообразимый гам заглушил его голос.
— Эти тезисы — теоретическая отвлеченность, бред... безумие...
Казалось, что будет рукопашная схватка.
— Ну, началось! — сказал Евсей, беря художника под руку. — Больше слушать нечего. Пойдем в буфет.
— Я лучше в сад пойду, — возразил Валерьян.
— Только не удери совсем. Скандал сейчас кончится безо всяких результатов.
— Всегда у вас так бывает?
— Всегда. Дело привычное...
— Но кто же из них прав?
— А уж это мать-революция рассудит. Кто победит на баррикадах, тот и будет прав. Ведь победителей не судят.
Валерьян долго сидел в садике на скамейке. Эмигрантская грызня взволновала его. Там, «в глубине России», — великая тишина, а здесь уже делят шкуру неубитою медведя. Как взвыли они от одного только слома «буржуазия»! Какая ненависть и вместе — какая вера! Странно и ново, что о будущей революции здесь говоря, как о деле давно решенном... готовы к ней. А он-то думал, что они здесь только бьются с нуждой, как , как зоолог Евсей. Нет, они тут делают что-то. Что же будет с Россией?
Лунный полб серебряной чешуей, бесконечно дробясь и сверкая, плыл по тихому, едва дышавшему морю. Художник засмотрелся на огненные блики, словно без конца выплывающие с морского дна. Они поминутно гасли, но тотчас же сменялись новыми огнями. Редкие звезды, окружая прозрачную круглую луну, алмазными брызгами горели в глубоком зеленоватом небе.
Недоуменная тоска охватила душу Валерьяна.
Когда он вернулся в зал, там уже не было прежней толпы: она растеклась по всем комнатам; в зале стояло несколько больших столов с бутылками и кружками пива. Сидящие за столом люди галдели, спорили, смеялись.
За небольшим столиком сидел Евсей в компании нескольких человек, он представил им подошедшего художника, потом пододвинул стул и бокал с темно-красным напитком.
— Ну, как вам понравились речи? — спросил кто-то Валерьяна.
— Удивлен, — признался художник. Неужели в самом деле возможен социализм в России? Можно ли быть уверенным, что русская революция вызовет революцию во всем мире?
— Мы верим, — твердо сказал тот.
— Верить можно и в чох и в сон, — язвительно вмешался рыженький, крючковатый человек ехидной наружности. — В политике нужна не вера, а расчет, учет и умение угадывать события... Предвидеть нужно.
— Товарищи! — воскликнул Евсей, поднимая кружку, — я поднимаю тост за светлое будущее революционной России.
Какой-то человек встал с кружкой в руке и запел недурным, простонародным, русским тенорком:
Славное море, священный Байкал!
Славный корабль — омулевая бочка...
Песню тотчас же подхватили за другими столами. Она ширилась и росла От все новых, вливающихся в нее голосов. Для бывших ссыльных и каторжан это была родная, любимая песня, будившая в них романтику воспоминаний о тюрьмах, цепях, побегах и революционных приключениях.
Долго я звонкие цепи носил,
Долго бродил по горам Акатуя...
Старый товарищ бежать пособи-ил...
Песня вразброд перекатывалась под старинными закоптелыми сводами средневекового здания, переливаясь из одной комнаты в другую.
В раскрытые узкие, длинные окна, в расстворенные настежь полукруглые тюремные двери было видно безграничное море, тихо плескавшееся под светом заходящей красной луны и мерцающих далеких звезд.
Ленька, пригорюнившись, как старичок, сидел на набережной против «Золотого дома» и, подперев ручонками подбородок, смотрел в лазурную морскую даль. Утро было прелестное. Чуть-чуть дышавшее море нежно и незаметно сливалось с хрустальным, небом. В другое время Ленька носился бы по набережной, гоняя обруч или играя с хозяйской собачонкой, но теперь почему-то скучал. Заслышав шаги, обернулся и тотчас же улыбнулся, не меняя задумчивой позы: по набережной шел Евсей в своем вечном сером костюме. Ленька любил Евсея, а после рассказов о Ледовитом океане считал его героем.
Евсей сел рядом на каменную тумбу и, набивая трубку, спросил:
— Что ты такой печальный, Ленюха?
— Так. Думаю, — вздохнул ребенок.
— Думаешь? Раненько! О чем же?
— Обо всем: зачем я родился? Зачем мы здесь?
— Человек родится для счастья, как птица для полета, Леня. Живете вы здесь потому, что мама твоя больна.
- Это я знаю, что больна, а зачем мы все-таки живем здесь, а не в России? — упрямо допытывался Ленька. — Отчего мама больна? Когда она выздоровеет?
- Об этом знают доктора. Отец дома?
- Отец, он с мамой к доктору поехал... И дядя Митя и дяди Митина жена — все уехали. Доктор маму постукает молоточком и отпустит в Россию. Мы в Россию сегодня уезжаем: папа деньги получил и чемодан приготовил.
- Вот как! Прекрасно! Радоваться надо, а ты сидишь и думаешь.
— Скучно мне оставили одного... Папка злой сегодня. Маму медведицей назвал за то, что она людей боится. Разве медведица боится людей?
— Всяко бывает, Леня. Я одну медведицу знал, так она очень даже людей любила. Хочешь, расскажу тебе про медведицу Эсерку.
Ленькина рожица расплылась с солнечную улыбку. Он ближе подвинулся к Евсею.
— Интересно?
— Очень.
Евсей раскурил трубку, выпустил дым и, как все хорошие рассказчики, выдержал паузу.
Из кабачка доносились трепещущие звуки мандолины, сливавшиеся с тихой музыкой моря.
— Вот видишь ли, жил я однажды в ссылке, в Сибири, в глухой деревушке, на берегу реки Лены. Глушь страшная, кругом лес еловый да кедровый, — тайга называется, а в лесу медведей — сколько угодно. И по-дарили мне охотники маленькую живую медведицу, — щеночка медвежьего. Товарищи мои были все ссыльные, партийные люди. «Определили» и медведицу в партию: Эсеркой назвали. Так ее все и привыкли звать. Жиля мы всей компанией в деревенской мужиковой избе. Эсерку я очень любил, кормил овсянкой, молоком, ягодами; а кедровые орехи как любила — страсть! Так и щелкает, бывало, только шелуха летит. Играл с ней, всяким штукам выучил: и как баба за водой идет, как ребятишки горох воруют — все знала. Ночью спала рядом со мной на полу. Вся деревня к ней привыкла: кличут ее, бывало, как собачонку, и каждый погладит, поласкает, кусочек даст. Выросла, брат, эта самая Эсерка в один год — пребольшушая медведица. Но никто ее не боялся, и никого она не трогала, — ручная стала. Жила на дворе под навесом, на сеновал залезет или по двору гуляет. Косолапая такая, пятки у нее, как у человека; наука поэтому стопоходящими медведей называет. Неуклюжая, но, брат, ловкая была: на дерево или на столб залезть — это ей раз плюнуть. Бороться очень любила — русско-швейцарской борьбой. Всякий, кто, бывало, зайдет к нам, непременно с ней в обнимку бороться свяжется. Силища у нее, конечно, медвежья была, только хитростью и клали ее — ножку подставляли, и тогда от нее поскорее удирали: сердилась, когда не ее верх был. А так — добрая. Меня любила— как родного брата. И вот представь, вышло от начальства распоряжение — перевести нас всех на жительство и уездный город на Лене, не больно далеко от деревни. Пыла нам от этого большая радость: все-таки, хоп» и паршивый, а городишко, — ведь в деревне жизнь треугольная. Но как Эсерку с собой довезти? Решили потихоньку взять ее на пароход. Одели деревенской бабой — в сарафан, в кофту, платок на голову повязали, на морду пониже спустили. Когда шли по мосткам на пароход всей партией, ее в середину затолкали; она и прошла рядом со мной, как баба. А на пароходе матросов угостили, они ее в трюм спрятали. Вечером приехали в город и опять таким же манером в бабьем платье на берег вывели. Посадил я Эсерку рядом с собой на извозчика, морду ей платком повязал. Извозчик в потьмах и не заметил, кого везет. Покуда ехали по грязной дороге, все было хорошо, а как выехали на бревенчатую мостовую, задребезжала пролетка по горбылям, затрясло нас, — Эсерка испугалась, да и рявкнула по- медвежьи. У лошади хвост — елкой, извозчик обмер, пролетка в канаву, лошадь с одними передками на горизонте, мы с извозчиком в луже, а Эсерка — на фонарном столбе.
Ленька засмеялся весело. Евсей, довольный, выколотил трубку и снова набил ее. Волны лениво лизали камни набережной у ног собеседников. Пахло вкусным запахом моря, одноцветного с небом. Кругом было столько приторно-нежной красоты. Рассказ Евсея о севере, тайге и ссылке казался Леньке сказкой. Он погладил Евсеево лицо пальцами, дернул за рукав.
— Дальше, дальше!
Опять заиграли что-то печальное на мандолине.
Евсей продолжал:
— Ну, тут народ сбежался. Явилась полиция. В часть! Разобрали дело и присудили Эсерку пристрелить и из ружья. Самому мне это сделать приказали. Отвел я ее на глухой берег. Обнял, поцеловал в морду и говорю: « Прости, Эсерка, не моя вина!» Нацелился в ухо; она думает, что я с ней играю, мурлычет этак ласково, дружелюбно. Выстрелил и убил ее наповал. Потом упал на нее и так-то плакал, коровой ревел.
Евсей увлекся рассказом, вспоминая прошлое, и не заметил мрачности своих воспоминаний; ему казалось, что рассказ его забавен, но Ленька, потрясенный неожиданным концом рассказа, молча вскочил с камня, добежал до крыльца «Золотого дома» и спрятался за ствол дерева. Евсей удивился странной выходке ребенка, подошел к нему и погладил по стриженой круглой голове. Ленька, прижимаясь лицом к дереву, горько и беззвучно плакал о несчастной медведице.
К «Золотому дому» подъехал парный экипаж, и из него вылезли Валерьян с Наташей, Митя и Анна.
— Ба! — весело сказал Евсей. — Мне все известно. В отъезд собираетесь?
— Сейчас же после завтрака, — озабоченно отвечал Валерьян, — еду в Россию с Ленькой. Наташу врачи не отпускают, оставили здесь еще на год...
Губы Наташи дрогнули. Она хотела что-то сказать, но только рукой махнула.
— Конечно, на первом плане должно быть ее здоровье, — деловито сказала Анна. — С ребенком какое леченье!
Ленька стоял за деревом и смотрел оттуда большими синими глазами.
Наташа подошла к нему, подняла на руки и молча прижала сына к груди. Ленька обвил ее шею ручонками, хныкая.
— Не плачь, — сказала она с неожиданной твердостью. — С папой поедешь, а мне нельзя. Пойдем! — и увела его в комнату.
На пороге появился Антонио, знаками приглашая всех в столовую.
За завтраком почти никто не ел, разговор не вязался.
— Я поеду вас провожать до Вентимильи, — заявил Евсей. — Избавлю от таможенных хлопот. Проводил бы и до Вены, будь у меня франков побольше.
— За это спасибо. Трудно ехать без языка, да и на душе словно камень лежит: сам не знаю, хорошо ли делаю, что оставляю ее здесь,.. Какое-то скверное предчувствие. Ведь, если бы она была как все, но я знаю, что Наташа изведется от тоски, никакого толку от лечения не получится, а с другой стороны — как докторов не слушать? Вся ответственность на мне будет. Вот сижу и думаю: не послать ли к черту весь их консилиум и уехать всем вместе? Наташа, — вдруг вскрикнул он с надрывом,— уедем! Больно мне оставлять тебя.
— Вы с ума сошли, — возразила Анна. — Только расстроете ее напоследок.
— Не дело, — подтвердил, заикаясь, Дмитрий. — Ведь она не одна остается. Пока мы с ней побудем, а потом Костя подъедет.
— Не надо нервничать. По-моему, если лечиться, так уж лечиться, — успокаивал Евсей. — Лето проведет она с родными, да и я наведываться буду. Зачем ты сбиваешь с толку женщину? Многие здесь годами без родных живут. Ну, поскучает немножко, а уехать, не долечившись, — потом начинай сначала, где голова торчала. Куда ни кинь — все клин.
— Валечка, — сдержанно вмешалась Наташа, — успокойтесь и не бойтесь за меня. Я уже решила. Поезжайте!.. Отвезите Леню к бабушке, а сами нацравляйтесь в Петербург. Вам нужно серьезно работать, все остальное — пустяки. Вы на целые годы забросили из-за меня работу. Так нельзя. Не бесконечно же я буду лечиться! Ведь только еще год, один последний год — и я буду навсегда здорова.
— Но ребенок? Хоть бы ребенка оставили.
— Вот именно ребенка-то доктора и требуют удалить, — возразила Анна.
— Лучше всего бы и вам здесь остаться! — посоветовал Митя.
— Я не могу не ехать! — в отчаяньи вскричал Валерьян. — А она — если поедет, опять заболеет. Останется — с ума будет сходить... Поймите же, что мы жить друг без друга не можем. Вот чего не учитывают доктора. У меня здесь, в груди, какое-то тяжелое предчувствие. Кажется, будто кто-то шепчет: не надо ее оставлять, оставишь — потеряешь. Кто знает? Может, доктора в своих интересах говорят, чтобы только деньги вытягивать. О, я знаю этих европейских ремесленников! Бездушный народ!
И, глядя на Наташу глазами, полными слез, стал умолять ее:
- Поедем! Через год можно ведь опять в Давос...
При упоминании о Давосе Наташа содрогнулась: - Нет, — твердо сказала она, покачав головой, — я решила.
На момент в лице и голосе Наташи мелькнул оттенок упрямства, напоминавший ее властную мать.
Долго спорили, наконец Валерьян выдохся и печально умолк.
Вошел Антонио и ловкими, мелкими жестами объяснил, что экипаж готов.
В коляску сели Валерьян с Ленькой. Напротив, на передней скамейке, поместился Евсей.
— Скорее! — сказала Наташа. — На вокзал провожать не поеду.
— Дальние проводы — лишние слезы, — подтвердил Евсей. — Не волнуйтесь, доставлю ваших путешественников в лучшем виде, в Вентимильи сам посажу в беспересадочный поезд.
Валерьян в последний раз поцеловал жену, наклонившись с коляски. Наташа обняла Леньку. Он беспечно вертел стриженой головой в соломенной шляпенке, довольный предстоявшей поездкой на лошадях.
У Наташи было очень серьезное, как бы застывшее лицо, но ни слезинки не выкатилось из глаз.
Экипаж тронулся шагом. Дмитрий и Анна остались у крыльца, Наташа пошла рядом по тротуару. От «Золотого дома» нужно было ехать узкой набережной, выходившей на шоссе.
— Да поезжайте же скорее! — повторила она нетерпеливо. остановившись на тротуаре.
Извозчик пустил лошадей тихой рысью. Валерьян и Ленька, обернувшись, помахали ей шляпами.
Наташа побежала за экипажем, и тогда слезы покатились градом по щекам ее.
Когда коляска скрылась за поворотом, Валерьян в тревоге и отчаяньи еще раз оглянулся, но никого не видно было на ровном, как скатерть, шоссе.
VII
Возвратись из-за границы в Петербург, Валерьян с жаром принялся за работу. Между тем для художников реалистической школы, к которой примыкал Валерьян, наступало трудное время: за годы его отсутствия выроло еще прежде начавшееся течение в искусстве, совершенно отвергавшее реализм, и это течение сделалось модным, отвечавшим новым настроениям публики - ценителей» искусства и покупателей картин. Теперь художники писали призрачные, истощенные, болезненно - зеленые тела искривленных женщин с грифом скрип» и взамен головы или черепным оскалом вместо улыбки. В живопись вошел призрак умирания, вырождения, бреда, безумия: это вызывало недоуменный интерес к новой, загадочной школе.
В моде были странные настроения мрачных, болезненных предчувствий; высшая часть образованного класса, для которого в сущности только и существовало га кое «аристократическое» искусство, требовала от художников, музыкантов, писателей новых мотивов, близких ей. Не известно было — спрос ли породил предложение, или художники чутьем угадали настроение упадочничества, к которому пришло фешенебельное общество, но художественные выставки и репродукции иллюст-рированных журналов в момент возвращения Валерьяна были заполнены загадочными, непонятными, бредовыми произведениями молодых художников, как бы возненавидевших жизнь и возлюбивших смерть.
Успех этих неприятных, умышленно несимметричных произведений, поднимавших бунт против реализма в живописи, показывал, что новые художники отражают нечто действительно существующее в настроениях общества, что они, как барометр, означают близость резкой перемены в погоде.
Рядом с ними реалистическая школа художников казалась хотя еще сильной, но устаревшей, не отвечавшей настроениям приближающейся новой эпохи. Солнце, тепло, жизнь и радость красок прежних художников уже не совпадали с настроениями уныния и страха; как бы в предсмертной тоске метались души людей, потерявших спокойный аппетит к жизни: от новых картин веяло запахом увядания, тления.
Широкая публика не понимала этих произведений, пресса издевалась, но все невольно занимались тем новым и зловещим, что так быстро появилось на горизонте и искусства. Отвратительные, неживые образы, тайно соответствовавшие внутренней гнилости, которую чувствовало до и их пор жизнерадостное образованное обще-ство, но скрывало ее, как секретную болезнь. Никому не хотелось оглянуться на искусство вчерашнего дня, чем еще так недавно увлекались и наслаждались.
Эти новые настроения сказывались не только в искусстве и литературе, но и в повседневной жизни. Никогда еще в столице не было такого снобизма и обилия кутящей публики. Всюду деятельно работал новый вид богатых кабаков, где рекой лилось шампанское, танцевали танго, звучали томительно-грустные или бесшабашно-прощальные романсы и «песенки Пьеро». Расплодились театры фарса с полным обнажением женского тела и совершенно скабрезным содержанием. Нравы упали катастрофически: интеллигентные дамы и барышни напивались допьяна, отдавались случайно, кому попало, и даже занимались проституцией — не от нужды, а за наряды, за красивую шляпку, за перо на шляпке. С вершин недавнего идеализма жизнь внезапно покатилась вниз, в примитивную, пошлую плоскость. Казалось, что все лихорадочно спешат в самой грубой форме насладиться жизнью в последний раз, как бы перед надвигающейся катастрофой, как будто все утехи и радости должны были скоро прекратиться.
Атмосфера предчувствий успешно поддерживалась искусством и литературой. На серьезной сцене шли «пьесы настроений», символически изображавшие людей пониженной психики. В литературе было то же, что происходило в кабаре и фарсе: царила «половая проблема», заслонившая собою все остальное.
Разгул беспричинного отчаяния, чувствовавшийся в лихорадочном темпе мирового города, можно было определить известным изречением: «Хоть день — да наш!» или: «После нас — хоть потоп!»
Валерьян редко появлялся на пирушках художественной богемы, где преобладала молодежь, начинавшая свысока смотреть на «стариков». Выставив мелкие, хотя и мастерски написанные эскизы, он значительно уронил и без того потускневшее свое имя. От него долго ждали — с чем он выступит в такое переходное время, а художник отделался красивыми пустячками, повторением пройденного. Это развязало языки и перья газетных обозревателей. На Валерьяна перестали надеяться, а ревнивые молодые соперники стремились затушевать, похоронить, заслонить его собою, развенчать даже прежний заслуженный успех. По поводу его новых работ вспоминали старые, недоумевая, почему они когда-то нравились; теперь не находили ничего особенного даже в лучших, нашумевших произведениях Валерьяна, л to, что он выставил, считали возвратом назад, оговариваясь, что если это не закат таланта, то во всяком случае временная усталость.
Упадок душевных сил чувствовал и сам художник.
Его преследовал мучительный, страдальческий образ Наташи, ее огромные, печальные глаза, полные почти неестественной, страдальческой красоты. Написав ряд незначительных вещей «для денег», он работал теперь по памяти над ее портретом, но не хотел его ни выставлять, ни показывать кому- либо: писал «для себя», упивался собственными страданиями.
На холсте ее лицо и головку он оставил едва очерченными, чуть коснувшись кистью, но всю силу мастерства и вдохновения вложил в изображение глаз. Эти глаза все еще оставались загадкой для него: их сложное и таинственно-глубокое выражение непонятно было ему; с полотна смотрел «нездешний» печальный взор, «не от мира сего». Казалось, что глаза смотрят не с портрета, а откуда-то из неведомо-далекой страны. С каждым сеансом он усложнял их выражение, добиваясь понять и выразить все, что в них было загадочного и столько лет непонятного для него.
Часами стоял он перед мольбертом в запертой на ключ мастерской и мучительно смотрел в созданные им необыкновенной красоты и силы глаза. Он сам не знал, что они выражают и чего с таким упорством доискивается в них.
Но не мог угадать художник самого главного и простого, таинственной пеленой лежавшего на этих прекрасных глазах, не мог найти даже названия неуловимому их свойству и часто, в отчаяньи склонившись на колени перед своим незаконченным и им самим не разгаданным созданием, терзался и плакал.
Ранней весной он, подавленный внешним неуспехом и внутренне опустошенный, уехал в Крым, чтобы уединиться в глухом углу природы, в забытом и заброшенном своем доме. Художник потерял себя и тот путь в жизни, которым шел до этих пор. Ему казалось, что он уже не напишет ничего хорошего, что изболевшая душа его надолго, и быть может навсегда, умерла для искусства. Являлась мысль о самоубийстве, но останавливал грустный, укоризненный образ Наташи; все зависело от нее: если она вернется здоровой, тогда он воспрянет духом.
В Севастополе оставил багаж на хранение и с альпийским мешком за спиной, в плаще, гетрах и с палкой в руке дошел до знакомой харчевни, стоявшей на шоссе южного берега около горной расселины, где была ему известна вьючная дорога «Шайтан-мердвень», или «Чертова лестница»; этим путем можно было пробраться в долину, пройдя ущельем всего только семь верст.
В теплую весеннюю ночь слез около харчевни. Против нее у подножия горы терялась в кустах знакомая тропинка. Было темно, но он хорошо помнил дорогу, Между двух отвесных гор виднелась расселина, напоминавшая седло: здесь тысячелетия назад, еще во время переселения народов, вырублена в скалах знаменитая историческая «Чертова лестница». Вероятно, это был естественный путь, прорытый дождевой водой в доисторические времена, но его использовали, вырубили огромные ступени, а татары издавна чинили и поддерживали для своих надобностей путь великого переселения. Путеводным признаком всегда служила одинокая сосна, росшая на неприступной скале и видная издалека. Валерьян безошибочно попал на «Шайтан-мердвень» и долго поднимался по высоким ступеням при помощи своей альпийской палки. Сосна сначала была высоко над го-ловой, потом наравне с ним, наконец оказалась внизу, а до вершины еще было далеко. После часа трудного пути» тяжело дыша и обливаясь потом, путник выкарабкался на гребень горы, очутившись на небольшой каменной площадке. Здесь он сел, чтобы перевести дух. В темном, небе горели крупные звезды. Кругом стоял вековой' буковый лес, узкая тропинка шла между высоких деревьев, спускаясь медленным, едва заметным уклоном.
Валерьян взглянул вниз: пройденный путь казался пропастью, на дне которой едва белело шоссе, харчевня со своим огоньком походила на игрушку, а еще ниже при свете ярких звезд лежало беззвучное ночное море. Он вынул из мешка недопитую бутылку красного вина, выпил все, съел кусок хлеба и прилег на гладком камне, еще теплом после жаркого дня. Сердце его тяжело билось, во всем теле была усталость. Долго смотрел на звезды и вдруг заснул.
Ему снилось, что он взбирается на высокую гору, с трудом одолевает каменистые ступени, забрался на самый верх, оглянулся и сам удивился: когда это он успел подняться на такую высоту? Из пещеры вышла необык-новенная красивая девушка в серебряном платье невиданного покроя, но ему показалось, что он знал –её прежде. — Я давно уже люблю тебя! — сказал он красавице,— и давно ищу по всей земле! — Я жду тебя!— тихо ответила девушка. — Идем!
Они вошли в отверстие под горой и оказались в большой сталактитовой пещере, освещенной алмазами, которыми были осыпаны низкие своды, как звездами. Гам сидел старик в алмазном венке на седой голове и вслух считал золотые монеты, бросая их горстями из мешка в открытый сундук.
— Миллион! — смеясь крикнул он, закрывая, крышку, в то время, когда девушка ввела художника в пещеру. Алмазы падали и катились, отрываясь от венка, но на их место выступали новые.
— Это слезы! — сказала девушка: человеческие слезы: освободи меня отсюда!
За спиной старика стояли еще две девушки: одна в золотом платье, другая в бриллиантовом.
— Вот мой жених! — сказала девушка, подводя к старику Валерьяна.
— Знаю! Он высоко летит! может еще и не тебя возьмет!
— У меня их три... — обратился он к пришельцу,— берите любую, но только с условием... отдать ей всю душу: души у них нет!
— Я люблю серебряную! — сказал Валерьян,
Старик засмеялся.
— Убил бобра! Ну, ступайте, только выше поднимайтесь...
Валерьян взял девушку за руку, вышел из пещеры. Какая-то сила подняла их, и они полетели, обнявшись. Внизу стоял старик и, хохоча, кричал: Душу-то, душу потерял!..
Валерьян испугался и вдруг почувствовал, что с девушкой падает вниз, а внизу чуть виднеется море. Сердце no сжималось, как в железных тисках. «Это смерть! подумал он во сне, — нужно сделать усилие и проснуться, а иначе умру!» Напрягая всю силу воли, чтобы задержать в себе жизнь, выпустил девушку из рук и медленно с тал опускаться все ближе к земле. Старик виднелся па прежнем месте и продолжал хохотать так страшно, что у Валерьяна волосы зашевелились на голове.
— Ты уже умер! доносился голос старика, душу отдал! душу потерял!..
Валерьян проснулся. Он лежал на скале, на самом краю ее, над пропастью. Необычайно яркая луна освещала лес, горные скалы и беззвучное море у подножия гор. Из леса доносился истерический клохчущий хохот: это кричал филин.
Художнику казалось, что никогда еще он не видал такой яркой лунной ночи: светло, как днем, от деревьев простирались черные тени, каждый лист видно, и такая тишина, что посеребренный лунным светом лес стоял как зачарованный.
Валерьян пошел по знакомой дороге. Она заметно спускалась все ниже и наконец привела к узкой, глубокой ложбине между отвесных скал. По дну ложбины бежал ручей, иногда свергавшийся по уступам мелодичным водопадом. Тропинка шла над краем обрыва, а над головой высились причудливые скалы, покрытые толстыми ветвистыми деревьями.
Луна становилась все бледней и прозрачней, потянуло холодком; близилось утро.
Появился нежно-матовый просвет между двух конусообразных гор, снизу доверху заросших кудрявым лиственным лесом, и вдруг за поворотом открылась ши-рокая, зеленая, ласковая долина. Она вся застилалась густым, как вата, тяжелым туманом, из которого высовывалась голубая голова тонкого минарета мечети. Вдали, на пригорке, у подножия зеленой лесистой горы краснела черепичная кровля серого каменного дома с крытым балконом в верхнем этаже и двумя стройными пирамидальными тополями, доросшими до кровли за время скитаний Валерьяна.
Он остановился на спуске горы и долго смотрел на свое одинокое, давно покинутое жилище.
Туман лежал низко на земле, расстилаясь белыми волнами, и вся овальная долина казалась призрачным озером, затопившим чуть заметные деревни на пригорках по краям ее. Кое-где виднелись татарские кладбища и высокие скифские камни, стоймя врытые в землю, — могилы древних скифских богатырей.
По этой дороге, которую только что прошел он, тысячелетия назад шли миллионные толпы переселявшихся народов, в поисках призрачного счастья, устилавших могилами таинственный путь свой. Быть может, здесь же будет и его могила — неудавшегося художника, слава которого мелькнула и погасла так быстро: что мог, он отдал искусству и — скромно отошел в забвенье. Талант его преждевременно угас. Почему? Что случилось с ним? Исчерпался материал? Нет. Появилось новое течение в живописи? Какие пустяки! Валерьян погиб из-за женщины, которую любил и хотел спасти от смерти. Для любимой пожертвовал он своим талантом, успехом, карьерой, добровольно бросил кисть и палитру, ибо в душе не осталось более места для вдохновения. Все силы, все чувства отнял у искусства и потратил на любовь к ней, на борьбу за ее жизнь.
Правильно ли он поступил? Конечно, неправильно. Жестоко и нечестно поступил с собой. С самой первой встречи с Наташей, связавши свою судьбу с ее судьбой, он встал на этот могильный путь. Она родилась в «темном царстве», враждебном ему.
Валерьян — выходец из мира труда и бедности, у него — наследственно сильные руки, созданные для молота и плуга, но получившие в дар от судьбы кисть и палитру. Его путь — свободный и трудный под открытым небом живой жизни, посылающей не только лучи славы, но и грозу неудач. Л она — оранжерейный цветок, тянувшийся к солнцу и неспособный к жизни вне оранжереи: не освободил он ее, а оторвал от корня. Вот в чем была ошибка.
Живое лицо Наташи, фантастический портрет и какой то им виденный сон слились в его воображении в яркий и страшный образ. Она — такая хрупкая, прекрасная болезненной красотой умирания, а он — художник ярких красок и сильных тел — полнокровный талант: как, н сущности, не схожи они друг с другом! Вспомнилось, как на их свадьбе старый друг-художник, бывший учитель, шутливо декламировал, глядя на «молодых»:
В одну телегу впрячь не можно
Коня — и трепетную лань.
Валерьян медленно спускался с гор в безлюдную, словно вымершую долину. Из-за зеленых вершин поднималось солнце.
Туман редел и клочьями полз по лугам, как ранней весной тающий снег на полях. Все кругом казалось призрачным, принимало изменчивые, фантастические очертания: в горы поднимались полчища вооруженных людей в серебряных шлемах, с копьями и алебардами на плечах, беззвучно во весь опор летели воины на белых конях, тянулись бесконечной вереницей арбы, запряженные большими белыми быками, — словно все ещё шли тени давно ушедших народов. Чудилось, что вместе с туманом могут растаять белые сакли деревни с голубой церковкой и тонким минаретом, а фантастическая вилла художника с колоннами и черепичной кровлей исчезнет, как мираж, как случайная игра света и теней в нежных лучах жемчужного крымского утра.
Весной Валерьян стоял на перроне севастопольского вокзала в тесной толпе встречающих, искал глазами Наташу. Прошли последние пассажиры, толпа стала ре-деть, а ее не было.
Вдруг за спиной его раздался знакомый, глубокий голос:
— Куда смотришь, чертушка?
Валерьян обернулся: перед ним стояла Наташа в дорожном костюме, похудевшая, загорелая.
Он кинулся к ней в чрезвычайном волнении.
— С каким поездом ты приехала?
— Часом раньше.
Она улыбнулась, но в глазах, странно изменившихся, слегка вышедших из орбит, было что-то новое, напряженное.
Дорогой с несвойственным ей оживлением Наташа рассказывала, что всю ночь не спала в поезде, под утро только заснула и видела его во сне.
За городом, в широкой крымской степи дул теплый южный ветер, бархатный и ласкающий, но Наташа всю дорогу закрывала лицо муфтой.
— Что с тобой?
— Мне больно от ветра, он царапает мне щеки.
— Не понимаю: такой приятный, теплый ветерок!
— Но этот ветерок сдирает мне кожу с лица, — раздраженно возразила Наташа. — Такое мученье! Надо поднять верх.
Подняли верх экипажа, закрылись кожаным фартуком, как от дождя, хотя был теплый, солнечный верх.
Валерьян никак не мог понять, что такое с Наташей» спрашивал тревожно:
— Здорова ли ты?
— Совершенно здорова, но у меня зубная боль по всему телу, зуд в коже...
—- Давно?
— Нет, вот только в дороге стала чувствовать. Да пустяки: пройдет! От чахотки я совсем вылечилась... вот разве карманная. Как ваши дела, Валечка?
Валерьян стал говорить о своих работах, но Наташа плохо слушала, закрываясь от ветра.
К обеду приехали в долину. Фальстаф, завидев экипаж издалека, бросился встречать хозяйку к нижним воротам участка.
Сели обедать на террасе, густо обвитой плющом.
Подавая обед, жена Ивана участливо спросила:
— Поправились, Наталья Силовна?
— Поправилась, Паша.
— Ну, слава те, господи. А что это у вас с глазами-то?
Иван кашлянул и строго посмотрел на жену.
— С дороги, видно, — перебил он Пашу. — Вам отдохнуть надо, Наталья Силовна.
Заговорил о хозяйстве, сколько чего посадил и посеял.
После обеда Валерьян принудил жену лечь наверху отдохнуть, сам проводил ее и затворил дверь за нею. Иго тревожило, что глаза Наташи странно изменились, выкатились из орбит, и это придавало им трагическое выражение. А что значит зуд в коже по всему телу? Даже легкий ветерок причиняет ей боль. Не заболела ли и дороге? Часа через два он тихонько заглянул в ее комнату.
Наташа сидела за столом перед маленьким зеркальцем и внимательно рассматривала свое отражение.
— Отдохнула?
— Нет, и не ложилась: не хочется спать, кожа зудит, да что-то горло припухло. Вот здесь, внизу, около ямочки, как будто душит меня кто...
Валерьян внимательно осмотрел ее шею и не нашел никакой опухоли.
— А вот здесь, видите?
— Может быть, и припухло немножко, не знаю. Кажется, что это у тебя и прежде было...
Наташа помолчала, видимо волнуясь и собираясь что-то сказать.
— Вероятно, ерунда. Дело не в этом... С пустяками пристаю... Смешная я! Ведь я очень смешная и жалкая? Скажите правду!
Голос Наташи звучал странным волнением.
— Ничуть ты не смешная.
— Но отчего же все надо мной смеются?
— Никто не смеется.
— Нет, смеются. Когда ехала сюда, в вагоне соседи потихоньку шептались обо мне и смеялись. Кондуктора тоже подглядывали за мной, качали головами и хихикали. А пассажиры все были в заговоре против меня. Пересела в другое купе, и там то же самое. Все от меня сторонились, говорили шепотом, взглядывали украдкой? и смеялись. Потом всю дорогу следили за мной неизвестные люди... Я очень боялась их.
Наташа говорила бессвязно, прерывающимся, взволнованным голосом, не поднимая своих огромных, выпуклых глаз и дрожащими руками ощупывая горло.
Валерьян затрепетал. Что-то жуткое почудилось ему.
— Голубушка, да ведь это тебе примерещилось!
— Не понимаете вы меня, Валечка, — раздраженным тоном сказала она, словно не Наташа это была, а какая-то новая, чужая женщина. — Разве вы не замечаете, что и здесь надо мной потихоньку смеются Иван и Паша? Отойдут в сторону, смотрят на меня и смеются.
«Мания преследования», — подумал Валерьян.
Художник не помнил, что он потом говорил и делал. Наташа дико смотрела на него своими теперь страшными глазами: из этих безумных глаз текли медленные, крупные слезы.
Он весь дрожал от ужаса, в голосе звенели рыдания. Клятвенно убеждал Наташу, что никто ее не преследует, что Иван и Паша любят ее: он их сейчас позовет, и они подтвердят, что никогда не смеялись над ней. Выскочил на лестницу и закричал таким раздирающим душу голосом, что казалось — случился пожар или он сошел с ума.
Прибежал Иван, и оба убедились, что у Наташи бред. Иван лучше Валерьяна успокоил Наташу, заболевшую новой странной болезнью, уговорил лечь в постель и должен был успокаивать хозяина.
— Доктора надо. Доктора сию же минуту! — с безумным возбуждением шептал Валерьян Ивану. — Голубчик, скачи за доктором!
— Не надо доктора, — спокойно возразил Иван: — к доктору ехать десять верст; покудова приедет, ночь будет. Тут, Валерьян Иваныч, лекарство не поможет, тут СПОКОЙ нужен... Утречком рано, коли не будет легче, съезжу, а теперича надо, чтобы уснули оне... Не пужайтесь, Валерьян Иваныч: може, сколь ночей не спали Наталья Силовна, от думы это. Успокоится, заснет, и все пройдет без лекарства...
Разумные речи, а главное — уравновешенный вид и тон Ивана успокоительно подействовали не только на издерганного художника, но и на больную: она покорно легла в постель и скоро заснула.
Валерьян всю ночь просидел подле нее; ушел только под утро, когда его сменила Паша. Наташа спала глубоким сном.
Утром она пришла в себя и говорила разумнее; на вопросы о том, что с ней было вчера, не отвечала ни слова. Решили немедленно поехать в Москву к знаменитому профессору по нервным болезням.
Не доезжая до Харькова, Наташа простудилась, слегла в вагоне: из горла показалась кровь. Дальше везти ее в таком состоянии Валерьян побоялся; они очути-лись в Харькове, в номере большой гостиницы. Наташа почти без сознания лежала в постели, в груди хрипело. Валерьян сидел у ее изголовья в ожидании доктора, вызванного по телефону.
Доктор скоро явился. Это был молодой профессор, лично знавший художника.
Вычлушав больную, он определил у нее плеврит, велел прикладывать холодные компрессы и сказал, что ей придется месяц пролежать в постели; только тогда можно будет перевезти больную в его собственную лечебницу.
Валерьян приуныл.
— Но это еще не все: нужно исследовать сердце, — добавил доктор.
Он стал выслушивать сердце Наташи, нахмурился, но тотчас же, приняв добродушный вид, начал шутить:
— За легкие вам, сударыня, можно поставить четверку: плеврит — вещь обыкновенная; но за сердце — двойку! Больше двойки никак не могу поставить.
Он приподнял веки ее расширенных глаз, пощупал маленькую опухоль горла и многозначительно промычал: «Гм!»
Потом пригласил художника в смежную комнату, плотно притворив двери, и, усадив его против себя в кресло, сказал:
— Вот что: туберкулез зарубцевался и не представляет опасности, плеврит вылечим, но у нее базедова болезнь в самом начале. Болезнь эта иногда проявляется в слабой степени и с нею живут, не замечая ее, целые годы. Беда в том, что у вашей жены она развивается бурно, заставляет усиленно работать сердце. В конце концов сердце будет измучено.
— Что это за болезнь?
Доктор замялся.
— Это — ненормальность щитовидной железы, слишком усиленная ее деятельность: яд, вырабатываемый ею, необходимый для организма, начинает отравлять весь организм. Опухоль железы давит на дыхательные сосуды, и оттого глаза выступают из орбит.
— Что за причина такой болезни?
— Трудно сказать. Болезнь редкая в России. Бывает природное предрасположение на почве наследственной нервности; для таких неуравновешенных натур достаточно каких-либо нравственных потрясений или продолжительной печали, переживаний длительного страха, чтобы при склонности к меланхолии заболеть ею. Чаще всего заболевают женщины под влиянием какого-нибудь несчастья или горя, например утраты близких. Ваша жена lie была в Швейцарии?
— Только что оттуда приехала.
— Ну вот. При известной склонности к этой горной болезни она там ее и получила. Возможно, что базедова болезнь и прежде была у вашей жены в скрытой форме, а теперь обострилась.
— Какие первые признаки этой болезни?
— Признаки интересные. Болезнь задолго до своего проявления сказывается необычайной красотой глаз, этаким глубоким, прекрасным их выражением. В такие глаза часто по неведению влюбляются, восхищаются ими. А что касается вашей супруги, то они у нее и от природы красивы, в первой же стадии, вероятно, обращали на себя внимание специфическим выражением, которое поэты называют неземным. На самом деле тут ничего неземного нет, а есть болезненное явление, известное в медицине...
Валерьян слушал профессора с жадным, напряженным, горестным изумлением.
Так вот в чем разгадка необыкновенной красоты и загадочной печали Наташиных глаз! Вот то неожиданное и простое, что он всегда чувствовал, но не понимал, над чем мучился и терзался. Вот что он столько лет любил в Наташе — страшный, роковой недуг! Теперь он может завершить ее неоконченный портрет, но — какою ценой?
Отчего обострилась болезнь, скрывавшаяся в Наташе, быть может, всю жизнь? От продолжительной печали, от душевных потрясений? Но не сам ли он причинил их, когда увез ребенка, оставил ее одну в чужой стране, среди чужих людей на целый год тоски и душевных терзаний?
У него вдруг ослабели руки и ноги, сердце так замерло, что едва мог перевести дыхание.
— Осложнения и последствия этой болезни в медицинском отношении еще более интересны, — невозмутимо продолжал профессор. — Нервная чувствитель-ность настолько обостряется, что больные начинают чувствовать многое, недоступное здоровым людям: на каком угодно расстоянии заочно чувствуют настроение близких им лиц и даже видят их — в известной стадии развития болезни некоторые, наиболее одаренные от природы, на время становятся как бы ясновидящими. Потом с течением времени повышенная возбудимость, обострение чувств притупляется, является апатия и наконец — слабоумие. Если базедову болезнь запусти. и вовремя не остановить энергичным лечением, то обыкновенно она кончается параличом или разрывом сердца.
— Излечима ли эта болезнь? — побелевшими губами прошептал Валерьян.
— Да. Недуг еще только в самом начале. Можно попробовать лечить электричеством, но это длительно и не всегда дает благоприятные результаты: бывает, что, провозившись с таким паллиативным лечением, только потеряют время, запустят болезнь. Самый лучший и наиболее действительный способ — это операция, удаление некоторой части щитовидной железы, работающей у таких больных, так сказать, извращенно. Операция не тяжелая, но удачно ее делают только очень опытные хирурги: если вырезать больше, чем следует, — наступит безумие, меньше — придется повторить операцию. Сейчас положение осложняется плевритом; необходимо пообождать, пока больная не оправится, но, покончивши с плевритом, после некоторого отдыха, непременно нужно обратиться к хирургу. Везите тогда вашу супругу в Москву или Казань, я ВАМ дам письма к знаменитым врачам. Пока сердце еще достаточно сильно и организм не истощен, операция спасет вашу супругу от тех перспектив, которые я вам нарисовал. Говорю все это с полной откровенностью, потому что в данном случае промедление смерти подобно...
Комната заколебалась и пошла кругом в глазах Валерьяна. Тело обессилело, голова откинулась к спинке кресла. Он хотел прервать речь профессора и крикнуть, что сейчас упадет, что ему дурно, но вместо крика чуть слышно застонал. Затем все исчезло из его сознания, наступила тьма, небытие, беспамятство.
Валерьян послал Силе Гордеичу телеграмму, прося, чтобы приехал кто-нибудь из родных. Он надеялся, что приедут братья Наташи, но приехали Настасья Василь-евна и Варвара, неожиданно вернувшаяся из-за границы. Ничего хорошего для Валерьяна и Наташи не было в их приезде. Настасья Васильевна славилась тем, что любила похороны и держала себя в таких случаях неподражаемо. Тотчас по приезде начала орудовать столь уверенно, что сразу была видна ее опытность в делах приготовления человека к смерти: зятю предложила переселиться в маленький номер, для двух сиделок сняла комнату, смежную с комнатой Наташи, а сама вдвоем с Варварой поселилась рядом. Из комнаты больной велела вынести лишнюю мебель, а высокую кровать с двумя матрацами и горой подушек поставить посредине комнаты: получилось нечто мрачно-торжественное.
В комнате всю ночь горел ночник, дежурили сиделки, сменяя одна другую. В полутьме высокой и пустой комнаты с лепным потолком и опущенными гардинами, обложенная повязками и компрессами, в забытьи, в бреду и беспамятстве, опираясь спиной на пирамиду подушек, в длинной больничной рубахе, с прозрачным, неземным лицом и огромными, как синие чаши, глазами лежала умирающая.
С головы ее сняли роскошные, длинные волосы, и она стала похожа на худенького, бледного отрока, напоминая художнику картины Нестерова.
Иногда ночью во сне она кричала чужим, вибрирующим, жутким голосом, наводя ужас на Валерьяна. Все кругом гробоподобной постели говорили шепотом. Старуха и Варвара в заблаговременном трауре таинственно совещались в своей комнате о предстоящем печальном событии. Только Валерьян не верил в возможность смерти жены, ожидая неожиданной удачи. И эта удача пришла.
Настасья Васильевна, настроившаяся на похороны, была разочарована, когда хмурый профессор, несколько просветлев, заявил, что кризис миновал благополучно и что больную скоро можно будет перевезти в лечебницу.
Туда же вместе с ней переехали ее мать и сестра. Валерьян остался в гостинице, каждый день наведываясь в лечебницу.
Две новые сиделки, приглашенные Настасьей Васильевной вместо прежних, дружили с Варварой, на цыпочках ходили перед старой купчихой, но часто оставля-ли Наташу без присмотра. Она плакала от грубого обращения сиделок и ничего не говорила мужу. Здоровье стало опять ухудшаться. Наконец пожаловалась Ва-лерьяну. Он взволновался.
— Знает ли об этом Настасья Васильевна?
— Я говорила ей. Она и слушать не хочет, души не чает в них. Не замечает, что они изо всех сил ухаживают за ней, а не за мной. Помещица! Окружила себя и здесь приживалками.
— Нужно взять новых сиделок.
Вошла Варвара и, узнав, о чем идет разговор, сказала сестре:
— Будто не знаешь мамашу. Что с ней поделаешь? Я вот и сама больна, лечиться приехала, мужа в нужде оставила, а меня за тобой ухаживать послали. Пойду, пожурю девиц.
— И, не взглянув на Валерьяна, вышла.
— Не понимаю, — развел руками Валерьян, — что они обе против нас имеют?
— Кто?
— Твоя мать и Варвара.
— Как же не понимать? Я и то понимаю: у Вари — зависть давнишняя. Папа на меня столько денег тратит: и по заграницам лечили, и здесь, а ее в черном теле держат.
— Ну, не очень-то много давали и тебе, а здесь я в гостинице за всех и за все заплатил... Без копейки остался...
— Неужели? Это недоразумение. Как же мы теперь будем без денег? Чтобы уволить сиделок, надо расплатиться с ними, а мамаша денег на это не даст.
— Я послал телеграмму в Петербург... На днях переведут. Это все Варвара мудрит.
Наташа лукаво улыбнулась.
— Мне завидует, а вас ненавидит.
— За что?
— За то, что на мне женились... Ведь до нашей свадьбы она вас до небес превозносила, а вы меня, калеку, предпочли. Вот и злится с тех пор.
Валерьян отмахнулся.
— Ерунда! Никаких чувств с ее стороны никогда не замечал.
— Чувств не было, а честолюбие было. Ну, да это старая история, пора забыть.
— Вышла она замуж за знаменитого человека. Отчего же, как только Варвара около нас — как будто в дом змея заползла: вот-вот ужалит?..
— Что делать, Валечка. Надо войти и в ее положение: мужа она любит, а помочь ему не может: родитель гроша для него не даст. Пирогов бедствует. Тут поневоле змеей на всех зашипишь... Ох, Валечка, устала я от этих дрязг, Вот выздоровею — уедем куда-нибудь подальше от родных.
— Ну, а как твой плеврит?
— Подживает. Только доктор требует, чтобы я не волновалась.
— А Варвара нарочно науськивает сиделок, чтобы раздражали тебя. Это ясно теперь. Не известно, кого из нас она больше ненавидит. Тут — не дрязги, а злоба. Она твоей смерти добивается!.. — кричал Валерьян, побледнев и сжимая кулаки. — Девиц этих я сменю, как только деньги получу... Пойду сейчас узнаю, как она объясняется с сиделками. Думаю — врет все!..
Валерьян вышел в коридор и остановился, заслышав громкий разговор в комнате Настасьи Васильевны.
— Денег-то у них нет, мамаша. Имейте это в виду!— говорила Варвара.
Послышался жесткий смех старухи.
— А мне какое дело? Он — муж, должен деньги добывать. Да и Наташе недавно отец перевел; куда дели? Я вот напишу, что даже в гостинице пришлось за зятька платить. Ты ведь по всем счетам отдала.
Ответы Варвары Валерьян не расслышал.
— Сиделки жаловались: очень капризничает сестрица, уволить их собирается, а денег-то и нет.
Старуха опять засмеялась и ответила что-то невнятное.
— Я долг свой исполнила, а распускать капризы тоже нельзя.
— Мученица вы, мамаша! Всегда мне было жалко вас.
Валерьян повернул назад и долго ходил по коридору, взволнованный услышанным. Повторяется старая история. Было ясно, что Варвара «сэкономила» несколько сотняжек за его счет. До чего дошла Варвара! Тут не одна корысть: одновременно она восстанавливает родителей против него и Наташи, клевещет на обоих. Рассказывать об этом больной — значит нанести лишний удар, исполнить затаенное желание Варвары. Но как защитить Наташу от предательства сестры и безумной матери? Нет, он ничего не расскажет ей. Нужно только устранить этих ужасных, быть может подкупленных, сиделок. Придется ждать несколько дней, когда пришлют деньги. Варвара умышленно оставила его без гроша, а теперь они обе хотят насладиться его унижением, да и Наташу унизить. Кто знает, что у них на уме? Может быть, действительно намерены этой мелкой травлей вызвать смертельный исход болезни... Вот в чьих руках жизнь Наташи! А он — бессилен... Попался в расстав-ленную ловушку двух злобных, низких и не совсем нормальных старых баб... Не обидно ли, что они почти совсем его заклевали?
Он долго ходил, обдумывая невыносимое положение.
Вернувшись в комнату жены, Валерьян нашел там высокую старуху в простом ситцевом платье, с морщинистым, добродушным лицом, сидевшую у изголовья больной. Гостья что-то рассказывала, а Наташа слушала, опираясь на подушки и радостно улыбаясь. Лицо женщины напомнило ему нечто знакомое. При входе Ва-лерьяна она почтительно встала.
— Валечка, знаете — кто это? — весело спросила Наташа. — Сусанна Семеновна, мать Евсея! Помните Виллафранку?
Валерьян улыбнулся и, протянув руку Сусанне Семеновне, сказал:
— Я виноват перед вами: должен был сам отыскать вас! Да вот видите — жена хворает!
— Что вы, батюшка, Валерьян Иваныч, до меня ли вам было? Болезнь-то не шуточная. Хорошо, что все обошлось благополучно. Уж я сама, как только узнала, что вы здесь, сейчас же и пришла. Вот с супругой вашей имела счастье познакомиться.
— Мне ваш сын наказывал непременно с вами повидаться, если буду в Харькове. Пишет он вам?
— Пишет постоянно... И про вас писал. Вот только не знаю, как он живет. Не бедствует ли? Здоровье у него плохое. Пишет, что ничего, да ведь материнское сердце не обманешь: чувствую, тяжело ему там, по России скучает. Супруга его померла здесь, на моих руках. Сколько слез да горя было: молодая женщина!
Валерьян вспомнил свое обещание «врать», если встретит мать Евсея, и на вопросы Сусанны о сыне отвечал уклончиво.
Старуха вздохнула.
— Видно, уж не доживу, когда ему можно будет вернуться.
— Доживете, — улыбалась Наташа, — Придет революция — и вернется.
Сусанна Семеновна замахала руками.
— И не говорите!
— Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? — переменил разговор Валерьян.
— Повивальная бабка я, и по массажу в больнице работаю, а дочка моя на медицинских курсах.
— Сколько лет вашей дочке?
— Да уж двадцать. Года через два кончит курс, а теперь у нее летние каникулы, уроков ищет...
Вошла сиделка — сухая девица с колючим выражением лица, удивленно смерила взглядом умолкнувшую Сусанну и сказала холодным тоном:
— Без разрешения Настасьи Васильевны вход посторонним сюда строго воспрещается. Потрудитесь удалиться!
Сусанна Семеновна поднялась в замешательстве, Наташа побледнела.
— Это совсем вас не касается, — резко сказала она сиделке. Голос ее задрожал.
— Нет, касается. Я обязана доложить Настасье Васильевне. Вам от нее нагорит.
— Настасья Васильевна — моя мать, а вы могли бы повежливее разговаривать.
Сиделка презрительно усмехнулась.
— Знаю, что мать. Но если тут будут шляться без разрешения всякие... личности...
Расширенные глаза Наташи засверкали гневом.
— Идите, позовите Настасью Васильевну.
— Вы не можете мне приказывать, — возвысила голос сиделка. — Не вы мне деньги платите, да у вас и нет их. Командуете, а сами нищие!
— Уходите! — твердо сказала Наташа.
— Мы тех уважаем, кто нам деньги платит. У вас нет ни гроша, так и молчите. Нам известно.
Вмешался Валерьян.
— Надеюсь, вы понимаете, что после такого разговора не можете больше ухаживать за больной, — изо всех сил сдерживая себя, спокойно сказал он сиделке. — Сегодня же вас освободят от ваших занятий.
— А это — еще как решит Настасья Васильевна, — отрезала сиделка, выходя из комнаты.
Наташа выразительно взглянула на мужа. Губы ее дрожали.
— Сиделка не свои слова говорит, — в волнении бегая по комнате, крикнул Валерьян: — ее научили, и я знаю — кто!
— Не лучше ли уйти мне? — растерянно спросила Сусанна Семеновна.
Валерьян и Наташа в один голос стали упрашивать, чтобы она ни за что не уходила.
Вошел профессор.
При его появлении все замолчали. Валерьян представил ему мать доцента зоологии Евсея Тимофеева.
Профессор горячо пожал ее руку.
- Знаю вашего сына. Вместе кончали университет. Светлая голова, большой души человек. Больно, что таким людям приходится эмигрировать.
Он сел к изголовью Наташи и, привычно взяв ее руку, спросил:
— Как самочувствие?
Сосчитав пульс, он нахмурился.
— Гм! ничего не понимаю. Что случилось? Вы опять волновались?
Все молчали.
— Вам необходимо полное спокойствие. Надеюсь — не лечебница служит причиной того, что за последнее время замечается ухудшение пульса. Необходимо полное спокойствие, никаких волнений, иначе может быть рецидив. Полный покой! — повторил он, вставая. — Только тщательный уход и отсутствие волнений могут привести вас к выздоровлению.
— Имейте в виду, — строго обратился профессор к Валерьяну, — что у вашей жены есть еще другая, более серьезная болезнь. Предстоит операция. Советую «а лето устроить больную где-нибудь в деревне, в имении, на чистом воздухе, в хорошей обстановке, при умелом и усиленном питании под наблюдением врача. Главное же — покой, во-первых, во-вторых и в-третьих.
Он прописал рецепт и ушел. Валерьян усмехнулся, хотел было пойти за ним следом и открыть ему причину волнений пациентки, но в дверях появилась Настасья Васильевна.
- Что у вас тут еще с сиделкой? — насмешливо спросила она, обращаясь к дочери и как бы не замечая остальных.
- Я отказываюсь от нее, мамаша: она приходит ко мне лишь затем, чтобы говорить дерзости.
— Сейчас был доктор, — волнуясь, говорил Валерьян, требовал душевного спокойствия, а его нет,
Старуха пропустила слова зятя мимо ушей и, усмехаясь, снова обратилась к дочери:
— Ну, матушка, не капризничай. Слава богу, поправилась, так и начинаешь мудрить. Сиделки обе услужливые, старательные, сама вижу, а ты их выводишь из терпения капризами. Надо же и честь знать.
Настасья Васильевна закурила папиросу.
— Впрочем, мне-то что? Как хотите. Коли есть у вас деньги — заплатите ей сто рублей, — по мне хоть сейчас возьмите другую. Я в эти дела не мешаюсь.
Старуха затянулась папироской и вышла большими шагами, с поднятой трясущейся головой, давая понять, что считает разговор оконченным.
Валерьян и Наташа переглянулись.
— Придется ждать, когда мне пришлют деньги, — скрипнув зубами, сказал Валерьян.
— Какой ужас, какой кошмар! — горестно прошептала Сусанна Семеновна. — Неужели мать не понимает, что делает? Знает она, что у вас денег нет?
— Не только знает, но все это нарочно подстроено, чтобы издеваться. Она только тех любит, кто перед ней унижается. Дочь родную ненавидит. Сумасбродная самодурка... Но дело не в ней. Все эти глупейшие козни строит другая, любимая дочь—тигр в юбке.
— Перестаньте, — устало прошептала Наташа. — Что толку изливаться в словах? Сиделку нужно отпустить сегодня же. Но где мы возьмем сто рублей?
— Стойте, друзья! — с внезапным воодушевлением, напоминавшим голос Евсея, воскликнула Сусанна Семеновна. — Стойте, я достану денег.
Она торопливо надела старую соломенную шляпу,
— Но... как вы это сделаете? — удивился Валерьян.
— Уж я знаю как. У меня, конечно, ни копейки, но есть добрые знакомые. У них и займу, сбор сделаю. Ведь ненадолго. Не пропадет за вами. Когда вам вышлют-то?
— Дня через три, а может быть, и раньше.
— Достану! Для вас — дадут. Ведь вас, Валерьян Иваныч, все знают. Всем известно, что сто рублей для вас — пустяк. Но надо же было так случиться. Какой стыд для ваших близких!
— Близкие все и подстроили.
— Заговор... все против меня... издеваются... смеются, — бормотала Наташа, закрывая глаза.
Валерьян в испуге кинулся к ней. Сусанна Семенов на ушла.
Через час она вернулась, вынула из платка сторублевую бумажку.
— И собирать не пришлось. Сразу же дал знакомый доктор: я все ему рассказала. Очень волновался. Кланяется вам, просит не беспокоиться. Вот как люди-то к вам относятся, Валерьян Иваныч!
— Сегодня же возьмем новую сиделку, — облегченно вздохнула Наташа. — Нет ли у вас кого, Сусанна Семеновна?
— А как же, есть, конечно. Про мою дочку-медичку забыли? Она и будет ухаживать — безо всякой платы.
— Ну, бесплатности мы недопустим, — возразил Валерьян. — Но вы, Сусанна Семеновна, выручили нас из большого затруднения. Как гора с плеч. Избавились от этого пошлого черновского кошмара. Вы не знаете: дом Черновых — это бедлам: любой пустяк так запутают, так раздуют, что...
— Да ведь вы друзья моего Евсеши, как же было поступить иначе? Разве я могла?..
Наташа молча потянулась к Сусанне.
Старуха обняла ее, поцеловала в голову.
— Вторая дочка моя.
Наташа, прижимаясь к ней, шептала голосом, прерывавшимся от слез:
— Вы — удивительная. Я не привыкла к доброте. Никогда не знала материнской ласки, у меня не было матери.
VIII
Летом усадьба Константина была замечательно красива Широкий овальный пруд, в который тихо вливалась выросшая осокой и лопухами речушка, лежал, как зеркало, у подножия высокой горы. У плотины работала водяная мельница. Рядом с плотиной стоял низкий, длинным одноэтажный дом с садом, пчельником и лесом за ними. На гору спиралью шла крутая дорога. На вершине горы шумел сосновый бор, а на самом краю ее, над обрывом к пруду, виднелся маленький бревенчатый домик, только что выстроенный.
С горы открывался широкий горизонт: до самого края неба шли ройные поля, покрытые волнующейся рожью, пшеницей, овсами. За сосновым бором белела березовая роща, и опять расстилались поля, уходившие к отдаленным отрогам Жигулевских гор.
Утро стояло теплое, тихое. Из лесу пахло смолой. Пруд горел под солнцем, как расплавленное серебро.
Сила Гордеич в чесучевом костюме, в жокейском картузике сидел на маленькой тесовой терраске домика и созерцал окружающее.
Над прудом в безоблачном небе, распластав крылья, плавал большими кругами коричневый беркут, гоняясь за маленькой птичкой. Она долго ускользала, коршуну не удавалось схватить ее, но наконец он изловчился, поймал добычу и скрылся с нею над лесом.
Силе Гордеичу стало жалко птичку, и было удивительно, почему вдруг явилось такое странное чувство, которого он прежде никогда не испытывал.
Жизнь приближалась к концу; он это чувствовал, заметно дряхлел, ослабевал телом, должно быть поэтому смягчился душой. Не хотелось больше бороться с людьми, участвовать в их нескончаемой сваре, злобе... Хотелось охватить смысл и цель всей жизни на земле, ибо чувствовал Сила Гордеич как хороша земля и как помимо наживания денег бесплодна, безрезультатна его жизнь, как бессилен он при всех своих богатствах сделать хоть кого-нибудь счастливым, зато многих сделал несчастливыми и несчастлив сам. Сила Гордеич уже с месяц жил в этом домике, как пустынник — в гостях у своего сына. Именно в эти дни уединения, во власти девственной вечно юной природы, не знающей старости и смерти, ошутил он близость конца жизни и ту примиренность с нею, которую с невольным удивлением заметил в себе, когда пожалел погибшую птичку.
Сила Гордеич пришел к удивившему его самого убеждению, что причиною всех несчастий в его жизни был полуторамиллионный капитал, созданный им в течение полувека.
Именно теперь, как никогда, ощущал он, что всю жизнь был далек от людей и не нужен им: вся человеческая толпа, вечно ему враждебная, шла мимо него Друзьями его были только такие же, как он, богачи но все они ни на грош не доверяли друг другу, каждый ревниво оберегая свои интересы, и дружба этого круга людей походила на вынужденный, вооруженный мир тайных врагов. Все они так же, как и он, ненавистны и скрытно презираемы всей кипящей вокруг громадой работающих и завидующих им людей. Bee люди схожи своей общей жизнью, которая кажется одинаковой: эта общность труда и одинаковость положения объединяет их неисчислимую массу, а он одинок и на вершине своих успехов сидит как в осажденной крепости, как паук, запутавшийся в собственных тенетах.
Многие его ненавидят, почти все боятся и никто не любит.
Вся семья несчастна, все дети больны и неспособны жить. Казалось ему теперь, что причиной их болезненности и неспособности тоже были проклятые деньги: если бы он остался пастухом или водоливом — чем был прежде — выросли бы дети Силы Гордеича совсем другими людьми, умели бы трудиться, надеялись бы только на себя, а теперь они с юных лет инвалиды, лишние рты, непригодные для жизни: их нужно содержать, чтобы они не погибли — хуже — всем им место разве только в лечебнице! Сила Гордеич окончательно убедился, что огромный капитал, скопленный им, может погибнуть вместе с его детьми, если после смерти отца они, такие никчемные, наследуют этот капитал. Они не проживут, не прокутят, не на себя истратят — даже на это нет у них сил, у них просто растащат все. Годами боролся с ними, учил, грозил, ссорился, но теперь его настроение совершенно изменилось: понял, что дети не жизнеспособны и сделались такими от его суровой опеки. Капитал сам за себя отомщал Силе Гордеичу на его же детях. Их нужно было еще в детстве вытолкнуть жизнь, в бедность, чтобы учились бороться, но тогда ему некогда было подумать о них...
С неделю назад привезли сюда больной любимую дочь ею Наташу, и это нарушило философское настроение Силы Гордеича. Два года лечили ее за границей от чахотки, чахотку-то залечили, но вернулась дочь с какой-то новой, мудреной, еще горшей болезнью — сердце никуда не мнится. Это явилось тяжким ударом для него: как будто невидимая беспощадная рука стремилась задушить самою любимого из его детей, и Сила Гордеич бессилен был защитить дитя. Каждый день ездил Василий Иваныч, а вчера стало так плохо, что пришлось телеграммой вызвать из города доктора Зорина — петербургскую штучку. С полгода как поселился Зорин в их городе, переехал из Петербурга с целью нажить деньги в провинции около купечества. Дом Черновых сделался кладом для него: все больны, не тот, так другой за Зориным посылает. Действительно хороший врач, красавец; губернские дамы от него без ума, повлюблялись все, от безделья болезни стали выдумывать; мужья рев-новать принялись. Ревнуют и оба больные сына Силы: невестки — здоровейшие бабы, и все-таки к модному доктору лезут. Наташа-то всерьез больна, почти что при смерти, а Зинаида как раз сегодня бал затевает, всем соседям приглашение разослала; в доме идут приготовления и ужин готовят на пятьдесят человек. Ругался с ней Константин, да ничего не поделаешь. Вечером все равно гости съедутся. Еще этот Зорин... консилиум у них с Василием Иванычем. Наташе совсем плохо.
Сила Гордеич вздохнул, встал и решил пойти посмотреть, что там с нею делают доктора.
Войдя в комнату, где лежала Наташа, он поднял брови и слегка отшатнулся: она даже сидеть не могла в постели; поддерживали под руки Василий Иваныч и Константин. Валерьян, бледный, расстроенный, не сводил глаз с лица жены, а оно у нее сделалось теперь какое-то странное. Глаза, как у козленочка, которого колоть собираются. Голова не держится на плечах, и язык заплетается, коснеет, как бывает у пьяных. Бормотала жалким голосом, с трудом выговаривая слова, при этом еще улыбалась.
— Как смешно!.. Язык меня не слу... не слу-ша-ет- ся...
Зорин, без пиджака, в жилетке, с засученными рукавами шелковой рубашки, с чисто вымытыми, нежными, девичьими руками, держал ее руку в своей и смотрел ей в глаза горящими глазами. Бледное, одухотворенное лицо доктора выражало нервное напряжение, воодушевленную решимость, почти вдохновение.
Валерьян посмотрел на Силу Гордеича безумно, взял его под руку и, наклоняясь, прошептал:
— Видели картину Репина, как царь Грозный обнимает убитого им сына, ну, известную, в Третьяковской галерее?
Сила Гордеич недоуменно оглядел взбудораженное фигуру художника, подумав: «Не бредит ли?»
- Ну, так вот... Замечаете? Она стала на того царевича похожа... не лицом, а — выражением... Очень странно,,. Я не могу,., не могу. — Голос у него срывался.
Шатаясь, Валерьян вышел из комнаты.
— Спасите, доктор, — чуть слышно лепетала Наташа.
«Умирает, — подумал Сила и сам удивился своему спокойствию. — Один конец».
— Я спасу вас, — нежным, но уверенным голосом ответил Зорин. — Не падайте духом. Верьте мне...
Голова Наташи упала на грудь. Зорин раскрыл докторский ридикюль.
— Василий Иваныч, вы мне будете нужны... Господа, прошу всех на время удалиться.
Константин и Сила Гордеич вышли на террасу.
Там сидел Валерьян, взлохмаченный, с воспаленными глазами, блестевшими сухим блеском.
— Не унывайте, — сказал ему Сила Гордеич. — Что толку? Слезами горю не поможешь.
— Умирает, — мрачно прошептал художник, не глядя на тестя.
— Может быть, и не умрет... Разве вы не верите в медицину? Она нужнее людям, чем литература или ваше искусство.
— Ведь и медицина — искусство, — возразил ему Константин, — и большое искусство... Этот Зорин — прямо, как артист на сцене...
Через несколько минут пришли доктора, продолжая разговор между собой.
- Я предвидел, — оживленно жестикулируя, говорил Зорин. — Захватил с собой все, что нужно... Отчего вы не сделали без меня внутривенное вливание?
Василий Иваныч покраснел.
- Не решился... Никогда не доводилось.
- Средство героическое, но ничего больше не остается. Единственное, что можно сделать, — это подхлестнуть сердце, заставить его работать изо всех сил.
— Мы влили ей в вену строфант — сильно действующее средство, — обратился он к присутствующим. — Сердце на время оживет... У нее — водянка. Теперь воды сойдут, н недели две она будет чувствовать себя здоровой. Вот этим временем и нужно воспользоваться, чтобы сделать операцию щитовидной железы. Немедленно везите ее тогда к хирургу в Казань. Если пропустить время, болезнь опять возьмет свое, сердце ослабеет, опять будет водянка, и уж тогда положение может оказаться критическим... Да и теперь мы поспели, можно сказать, в последний момент.
— Помните Петербург, — обратился он к Валерьяну — когда она еще невестой вашей была, и я на свадьбе вашей был. Признаки и тогда были, но я, конечно, ничего не говорил вам.
— Если она хоть на две недели встанет, то и тогда вы — чудотворец, — польстил доктору Сила Гордеич.
— Медицине я предан всю жизнь, люблю ее – как женщину, — засмеялся Зорин.
— Вам много дал Петербург, — застенчиво сказал Василий Иваныч своим бархатным басом. — И кроме того, вы — врач по призванию, талант, не то, что мы, грешные, деревенские врачи.
— Я слышал, что у вас есть другой талант, — ловко переменил тему Зорин.
— Василий Иваныч — большой певец, — усмехаясь, подтвердил Константин. — Ему бы на сцене быть, а он, пилите ли, народник, вот в чем незадача: пение мешает лечению.
Зорин весело засмеялся.
— Обычная драма русского талантливого человека. Еще Чехов сказал: «Как хороший врач — так у него непременно баритон или на скрипке играет».
На террасу вошла Зинаида, цветущая, румяная, несколько располневшая.
Зорин вскочил и с необыкновенным изяществом склонился к ее холеной руке.
Зинаида смотрела на него искристым взглядом и с такой задорной улыбкой, какой Константин, наблюдавший за ней, давно у нее не видел. Подбородок ее задрожал, все лицо приняло чувственное выражение, когда она тотчас же начала с Зориным кокетливый, шутливый разговор.
— Уж вы такой врач счастливый: взглянете — так мертвый воскреснет, и вообще, как герой, всегда являетесь с корабля на бал. У нас сегодня деревенская вече-ринка: дамы, барышни будут — вам пожива. Для танцев амбар декорируем, тэт-а-тэт — на открытом возухе Василий Иваныч дает концерт, а я аккомпанирую... А пока — пришла позвать вас всех к обеду.
Зорин отвечал шутками, вся компания, сопровождая его, как некую знаменитость, двинулась вниз, по дороге к усадьбе.
Поздно вечером Наташа проснулась в сладостном, счастливом бреду: ей чудилось, что перед ней стоит юноша необычайной красоты, держит ее руку в своей теплой, нежной руке. «Я вас спасу», — говорит он ей музыкальным, чарующим голосом.
Она содрогнулась всем телом, открыла глаза, легко поднялась с подушек. Видение исчезло. Необыкновенное чувство счастья охватило ее. В комнате слабо теп-лился ночник. На голом полу спала горничная, заменявшая сиделку. В окно смотрела темно-синяя летняя ночь. Наташа чувствовала себя юной и любящей, как будто не было мрачного прошлого, пережитых страданий, грустного замужества и несчастного, измученного мужа. Словно все это только приснилось в болезненном, кошмарном сне.
Издалека доносились стройные аккорды рояля, и могучий, бархатный, светлый голос пел волшебную песнь о чарах любви:
И грустно мне, я грустно так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю:
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю.
Это пел внизу горы, в ярко освещенном доме усадьбы Насилий Иваныч, но Наташе чудилось вдохновенное лицо Зорина и казалось, что ему принадлежит этот страстный, зовущий, увлекающий куда-то голос. Бледная, прозрачная, с широко раскрытыми, огромными глазами, он л неподвижно слушала, держась рукой за ожившее, сильно бьющееся сердце.
Известный хирург-профессор оказался невзрачным, простецким старичком в старомодном пиджаке, одетом на косоворотку. Он носил немецкую фамилию, а говорил самым НАСТОЯЩИМ волжским акцентом с сильным ударением на «о» и частым повторением слова «того». При осмотре Наташи он как бы невзначай чуть-чуть скользнул тонкими пальцами по едва заметной опухоли около ее тоненькой шейки и вполне этим удовлетворился, но в разговоре наедине с Валерьяном неожиданно сказал мужицким говорком:
— Операция, того, неизбежна, но должен предупредить, что за благополучный исход, того, не ручаюсь: сердце измучено.
Валерьян побледнел.
— Тогда, может быть, лучше не делать операции?
Профессор посмотрел на него поверх очков и пожевал губами, напомнив манеру Силы Гордеича.
— Нет, без операции она, того, проживет месяца три, не больше. Слов нет — операция трудная, но если перенесет — будет жить еще несколько лет.
Он проницательно посмотрел на страдальческое лицо Валерьяна и добавил решительно:
— Сделаем операцию.
Наташу положили на испытание в отдельную комнату лечебницы, и профессор в течение недели навещал ее каждый день, ласково разговаривал о посторонних вещах, расспрашивал о ее семье, об отце и матери, о братьях, о годах детства и, уходя, опять ласково, по-отечески проводил пальцами по ее больному горлу. Но за этими добродушными разговорами и незаметными прикосновениями к месту будущей операции Наташа угадывала, что опытный хирург неспроста разговаривает и выспрашивает, а хитро, тонко и почти незаметно изучает ее. Наконец стал упоминать о предстоящей операции, как о чем-то пустячном и даже приятном: опасности никакой, несколько минут будет немножко чувствительно, зато потом сразу наступит облегчение, и она тотчас же начнет танцевать. Через неделю разговоров нечаянно обмолвился, что «уж так и быть, того», сделает операцию... сегодня.
Наташа была настроена бодро и мужественно: ее уверили, что операция — это вожделенный конец ее страданий. То же самое летом говорил ей доктор Зорин, которому она верила больше, чем старому хирургу. В одном только Зорин ошибся: летом она выздоровела благодаря внутривенному вливанию строфанта, но не и а две недели, как предполагал он, а на целых два месяца и до сих пор чувствовала себя бодрой. Зорин был сам удивлен таким непредвиденным, необъяснимым чудом, говорил, что собирается написать в медицинском журнале статью об этом случае, совершенно не предусмотренном наукой.
Извещенный о назначенной операции, Валерьян примчался в лечебницу. Вместо того, чтобы ободрять Наташу, он сам нуждался в ободрении, и она его ободряла, вызывая в нем невольное удивление неожиданному ее самообладанию, какого никогда не предполагал в этой хрупкой, исстрадавшейся женщине.
— Не волнуйтесь, Валечка, все будет хорошо. Доктор Зорин сказал, — тут она улыбнулась своей новой улыбкой, которой никогда не в силах была удержать, когда говорила или думала о нем, — сказал, что после операции я сразу воскресну. Кончатся ваши мучения со мной.
— Я буду здесь сидеть и ждать, — хмуро возразил Валерьян.
— Нет, вы тут, пожалуй, еще шум поднимете. Лучше пока сходите в цветочный магазин, принесите букет белых роз.
Вошел профессор и благодушно сказал Наташе:
— Ну, деточка, того, все в порядке, пожалуйте за мной. Как ваше самочувствие? Не волнуетесь?
Наташа смотрела весело.
— Нет, я решилась, взяла себя в руки. Вот только муж что-то духом упал.
Она лукаво улыбнулась.
— Не бойтесь, — тепло сказал старик Валерьяну. — Надеюсь, все обойдется благополучно. У вашей жены большая воля к жизни, а это очень много значит. По правде сказать, я, того, сначала-то не ожидал встретить такую твердость духа.
Валерьян не верил ему, вздыхал и хмурился.
— Все-таки я здесь подожду.
— Нет! — воспротивилась Наташа. — Идите и сделайте то, о чем я просила, иначе буду волноваться за вас.
Она как будто с умыслом отсылала его.
— Ну, идемте, — повторил старик и направился к двери.
Вслед за ним пошла Наташа, еще раз улыбнувшись мужу.
Валерьян кинулся к ней: хотелось остановить ее, отменить операцию, Когда Наташа скрылась за дверью, у него словно что-то оборвалось в груди.
Он подумал: «Наташа не знает, как опасна операция, а оперировать будут без хлороформа. Зачем она просила принести цветы? Ведь белые цветы на гроб кладут.
Он быстро бежал по улице, шатаясь, как пьяный, наталкиваясь на прохожих и бормоча. Потом забыл, куда идет, кто он, что ему нужно и почему застряла в мозгу мысль о цветах. Долго стоял на углу, раздумывал. С трудом вспомнил, что он, художник Семов, идет за цветами для жены, которую теперь режут хирурги. Растерянно улыбнулся, махнул рукой и пошел дальше.
Через час он вернулся в лечебницу с большим букетом белых роз, таща его, как веник — в опушенной руке. Иногда с удивлением рассматривал цветы, махал букетом, останавливался и опять размышлял вслух.
Когда вошел в комнату Наташи, фельдшерица, что- то приготовлявшая на столе, обернулась к нему, сделала знак рукой и глазами, чтобы он молчал.
На кровати странно, неподвижно вытянувшись, закрытая одеялом до подбородка, лежала Наташа с желтым, восковым лицом, с открытыми, но безжизненными, как бы ничего не видящими глазами. Шея и голова ее были крепко забинтованы.
Валерьян на цыпочках подошел к Наташе, тихо положил цветы к ее ногам и, наклонившись, стал смотреть в ее неподвижные глаза.
Она словно спала с открытыми глазами, а пожелтевшее, неживое лицо было, как у маленькой девочки, жалобное, словно ее обидел кто-то.
— Наташа! — прерывающимся шепотом позвал Валерьян.
— Тс-! - зашипела на него фельдшерица, строго поднимая палец кверху и легонько потянув за плечо.
— Спит? — шепотом спросил Валерьян.
Женщина кивнула головой.
Он хотел перевести дыхание, но к горлу подкатился горячий, колючий клубок и остановился там, словно кто-то сжал ему горло.
Тогда ему стало казаться, что понемногу в этих глазах начинает теплиться жизнь: чуть-чуть дрогнули ресницы, полуоткрытые, бескровные губы сжались, восковое лицо потеплело...
Валерьян отступил, не сводя безумного взгляда с лица жены. Волосы поднялись дыбом, по спине и затылку хлынул мороз, потемнело в глазах, и художник на минуту потерял сознание.
Фельдшерица держала его за руку, встряхивала ее, поднесла к его губам ложку с лекарством.
— Выпейте это... Стыдитесь! Мужчина тоже! Она пришла в себя, проснулась... смотрит на вас.
Наташа смотрела теперь живым, сознательным взглядом, словно хотела что-то сказать.
Валерьян оттолкнул лекарство, упал на колени, прильнул к изголовью жены, не сводя с нее изумленного взгляда, горестного и радостного одновременно.
— Наташа! Жива!.. — срывающимся голосом шептал он. Клубок откатился, растаял слезами.
Наташа закрыла веки, и сквозь длинные ресницы медленно проползли две крупные слезы.
— Ну, уходите, уходите! — зашептала фельдшерица, оттягивая Валерьяна за рукав. — Завтра утром будете разговаривать. Операция прошла хорошо. Да уходите же, вам говорят!
Больше он ничего не помнил.
Опомнился в гостинице, в своем пустом, унылом номере. Давно была уже ночь... В странном оцепенении лежал на примятом трактирном диване, одетый как был, когда вернулся из больницы. В комнату падал слабый свет от уличного фонаря. Старый, грязный, неуютный город светился тусклыми огнями.
Надел шляпу и вышел на улицу, сам не зная зачем. Осенняя ночь была темна, беззвездна. Долго, до усталости бродил по безлюдным, пустынным улицам старого татарского города. Огромный и кипучий когда-то, город давно приходил в запустение и упадок, словно былая жизнь уходила из него. Валерьян шел, быстро поворачивая из одной улицы в другую, стараясь усталостью заглушим. безотчетное, беспричинное чувство гнетущей тоски. Незаметно очутился у башни Сумбеки, прошел под темным сводом древних каменных ворот, в которые, вероятно, еще Грозный въезжал при взятии Казани.
Башня Легендарной Сумбеки смутно чернела в темноте оригинальными очертаниями восточного стиля. Вспомнилась грустная легенда о несчастной татарской красавице; казалось, что Сумбека до сих пор еще томится в башне: в узких, темных нишах как бы еще сверкают из-под длинной чадры ее черные, огневые глаза. В воображении художника фантастическая княжна представлялась похожей на Наташу: ведь Черновы происходят от какой-то старинной, богатой татарской фамилии. Дикость и нелюдимость Наташи, ее странная боязнь посторонних — это атавизм затворничества мусульманских женщин. Утонченность и поэзия ее натуры, смесь ума и безумия, беззащитность и мужество, кротость и гордость — все это черты ее далеких предков. Ее лицо с правильными, прекрасными чертами и большими глазами — не монгольского, а какого-то другого восточного типа; но в Казани часто встречаются подобные лица, сохраняющие, быть может, черты древних болгар, обитавших на Волге до нашествия Батыя.
Художник фантазировал, бегая, как безумный, по улицам древнего восточного города.
Незаметно для себя очутился у подъезда лечебницы. «Так вот, собственно, куда мне надо! — с удивлением подумал Валерьян. — Нужно зайти спросить, жива ли Наташа...» Но ведь ему сказали, что ее нельзя видеть до завтра и чтобы он не беспокоился. Отчего же все-таки он беспокоится?
Взглянул при свете фонаря на карманные часы: половина двенадцатого. Все спят, и лечебница закрыта; стучаться в дверь не известно зачем, поднимать шум среди ночи, тревожить больную — нет, этого не следует делать.
Он повернул назад и опять бесцельно прошел несколько кварталов. Тоска возросла до невыносимого страдания.
В глухом, отдаленном квартиле он увидел огонек в маленькой пивной на углу. В окнах двигались тени, глухо слышались голоса — мужской и несколько женских. Го-лоса повышались, и вдруг все их покрыл пронзительный женский визг.
Валерьян, отворив стеклянную дверь, вошел в убогое питейное заведение, состоявшее всего из одной небольшой комнаты. В пивной происходил скандал: за одним из столиков сидели три накрашенные проститутки и небольшого роста молодой человек в фуражке с кокардой. Он был пьян и стучал по столу кулаком. За буфетом стояла толстая пожилая хозяйка заведения. Все кричали. В момент появления Валерьяна чиновник размахнулся и ударил одну из девиц кулаком по щеке. Она покачнулась, схватилась рукой за щеку, сплюнула кровь и заплакала. Остальные с криками вскочили из-за стола.
Пьяный замахнулся еще раз, но Валерьян схватил его сзади за шиворот, приподнял в воздухе и бросил на пол. Фуражка с кокардой покатилась к порогу.
Все замолчали и замерли в различных позах.
Чиновник медленно встал, поднял картуз и, заикаясь, спросил пьяным голосом, пятясь к двери перед молча наступавшим на него трясущимся, страшным человеком:
— П-позвольте... собственно, по какому праву?
— А вот по такому, — вдруг рявкнул гость, сжимая кулаки и шагнув ближе. Лицо, необыкновенно бледное, дергалось, глаза сверкали.
Чиновник с замечательной быстротой юркнул на улицу, хлопнув задребезжавшей дверью. С улицы глухо слышался его тонкий, протяжный крик:
— Кара-ул!
Женщины окружили Валерьяна, и все враз, перебивая одна другую, с большим волнением рассказывали о причинах и подробностях скандала.
— Позвольте вас поблагодарить, — хрипло сказала побитая, протягивая ему руку и улыбаясь окровавленными губами. — Мы понимаем — вы хороший мужчина, порядочный.
Валерьян молча рассматривал ее припухшее лицо: когда-то оно было красивым, но теперь казалось жалким. От женщины пахло пивом и табаком.
— Я — случайно, — сказал он, разводя руками. — Не спится, вот и брожу по городу. Сна нет. — Он вздохнул и добавил печально: — Нет сна.
Все недоуменно, а потом испуганно посмотрели на него.
Посидите с нами.
— Выпьем за интеллигенцию.
Валерьян улыбнулся.
— Нет, благодарю вас, мне обязательно нужно идти,
— Куда? Теперь два часа ровно. Все закрыто.
— В лечебницу.
Проститутки насторожились, опасливо переглянувшись. Странный посетитель приподнял шляпу, повернулся к двери и быстро вышел из пивной.
— Не в себе, — качая головой, сказала буфетчица.— Может, какой-нибудь буйный сумасшедший, из лечебницы сбежал.
— Ужасти какие! — хором сказали проститутки. — Все может быть. Похоже, что ненормальный, а здоровый какой: как он об пол-то шваркнул!
Все засмеялись.
В это время фельдшерица в лечебнице говорила по телефону:
— Открылось кровотечение из кровеносных сосудов.
— Сейчас приеду! — был ответ. — Немедленно, того, вызовите ассистента.
Через несколько минут профессор вошел в комнату Наташи. Больная лежала в прежней позе. Бинт около шеи весь покраснел от крови.
— Носилки! — скомандовал хирург. — В операционную!
Явились доктор-ассистент и два служителя с носилками.
Наташу перенесли в операционную. Профессор, в белом халате, с засученными рукавами, вошел в высокую белую комнату, ярко освещенную электрической люст-рой. Наташа лежала на длинном белом операционном, столе. Ассистент и фельдшерица приготовили инструменты, зажгли спиртовку.
— Вы слышите меня? — громко спросил больну хирург.
— Слышу, — прошептали бледные губы.
— Сейчас мы будем делать прижигание. Будет немножко, чувствительно... Соберите всю вашу силу воли, Вспомните всех, для кого вы хотите жить, — и будьте мужественны.
Наташа, не открывая глаз, невнятно прошептала чье- то имя, но не отца, матери, мужа или сына: она прошептала имя доктора Зорина.
Сняли окровавленный бинт. Обнаружилась страшная рана, искусно зашитая, Но сквозь шов источавшая тоненькие струйки крови. Хирург быстрыми движениями пальцев что-то делал около раны, ассистент с напряженным видом, предугадывая и ловя его жесты, быстро подал ему маленький блестящий предмет.
Хирург нащупал им в ране тоненькую жилку, зацепил и вытянул ее. В тот же миг ассистент поднес к кончику жилы кусочек раскаленной добела проволоки. Запахло жареным мясом.
Врачи работали быстро, напряженно, с нервным подъемом. Они щипцами вытягивали перерезанные жилы и прижигали их раскаленным железом.
Наташа вынесла эту пытку, не теряя сознания, не издав ни единого стона.
Профессор снова зашил и забинтовал рану. Ассистент держал ее руку, наблюдая пульс.
— Спасена! — тихо сказал старик.
Ее перенесли обратно и положили в прежней позе на постель. Профессор взял бледную, бессильную руку Наташи и сам сосчитал биение пульса.
— Есть перебои и выпады... но это ничего... Главное, того, сделано. Удивительная живучесть!
— Редкий случай, — взволнованно заметил ассистент, все еще бледный от нервного напряжения. — После такой инквизиции я и сам всегда лежу два дня с головной болью.
— А как же я-то? — улыбаясь, возразил хирург. — Случается, в день несколько операций, коллега.
— У вас, профессор, стальные нервы.
— Страдалица, — прошептала фельдшерица, вздохнув. — За что такие муки?
Профессор пожал плечами.
— За грехи родителей. Тяжелая, того... наследственность.
В дверь постучали. Фельдшерица вышла и через минуту воротилась.
— Там, внизу, муж пришел, спрашивает, все ли благополучно. Хочет видеть больную...
Профессор нахмурился.
- Скажите — все, того, благополучно. Видеть нельзя. Теперь часа ночи. Что он?
Фельдшерица вышла.
Врачи начали снимать с себя белые халаты.
Больная и жала в глубоком забытьи. Грудь ее медленно и тяжело дышала.
— Я очень опасался, того, за исход, — шепотом сказал профессор, но — удивительная нервная система! Теперь — спасена, года на три, на четыре.
— Под счастливой звездой родилась, — заметил врач.
— Ну, чтобы под счастливой — я бы не сказал. Обреченная. Жертва вырождения. А жаль. Замечательно хороша собой.
Профессор пожал руку ассистента и вышел.
После всех скитаний по заграницам и больницам, едва оставшись в живых, Наташа снова очутилась в мрачной обстановке дома Черновых. Такова была судьба дочерей Чернова: всю жизнь они бегали из родительского дома и всегда возвращались обратно с обожженными крыльями. Наташа побывала в когтях смерти и вернулась с глубоким шрамом около горла, с вышедшими из орбит глазами, в которых оставалось выражение ужаса даже тогда, когда она смеялась.
Операция замедлила развитие страшной болезни, но последствия остались: измученное сердце билось неровно, как бы прихрамывая; иногда происходили сердечные припадки, сердце начинало биться с бешеной скоростью, и тогда Наташа лежала с компрессами на груди. Валерьян бросал работу и звонил к доктору Зорину. Если это случалось поздно ночью, посылали Василия на черновском рысаке. Казалось, что Наташа вновь умирает. Валерьян опять переживал бессонную ночь страхов и тревог за ее жизнь, на несколько дней выходил из колеи, теряя способность к работе. Но приезжал Зорин, неизменно бодрый, изящный, веселый, оставался наедине с больной — и все как рукой снимало. Достаточно было его появления, чтобы Наташе сразу стало легче: она верила, что в мире нет другого врача, кроме Зорина, который так понимал бы ее болезнь, верила, что он всегда может спасти ее, как спас когда-то, в момент уже наступившей предсмертной агонии. Больное сердце было преисполнено веры в мудрость Зорина и благодарности к нему. Припадок обыкновенно через полчаса проходил бесследно, и Наташа опять несколько недель чувствовала себя здоровой. Доктор обнадеживал, что больная со временем выздоровеет окончательно.
Характер Наташи после операции заметно изменился: она стала веселой, жизнерадостной и болтливой, чего у нее не было даже в годы девичества, когда она считалась здоровой. Стала завивать барашком свои остриженные волосы, шила новые платья, желала нравиться. Совершенно исчезла свойственная ей прежде задумчивость. Валерьян верил в близкое выздоровление жены, обрел способность работать и только в дни припадков временно испытывал тревогу.
Наташа казалась ребячливей, чем прежде, как бы впала в детство. Психика ее, угнетенная прежде, переродилась после операции, таинственная печаль исчезла вместе с вырезанным кусочком железы, Наташа стала новым человеком, с другим характером. Валерьян считал это признаком выздоровления.
Зимой, окончив новую картину, отправился выставлять ее в Петербург.
Жизнь Наташи потянулась в однообразном, затворническом одиночестве, в обществе домашней учительницы Марьи Ивановны, подготовлявшей Леньку в гимназию.
Марья Ивановна, девица лет тридцати, не так успешно занималась с мальчиком, сколько развлекала свою госпожу городскими сплетнями и гаданием на картах. Она стала единственной неутомимой собеседницей Наташи, вела домашнее хозяйство в «том доме», куда временно поселились Семовы за отъездом Дмитрия и Анны в имение, с утра до ночи рассказывала все, что успевала узнать об успехах доктора Зорина в богатых купеческих и дворянских домах.
Это была вечная тема их разговоров, единственное, что интересовало теперь Наташу. По вечерам играли на пианино в четыре руки, а на сон грядущий Марья Ивановна гадала на картах о Валерьяне, но всегда случалось, что ближе всех к сердцу червонной дамы падал трефовый валет, а королю выходила дальняя дорога.
Наташа часто писала мужу, с нетерпением ожидая его возвращения, но прошло два месяца, а Валерьян все не возращался.
Почти каждый день приезжал Зорин, и в его присутствии она преображалась, хорошела. Затворническая жизнь ее бы так бедна содержанием, что скоро Зорин заполнил эту жизнь без остатка. После его визита Наташа целый день была особенно весела, говорила только о нем и жила ожиданием следующего визита. Иногда вспоминала о Валерьяне и сердилась, почему он долго не едет. Но образ мужа постепенно бледнел в ее ослабевшей памяти. День, проведенный без свидания с Зориным, казался пропавшим, скучным днем.
Наташа с удивлением замечала, что никогда у нее не было такой привязанности к Валерьяну, какая с каждым днем сильнее возрастала к Зорину: после прожитых вместе долгих лет, рожденных детей, после совместных страданий — она всегда чувствовала между собой и мужем расстояние, преграду, мешавшую ей войти душой в его душу, даже не могла обращаться с ним на «ты», почти всегда говорила ему «вы», думая, что в этом выражается ее преклонение перед известным художником. На самом деле прежний интерес ее к его творчеству давно иссяк, да Валерьян за годы ее болезни, постоянных тревог и переездов отстал от работы и только теперь вернулся к любимому труду; но, по-видимому, успешнее работалось ему в Петербурге, чем в провинциальной глуши, подле больной жены, когда малейшее ухудшение в ее здоровье выбивало его из настроения.
С Зориным Наташа чувствовала себя иначе: не было той душевной преграды, которая всегда отделяла ее от Валерьяна. Муж многого не понимал в ее настроениях, в особенности когда работал: тогда он уходил в свой внутренний мир, непонятный Наташе, между тем как Зорин на лету подхватывал ее желания, угадывал мысли.
Даже обыкновенной физической стыдливости, которую Наташа не могла преодолеть за годы супружеской жизни с Валерьяном, не испытывала при Зорине. Он имел право раздевать ее, обнимать, прижимать ухо к ее обнаженной груди, и Наташа с удивлением чувствовала, что давно к этому привыкла, что между ними установилась не только душевная близость, но как бы и телесная. Зорин стал ей ближе, чем муж, отношения с ним оказались интимнее, чем с Валерьяном.
Она была уверена, что по-прежнему любит мужа, и действительно любила его, не могла себе представить своей жизни без него, ждала его возвращения с нетерпением, но он все не ехал.
Наташа думала, что чувствует к Зорину естественную благодарность за спасение ее жизни в критический момент болезни. Благодарность скоро перешла в нежнейшую дружбу. Зорин казался ей героем, сильным человеком, сумевшим победить чудовище смерти, между тем как Валерьян не уберег ее от болезни, допустил все пережитые ею несчастья, только и умел, что страдать да мучиться вместе с нею, а как художник — опустился. Он поставил Наташу и ее жизнь выше своей жизненной задачи, бесполезно и безрассудно кинул свой талант под ноги ей, больной, беспомощной женщине, и оттого упал в ее же глазах.
Если бы ради служения искусству, ради успеха и славы Валерьян в своем мужском эгоизме бросил ее, Наташа за это больше бы его уважала; но он поступил как раз наоборот: забыл себя ради нее и при этом оказался слабой опорой, погубил карьеру, обеднел,
Художнический талант Валерьяна был именно той преградой, недоступной для нее областью, куда он уходил от нее и только там был силен, а в жизни оказался фантазером, слабым и непрактичным, как ребенок.
Ей, тоже непрактичной и беспомощной, нужен был не фантазер, а человек с трезвой головой, который мог бы нести ее сильными руками, оберегая от жизненных невзгод.
Валерьян не мог принадлежать ей всецело, а когда отдал всего себя, не осталось сил для творчества. Наташа думала, что, если ее болезнь протянется еще несколько лет, Валерьян ничего более не создаст в искусстве, сойдет на нет. Лучше было бы для него, если б он разлюбил ее, нашел другую. Ей нужен не столько муж, сколько врач. Она любит Валерьяна, привязана к нему, как к другу, столь же далекому от прозы жизни, как и она. Но как прожить без Зорина, практического ловкача, карьериста, но настоящего джентельмена? Зорин — соблазнительный красавец, франт, остроумный, очаровательный собеседник. Именно теперь, как никогда, Наташе хотелось, чтобы Валерьян не оставлял ее одну с Зорины м.
Вкусы Наташи изменились. Она сама не замечала, как случилось, что благодарность и симпатия постепенно обратились в сильное, стихийное, нерассуждающее чувство; оно явилось у нее впервые в жизни: ничего подобного не чувствовала она, когда выходила замуж за Валерьяна.
Разговоры с Зориным были всегда полны чарующих недомолвок, волнующих намеков, остроумной игры слов, — овеяны ароматом утонченного флирта. До сих пор это была только невинная игра. Наташа знала, что Зорин женат, имеет детей, но не любит жену, нигде с ней не бывает. Он — донжуан по натуре, охотник за женщинами, имеет у них большой успех и упивается им. Для него не столь важно физическое обладание женщиной,— важнее взять ее душу. И вот он сознательно завладев душой Наташи.
Марья Ивановна сообщила ей, что по городу ходит сплетня, будто в Зорина влюблены жены ее братьев — Анна и Зинаида. Наташа побледнела при этом известии и с тех пор возненавидела обеих невесток.
По вечерам в «тот дом» шаркающей походкой приходил Сила Гордеич, расспрашивал о Валерьяне, скоро ли приедет, а когда Наташа не могла удержаться от рассказов о Зорине, имя которого не сходило у нее с языка, хмурился и, взглядывая на дочь поверх очков, переводил разговор на другое: опасался Сила Гордеич Зорина.
Варвара, лечившаяся от ревматизма на Кавказе, прислала ей письмо, где в высокопарных и нравоучительных выражениях предостерегала ее от Зорина: ему нужна не она, а ее наследство. Наташа знала, что Варвара и сама когда-то в Петербурге увлеклась им, а письмо это написала не для нее, а для Силы Гордеича, в надежде, что он по обыкновению вскроет письмо: это был замаскированный донос.
Сплетня все чаще и громче повторяла имена Наташи, Зорина и Валерьяна; начиналась завязка пошлого провинциального романа. Никто не сомневался, что Зорин подбирается к деньгам всех своих пациенток из черновского дома. Сила Гордеич делал вид, что ничего не знает, но на самом деле принял письмо Варвары к сведению.
Ежедневная информация Марьи Ивановны волновала Наташу, являясь жгучим содержанием ее теперешней жизни. На первом плане был Зорин, на последнем — Валерьян. Однажды, когда учительница неосторожно выразилась о видах Зорина на будущие капиталы Наташи, она пришла в такой небывалый гнев, что «засветила» ей пощечину. На пощечину Марья Ивановна нисколько не обиделась, а наоборот — была польщена, приняв ее как переход от прежних отношений хозяйки и служащей к интимным, неразрывно-дружеским отношениям. Так оно и вышло. Отныне у Наташи уже не было секретов от Марьи Ивановны: учительница стала наперсницей и «другом» Наташи.
Откровенно разговаривали о Зорине, подразумевая, что Наташа любит его первой любовью. Только теперь она увидела, что выходила замуж без любви, из одного уважения, а также, чтобы вырваться из невыносимой обстановки черновского дома.
Но как случилось, что она зашла так далеко, — Наташа и сама не знала. Ей от всего сердца было жаль Валерьяна: неужели он столько лет мучился с ней, столько пожертвовал лишь для того, чтобы, выздоровев, она ушла к другому? Наташа запуталась в собственных чувствах. Долго не признавалась самой себе в любви к Зорину, налетевшей на нее, как новое несчастье, и, убедившись, что действительно любит, ужаснулась.
Ей казалось, что она должна бороться против этого безнадежного чувства, ухватиться за прежнюю любовь к Валерьяну, раздуть ее угасающие искры, а для этого нужно, чтобы он бросил все свои дела и немедленно вернулся к ней спасать ее от Зорина. Они уедут в Крым и там, вдали, быть может, все пройдет. Бежать, бежать от него, страстно и впервые любимого!
Наташа проплакала ночь над запутанным, туманным, бестолковым письмом к Валерьяну.
Хотелось, чтобы он догадался о сильном и опасном чернике. Но не таков Валерьян: ему и в голову не приходит, какое новое горе надвигается на них обоих.
В эту зиму во всей жизни столицы — в искусстве, литературе, политике и торговле — чувствовалось небывалое затишье, внезапный, необъяснимый застой. О выставленной картине Валерьяна в прессе были благоприятные, но краткие отзывы: казалось — не до картин в Петербурге. Веяло зловещим настроением, иностранцы спешно уедали за границу, на политическом горизонте надвигались тучи. Слышались невнятные шепоты о возможной войне и близости революции.
Валерьян уехал из столицы в мрачном настроении, не дождавшись, покупателя на картину, недовольный собой и озабоченный тревожным, смутным письмом Наташи.
IX
Поселившись на лето в крымской долине на своей даче, Валерьян и Наташа по утрам отправлялись в лес на прогулку. Спали они в разных комнатах: Валерьян — в кабинете, внизу, она — наверху. Проснувшись, он по обыкновению заходил за ней.
В одно тихое солнечное утро Валерьян застал Наташу спящей и тихонько остановился у порога: она всегда просыпалась раньше его, но на этот раз, должно быть, плохо спала ночью. Без доктора Зорина Наташа опять стала сосредоточенной и печальной, чувствовала себя хуже. Разговаривали только во время прогулок; в остальную часть дня Валерьян или работал вместе с Иваном на огороде, или уединялся в своей мастерской.
Художник неслышными шагами подошел к изголовью жены и долго стоял так, в ожиданьи, когда она проснется: жаль было будить. Наташа спала, улыбаясь во сне знакомой Валерьяну, детской улыбкой.
Вдруг она открыла глаза и, еще не придя в себя, сонным голосом спросила:
— Это ты, Николай?
— Нет, это я, — тихо ответил Валерьян.
— Ах, это Валечка. А мне снился...
— ...Зорин. По улыбке видно. — Валерьян тихо, ласково засмеялся. — Проснулась и спрашиваешь: «Это ты, Николай?»
Наташа смутилась.
— Не может быть! Не помню, чтобы я так сказала. Не могла сказать. Никогда и наяву-то не называла его на «ты».
Наташа опять улыбнулась «зоринской» улыбкой.
— Вы все шутите надо мной, Валечка. Ай-яй! как это нехорошо с вашей стороны! Неужели ревнуете?
Валерьян сел в кресло у изголовья жены.
— Нет, — сказал он со вздохом, — я так тебя люблю. Был бы рад, если бы ты могла быть с ним счастливой. Но ведь вся твоя любовь — фантастическая, в смысле надежд на новую жизнь. Ты любишь. Как это случилось? У него — жена, дети, и право, как-то незаметно увлечения тобой. Ты больна, имеешь сына. Вряд ли из ваших отношений может выйти что-нибудь путное. Ты сама для себя сочинила эту любовь. Впрочем, говорят, мужья бывают слепы, муж всегда узнает последним. Меня одно раздражает: пришлось уехать сюда от городских сплетен, — мы стали посмешищем дураков. Думают, что Зорин имеет на тебя, так сказать, меркантильные виды. Конечно, он не таков, я очень его уважаю.
— Все годы моего замужества я думала, что люблю вас, — опять заговорила Наташа, — и действительно, верила, что незыблемо люблю, а между тем, как все это оказалось непрочно! Ведь за мной никто никогда не ухаживал, кроме вас, но вот стоило только одному человеку обратить на меня внимание, как все и пошло прахом. Вы не рассердитесь на меня?
— Нет. Но продолжай. Надо же нам до чего-нибудь договориться. Толкуем об этом каждый день, а все ни к какому решению не пришли.
Наташа покачала кудрявой, хорошенькой головкой.
— К решению? Разве непременно нужно еще какое- то решение? Ведь я вовсе не собираюсь разводиться, Валечка. Нарочно уехала сюда, чтобы все это прошло, чтобы забыть.
— Наташа, ты противоречишь себе...
Она опять улыбнулась своей новой улыбкой, вспомнив Зорина, потом продолжала, не отвечая на реплику мужа:
— Но вышло еще хуже: бегство оказалось напрасным. Я и здесь думаю о нем, во сне его вижу. Вместо забвенья только тоска. Ведь, в сущности, между нами даже на словах еще ничего не было... никакого объяснения... Может быть, и ничего не будет, но он мне необходим, я не могу без него жить. Я должна видеть его каждый день, иначе я не выздоровлю. Как это случилось — и сама не знаю. Вы уезжаете из дому всегда на две недели, а возвращаетесь через несколько месяцев. Я вас каждый день ждала. Ах, как я вас ждала, Валечка! Но вы все не ехали. Это было жестоко с вашей стороны,
Она вздохнула, вытерла слезы кончиком рукава и, вздохнув, продолжала:
- А он нее время был со мной. Вот к нему и привыкла... Вы там писали свои картины, а о том, что я покинута и одинока, не думали... Понемногу привязалась к нему, к моему спасителю... Долго боролась с новым чувством и теперь борюсь, но вы совершенно не боретесь с соперником ведь все же он — соперник ваш.
— Чем я буду бороться? Не на дуэли же драться. Дело очень просто: любила меня, теперь другого любишь, Чувство не в нашей власти. Как и чем я могу вернуть твою любовь?
— Валечка, да я же и вас люблю, только по-другому. Очень хочу, чтобы это наваждение прошло; может быть, что и пройдет само собой, но бороться я больше не в силах. Отвезите меня обратно, а сами поезжайте в Петербург. Теперь надо оставить на время меня одну, чтобы я изжила все это, дошла до какого-нибудь конца. Пусть выяснится естественный выход. Поезжайте, работайте: ведь все эти годы я вам только мешала. Какая я жена? Так, дрянь на двух ногах. Если увлечетесь какой-нибудь другой, здоровой женщиной, даю вам свободу увлекаться, но только слегка, чтобы вы могли ко мне вернуться. А главное — работайте, опять завоюйте вашу прежнюю славу, которую из-за меня потеряли, и возможно, что к тому времени я изживу мое несчастье. Тогда вернитесь ко мне. А я так бы хотела, Валечка, опять любить вас по-прежнему.
Валерьян встал с кресла, подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал:
— Ты говоришь, как ребенок. Я не верю, что доктор женится на тебе. Не верю и в то, чтобы изжилось это чувство... Все эти годы я отдал тебе, надеялся, что ты выздоровеешь, а ты все не выздоравливала, и наконец — устал.
Губы Наташи задрожали.
— Я хочу выздороветь, — прошептала она, — но без него — не могу.
— Хорошо. Я уеду. Это самое лучшее, что можно сделать в моем положении. Но знай: в моем сердце твое место никем никогда не будет занято...
Голос его дрогнул. Наступило молчание.
Вдали по проселочной дороге, оставляя за собой облако пыли, катился чей-то автомобиль. По склонам зеленых гор, окаймлявших изумрудную долину, ползло стадо овец, татарчонок-чабан играл на жалейке заунылый мотив. Из-за гор, освещенных утренним солнце и тихо плыли волнистые облака.
— Валечка, тихо сказала Наташа, — пойдите сюда!
Валерьян обернулся: она сидела на кровати в ночной рубашке, худенькая, с короткими кудрями, похожая на мальчика. Смотрела на него ненормально большими глазами, все еще близкими, родными ему.
Он подошел. Наташа потянулась к нему, стала осыпать его щеки мелкими поцелуями.
— Я очень несчастна, — прошептала она, как бы прощаясь с ним. Слезы лились из ее выпученных, трагических глаз.
Спазмы сжимали горло. Валерьян чувствовал, что разрыдается, если скажет хоть слово.
Молча освободился из ее детских, слабых объятий и быстро вышел из комнаты.
На дворе густо и зычно лаял Фальстаф. У крыльца веранды, обвитой плющом, стоял Иван и, широко улыбаясь, чесал в затылке.
— Автомобиль чей-то идет к нам, Валерьян Иваныч. Поглядите-ка!
В нижние ворота въезжал открытый желтый автомобиль с единственным пассажиром на шоферском месте.
Едва художник сделал несколько шагов навстречу, как машина подлетела к дому и сидевший за рулем широкоплечий человек в брезентовом плаще откинул с головы капюшон, обнаружив загорелое, бритое лицо.
— Здравия желаем, Валерьян Иваныч! — гаркнул густой, маслянистый голос Василия Иваныча.
— Какими судьбами? — невольно рассмеялся Валерьян. — Откуда?
— Все сейчас расскажу, — ответил доктор, вылезая из экипажа. — Газеты получаете? О событиях знаете?
— Ничего не знаю. Идемте завтракать.
В столовой гость сбросил плащ и вынул из кармана сложенную вчетверо газету.
— Читайте!
Валерьян развернул «Севастопольский вестник», вслух прочел слова, напечатанные очень крупным шрифтом:
— «Германия объявила войну России».
Воцарилось молчание. Иван, стоявший у порога, разинул рот и, запустив руку за ворот, оставил ее там.
Василий Иваныч взволнованно ходил по комнате большими, грузными шагами. От его движений вздрагивал тяжелый дубовый буфет в углу, позвякивали на столе приготовленные стаканы.
— Гул идет по всей России, — заговорил гость, — объявлен призыв запасных, в Севастополе военное положение. Скоро будет осадное. Приезжие бегут из Крыма, на вокзале от билетной кассы хвост спиралью по всей площади... Надо и вам выбираться.
— Позвольте, — перебил Валерьян, откладывая газету. — Вы-то, собственно, как в Крыму очутились?
Василий Иваныч махнул рукой.
— Да ведь я давно из врачей ушел: в Киевской опере пою второй сезон, а здесь на летних гастролях с труппой. В Севастополе готовится грандиозный вечер в пользу Красного Креста. Поэтому к вам приехал — от устроителей вечера: приглашают вас выступить на вечере, сказать что-нибудь с точки зрения искусства. Интеллигентная публика только и твердит теперь, что о «нашем мужичке, ямщике и солдатике». Заранее советую не отказываться, иначе плацкарты не получите и в поезд не попадете.
Валерьян задумался,
— Вот оно что! Ну, коли так, придется и мне выступить с вами. Не актер я, не оратор, не лектор, не хотелось бы...
— Ничего не поделаешь. Время пришло шумное, тревожное. Застрять здесь, наверно, не захотите.
— Да, как громом оглушило. Конечно, надо побывать в городе. Вот отдохнете, пообедаем, и — як вашим услугам.
— До обеда долго. Обедать мы с вами будем в Балаклаве, на плавучей веранде: отличную там камбалу разварную дают.
Сверху сошла Наташа и удивилась, увидя знакомого гостя. Василий Иваныч галантно подошел к ручке,
— Озорница вы, Наталья Силовна. Ну, можно ли в такую глушь забираться? Приехал мужа вашего похитить: наступает эпоха великих событий.
— Война объявлена, — пояснил Валерьян, протягивая жене газету. — Надо спешно уезжать из Крыма. — Он улыбнулся и шутливо добавил: — Провожу тебя к отцу, а сам на фронт поеду.
Наташа подняла на мужа удивленные глаза и медленно опустила их в газету, ничего не сказав,
— Ты знаешь, — быстро, нервно заговорил Валерьян, — Василий Иваныч бросил медицину, в опере поет теперь.
Наташа устало отложила газету.
— Конечно, ваше место на сцене, но как же это? Все на войну идут, даже художники, а вы — петь будете. Наверное, врачи теперь нужнее.
— Правильно, — покраснев, качая головой, подтвердил певец. — Узнаю вас: во всем вы искренни, Наталья Силовна, хоть стой, хоть падай. Но дело в том, что врач я плохой, а певец, говорят, хороший, — каждому свое. Актеры теперь тоже на помощь раненым деньги концертами собирают. Кроме того, я вообще враг войны, а этой — в особенности: если мы победим, будет еще горшая реакция, нас победят — неизбежна революция.
Наташа всплеснула руками.
Василий Иваныч поднялся из-за стола, залпом выпив стакан остывшего чая.
— А вы как относитесь к войне, Валерьян Иваныч? На фронт собираетесь?
— На фронт я поехал бы в качестве художника или корреспондента, но это не мешает мне ненавидеть войну. Я хочу быть свидетелем против нее. Война — это величайшее преступление ее творцов против человечества, но все-таки желать самим себе поражения... Впрочем, о пораженчестве у меня еще не было времени подумал». Такова судьба России: история предъявляет счет на века рабства и косности... Но — ампутация лучше гниения. Говорят, война-протянется не больше трех месяцем — и начнется новая эра.
— Валечка, — вмешалась Наташа, — вы не серьезно, с горяча решаете: вы не поедете на войну. Подумайте сначала!
— Да ведь я не сейчас еду. Отчего не поехать? Напишу потом батальную картину. А сейчас мы с Василием Иванычем едем только в Балаклаву и Севастополь,
— Да, пора, — подтвердил гость. — Одевайтесь, Валерьян Иваныч!
— Это еще что такое? Зачем в Балаклаву?
Валерьян, смеясь, надевал дорожный плащ и шляпу,
— Ничего не поделаешь, Наташа. Василий Иваныч неумолим: надо экстренно хлопотать насчет отъезда.
— Парадного костюма не нужно? — спросил он певца.
— Ничего не нужно. По-военному.
Наташа проводила их до автомобиля. Позади всех стоял Иван.
— Война, брат Ваня, — весело сказал ему художник. <— Ты, кажется, на призыве?
Иван крякнул, приосанился, запустил руку за пояс.
— В самый аккурат, Валерьян Иваныч. Гы! Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Нет худа без добра...
Певец и художник переглянулись.
— Оригинал! — усмехнулся Василий Иваныч. — Ты из каких краев, Ваня?
— Да из ваших же, Василий Иваныч. Знаем вас. С Волги мы... Березовские.
— Ну, коли березовские, так оно и понятно. Философ ты, Иван, мыслитель... Всего хорошего!
— Не волнуйся! — говорил жене Валерьян, усаживаясь рядом с певцом, уже взявшимся за рулевое колесо. — Война далеко, опасности никакой, но — из этой глуши пора выбираться. Вернусь дня через три.
— Вообще, плюньте вы на эту тишь да гладь, да божью бдагодать, — смеясь, добавил Василий Иваныч, — собирайтесь-ка лучше в родные места.
Он нажал кнопку стартера, повернул руль, автомобиль харкнул, запыхтел и, круто повернувшись, мягко покатился к воротам участка.
Наташа долго смотрела им вслед. В глазах ее стояли слезы.
«Неужели уедет на войну? — думала она. — Не может быть! Не решится».
Валерьян, спросив вина, налил полный стакан и, не притрагиваясь к нему, задумался. На плавучей веранде ресторана не осталось никого. Синяя продолговатая бухта походила на озеро, соединяясь с морем узеньким «горлом», проходившим между двумя отвесными скалистыми горами. На вершине одной торчали знаменитые генуэзские развалины, на другой — виднелся беленький; домик в лесу; около домика копошились саперы, лопатами выравнивали верхушку горы для будущего укреп-ления.
На левом берегу бухты, у подошвы горы, вдоль узенькой, словно театральной, набережной лепились жалкие рыбацкие домишки Балаклавы.
У берега стояли на привязи десятки рыбацких лодок, а на другой стороне, отражаясь в неподвижной синей воде, красовались роскошные особняки аристокра-тов и богачей, напоминавшие ему дворцы Венеции. Это были как бы два мира, враждебно смотревшие один на другой с противоположных берегов. Дворцы художественно дополняли красоту вычурных скал и зеленых гор, полукольцом охвативших зеркальную бухту, но казались необитаемо-безжизненными. Зато рыбацкий берег жил своеобразной жизнью. На набережной сушились сети, чинились вытащенные на песок лодки. Проходили рыбаки-греки в вязаных фуфайках, в высоких, выше колен, тяжелых рыбацких сапогах, с запущенной щетиной черных бород, в выцветших старых шляпах с отвисшими полями. По узеньким, неправильным переулкам, террасами поднимавшихся в гору, сновали красивые, смуглые гречанки, бегали полуголые дети. Приезжие, большею частью девушки, в широких и легких домашних костюмах, с открытыми головами под палящим солнцем прогуливались взад и вперед по берегу бухты. Из небольшой двухэтажной гостиницы «Гранд-отель» против плавучей веранды выносили узлы и чемоданы, громоздя их на телегу ломового извозчика: по случаю объявления войны дачники преждевременно покидали этот демократический, «ситцевый» курорт.
СЛУЧИЛОСЬ неожиданное и странное: жена разлюбила его, а может быть, и прежде никогда «по-настоящему» не любила. Вспомнил свои колебания и недоумения перед свадьбой, когда ему казалось, что Наташа выходила замуж, не любя его, хотя и по собственной воле: ей хотелось тогда вырваться из мрачного дома Черновых, освободиться от родительского гнета, известный художник казался ей подхдящей партией. На самом же деле ее и в те времена тянуло к изящному, светскому красавцу — доктору Зорину, но по молодости и неопытности своей Наташа не смогла разобраться в собственных чувствах. Теперь-она встретила своего героя в иной обстановке, и давнишнее влечение вспыхнуло с новой силой.
Валерьян залпом выпил вино, наполнил стакан и снова осушил его. По жилам разлилась жгучая теплота. Голова слегка затуманилась, его охватило грустно-при-ятное, мечтательное настроение, в мозгу одна за другой? загорались искры, всплывали неожиданные образы, красивые и печальные, как музыка во сне.
Солнце опускалось к закату, освещая нежную зелень виноградников на склонах гор, играя фантастическим пламенем на венецианских окнах балаклавских дворцов. Жара спадала; от бухты пахло нежно-свежим, терпким запахом моря.
Валерьян вспомнил балаклавское предание об итальянском пароходе с золотом, затонувшем около бухты во время Крымской войны. Почему-то вдруг ожил в памяти романтический герой «Тружеников моря» Виктора Гюго: там человек, чтобы поднять затонувшее судно, опустился в морскую глубину, боролся с гигантским осьминогом, победил, и когда, израненный, обезображенный щупальцами спрута, явился к любимой женщине, ради которой совершил героический подвиг, вид его ран внушил ей ужас и убил любовь; вместо него она за это время полюбила другого — красавца «с благородным, бледным и нежным лицом»... Герой Гюго устраняет себя: садится на уступе скалы, заливаемой морские приливом, и море поглощает его. Красиво и трогательно описано это в старой романтической книге. Валерьян чувствовал горькую сладость такого самопожертвования: ведь и он также совершал подвиги для спасение Наташи от смерти. Разве это не подвиг — оставить любимое дело, отказаться от славы, от успехов, скатиться с верхов жизни — и спуститься в безотрадное забвение для борьбы с чудовищем, которое душило Наташу своими холодными щупальцами?.. И все же он спас ее — годами отчаянной борьбы, поставив на карту всю свою судьбу, спас ей жизнь — для красавца Зорина, такого симпатичного, «с благородным лицом», как бы созданного для любви...
Ну, и пусть Наташа будет счастлива, а он уйдет на встречу приливу. Прилив надвигается грозно, море жизни огромно, оно незаметно поглотит его.
Валерьян выпил всю бутылку, спросил другую. Вино не пьянило его, только воспламенялась фантазия, и в ней всплывали мрачные образы, толпились горькие мысли.
Пурпурный закат пылал призрачным, холодным пожаром на спустившихся, тихо плывших облаках. Валерьян грустно следил за их незаметным, волшебным изме-нением. Позолоченные солнцем облака громоздились над вершинами гор и казались сказочным городом, возникшим в небе. Высились розовые, стрельчатые башни с зо-лотыми кровлями, зубчатые стены, ограждавшие хрустальный замок. Все это медленно плыло, постепенно принимая все новые, фантастические формы: исчезли башни, дворцы и замки, словно кто-то смял их, смешал в бесформенную груду, и оно внезапно принимает образ гигантской головы с длинной, белоснежной бородой, с горбатым носом и маленькой шапкой на ней... Голова плывет, лицо изменяется, нос наклоняется к другому облаку, принимающему форму раскрытой книги...
Это старый еврей с картины Валерьяна «Погром». Но еврей уже изменился, начал таять, разрушаться; нос отделился, присоединившись к загнувшейся вперед бороде, книга разорвалась пополам. Еврей исчез, но вместо него образовались другие фигуры: бродяги среди снегов сидят у костра...
Все написанные им картины одна за другой в преувеличенном виде отражаются в облаках, расплываются там, распадаясь на части. Не написать ему их больше. Нет в нем прежней цельности и ясности. Он еще молод, полон сил, многое мог бы создать, но в душе, в самом темном ее уголке, прячется притаившийся страх, что задолго до заката его дней происходит закат таланта. Не тянет больше к холсту, а то, что писал он за последнее время не захватывало его, оставалось в эскизах, и набросках и, едва намечаясь, расплывалось, как эти облака Что за причина такого раннего угасания? Единственно, что ему удалось хорошо написать года три назад, — это фантастическую головку женщины с лицом и больными главами Наташи, но эта картина осталась неоконченной: не хватило сил, слишком мучительно было писать такие глаза.
Если бы Наташа понимала, до какого отчаяния он довел себя, — ободрила бы, вдохновила, протянула руку...
Вдруг Валерьян рассмеялся: неожиданно вспомнился мотив грустно-комической песенки:
Он был титулярный советник, Она — генеральская дочь. Он в пылкой любви объяснился, Она — прогнала его прочь.
Это он, Валерьян, когда-то прославленный художник, оказался теперь в роли прогнанного. Ха-ха! Несчастная любовь! Р-разбитое сердце! Что же, серными спичками отравиться или броситься в бухту? Из-за очей прекрасных —
Пошел титулярный советник
И пьянствовал целую ночь,
И в винном тумане носилась Перед ним...
— Ку-пе-че-ская дочь, — вслух напевал про себя Валерьян и захохотал один на пустой веранде. До чего он, однако, напился!
Закат разгорался все пышнее и ярче; почти половина неба над горами покрылась жаром, золотом и кровью.
На веранде послышались шаги. Валерьян вздрогнул и оглянулся: по лесенке поднимались двое — Василий Иваныч и маленькая, смуглая брюнетка с ним.
Певец представил ее Валерьяну, назвав нерусскую фамилию. Оба они сели за его столик. Художник с удивлением посмотрел на новую знакомую. Ей казалось не более двадцати четырех лет. Одетая по-домашнему, как все в Балаклаве, с открытой головой, с большой вязаной шалью на плечах, юная артистка была стройна и красива, с высокой, крепкой девичьей грудью. В черных блестящих волосах ее дрожала свежая темно-красная роза. Лицо неправильное, смугло-оливковое, цыганского типа, с сочными, алыми губами и золотистыми, карими глазами.
Василий Иваныч заговорил о предстоящем концерте, о том, что будут выступать известные писатели, проживающие недалеко от Балаклавы, что придется съездить к ним.
Молодая женщина слушала рассеянно, иногда напевая что-то вполголоса на низких нотах, звучавших, как виолончель, и не сводя с Валерьяна робкого, но любопытного взгляда немигающих лучистых глаз.
Валерьян улыбнулся ей.
— Я люблю виолончель, — сказал он, намекая на ее голос.
— Меня зовут — Виола, — альтом засмеялась певица.
— Разве есть такое имя?
— Есть. Еврейское, на молдаванский лад. Я родилась в Кишиневе. Отчего вы не пришли с ним ко мне?
— Да так, не хотелось надоедать.
Виола нетерпеливо повела плечами.
— Напротив, вы — мой любимый художник, перед вашими картинами я плакала, мечтала когда-нибудь хоть издалека увидеть вас... Ну вот — увидела, и нет у меня никаких слов. Ах, эта ваша картина еврейского погрома, этот старый еврей, читающий на развалинах древнюю книгу — должно быть о страданиях еврейского народа! Ведь это всю душу переворачивает. Когда мне сказали, что «мой-то» обожаемый художник сидит здесь и неумеренно пьет вино, у меня сердце кровью облилось... Я побежала... отвлечь вас...
Валерьян засмеялся. Улыбнулся и Василий Иваныч, но Виола смотрела в глаза художника с наивным сочувствием.
- Вы несчастны в личной жизни, я знаю, слыхала.. Но довольно же вам пить, поедемте с нами.
— Куда?
— В лодку, — вмешался Василий Иваныч, — в колонию писателей, приглашать их на вечер. Я уже заказал лучшую лодку с парусом и отборными гребцами. Э, да вот и они! Заночуем там, а утром обратно.
— Что ж, — равнодушно согласился Валерьян, — мне все равно. Знаю я эту колонию.
К «поплавку» подъехала большая, четырехвесельная белая лодка с мачтой и свернутым парусом. В лодке сидело пятеро молодых парней в шерстяных вязаных фу-файках, с открытой грудью, с голыми мускулистыми руками.
Василий Иваныч подошел к ступенькам веранды, спускавшимся прямо в воду в сторону бухты.
— Готово, ребята?
— Есть! — браво ответил рулевой, блондин с серебряной серьгой в ухе. — Будьте покойны, Василий Иваныч, наша «Слава» на гонках первый приз взяла. Вот только жалко — штиль. На веслах придется идти. .
Валерьян первым спустился в лодку, подал руку Виоле. Маленькая смуглая ручка певицы была крепка и горяча, золотистые глаза улыбались.
— Ну, теперь берегитесь все, — торжественно заявил величавый бас: — я иду.
Лодка при общем смехе закачалась от его тяжелых шагов.
Василий Иваныч сел рядом с Виолой, Валерьян напротив них. Гребцы подняли весла, разом погрузили их в густую синьку бухты.
Быстро вышли через «горло» и заскользили по зыби открытого моря, держась вдоль скалистого берега, вверху покрытого виноградными садами. Пахло морем и виноградом.
— Вот с этой скалы, — показал рулевой, — в старые годы девица одна бросилась в море через любовь, через разбитое сердце...
Рыбаки засмеялись.
— Ну, — шутливо возразил Василий Иваныч, — в старину сердца прочнее нынешних были: разбивались только в самых серьезных случаях. Оттого о таких разбитиях и помнят до наших дней. А нынешние сердца разбиваются от каждого пустяка; но в море из-за этого ни одна девица не бросается, потому что все равно никто не обратит внимания. Как вы думаете об этом, Виола?
— Думаю, что из-за нынешних мужчин не стоит убиваться.
— А из-за женщин? — спросил Валерьян.
Вместо ответа певица с грациозной гримаской показала мужчинам кончик языка и пошевелила им, как жалом.
— Где здесь, Сережа, пароход итальянский затонул? - обратился Василий Иваныч к рулевому.
— А вот в акурат насупротив бухты. Считается, сорок сажен глубины... Лазили водолазы сколько разов, но ничего поделать не могли: песком засосало. Говорят один человек так и остался там, затонувши...
— Труженики моря, — вздохнул Валерьян.
— Денег там — сорок миллионов.
— Около такого капитала живете, а достигнуть не можете, — дразнил Сергея Василий Иваныч.
— Наш капитал — море. Зимой на белугу ходим, в самый шторм. Случается, половина лодок ко дну идет, зато уж, как попадется белуга с икрой, тогда сразу у всех деньги, гуляем с неделю, покудова все как есть не спустим.
— А зачем так делаете?
— Эх, Василий Иваныч, рыбацкое дело такое — либо пан, либо пропал. Море-то зимой не свой брат, едешь и думаешь: ворочусь ли?.. И деды и прадеды наши на морских волнах помирали...
Рыбаки молча ухмылялись, дружно работая веслами.
— Потомки генуэзцев, — заметил художник. — Я представляю себе Балаклаву, какой она была в пятнадцатом веке: крепость на горе, а по набережной ходят люди в широкополых шляпах, в коротких плащах, с длинными шпагами, с длинными лицами...
— Романтик вы, — покачала головой Виола: — видите то, чего никто не видит... Времена плащей, шпаг, дуэлей, серенад — все это теперь только в пьесах да операх осталось.
— Издали все красиво, — заметил Василий Иваныч: через полтысячи лет и наши времена покажутся интересными. Вот война начинается. Будет героизм, битвы... подвиги...
— Ненавижу войну! — страстно прервала его Виола. - Поведут на убой наших братьев, мужей, женихов... Из-за чего, для кого, кто устраивает этакий ужас?..
— Ага, вы начали из другой оперы, Виола. В этом — трагедия войны... Она — ужас и мерзость, но описывать ее буду г красиво. Вот как раз сегодня в газетах есть описание нерпой битвы русских с германцами: поднялись в облака два аэроплана — наш и немецкий, сцепились, как две хищные птицы, и — упали с облаков вместе. А внизу две армии одна против другой, как муравьи, зарылись и землю.
— Крымский эскадрон уже отправили, — сказал Сергей, внимательно слушавший. — Коней забирают самых лучших...
— Плохо, что в нашей народной толще нет подъема. Никто не сочувствует этой войне, никому не понятны причины...
— Не хочу ни говорить, ни думать о причинах, — закричала Виола. — Жизнь прекрасна, коротка, дается человеку один только раз. Бросьте про войну! Посмотрите, какая красота!
Лодка быстро мчалась по едва дышавшему морю. В туманной дали на горизонте шел в Ялту черный грузовой пароход. От зеленых гор в море падали длинные тени. Солнце пышно угасало, озаряя нежную зелень виноградников.
— Какой закат! — восхищалась певица. — Художник, что же вы молчите?
— Художники красками говорят, не словами, — возразил Василий Иваныч, — певцы — звуками. Ну-ка, можете вы сейчас спеть что-нибудь о закате?
Как ярко солнце в тихий час заката.,.
Не докончив куплета, она опять показала басу язык.
— Что, взяли?
Голос у нее был такой же золотистый, как и глаза, не контральто, как можно было ожидать по низкому тону, в котором она говорила, а, вероятно, меццо-сопрано.
— Спойте дальше! — поощрил певицу художник. — Замечательно красивый мотив. Да, тихий час заката. Как хорошо!
— Это — народная, неаполитанская песенка, по содержанию довольно-таки глупенькая. Вы бывали в Неаполе?
— Случалось.
— А еще где были?
— Я много ездил... по всем морям... На Востоке, например, в Японии был...
— Ах, Япония — мечта моя.
— Но вы недокончили песни.
— Да? Вас интересует этот пустячок? Ну, дальше поется так:
Я знаю солнпе еще светлее:
И это — очи твои, милый друг.
— Очи, очи! — с добродушной иронией проворчал Василий Иваныч. — Ах, уж эти сочинители романсов! Пишут для теноров и сопрано — и все про очи, будь они
неладны.
— Кто — неладны? Сочинители или очи?
— И те и другие.
Валерьян молчал. Очевидно, Василий Иваныч нашел себе на сцене какую-то Виолу, и вот концертируют вместе. Оба молодые, здоровые, свободные... Скучно и за-видно смотреть на чужое счастье. Закат угасает, но завтра взойдет утреннее солнце. Взойдет ли оно и для него? Как грозовая туча, надвигается огромная, страшная, непонятная война; не нужны будут теперь художники, певцы, певицы и эти мирные, наивные песенки любви. Поздно нашел себя неудачный земский врач Василий Иваныч, разочарованный народник... Конченные, ненужные люди, не замечающие, что эпоха, в которой они были нужны и значили что-то, оборвана внезапно зазвучавшим громом чудовищных пушек; а певцы все еще поют старые песни, художники пишут никому не нужные картины...
— У вас больное лицо, — участливо сказала ему певица. — Что с вами?
Валерьян принужденно улыбнулся.
— Просто — голова болит. Вино и море плохо действуют на нее.
— Так вы прилягте, голубчик. Ничего, не стесняйтесь: вас укачало. Вот возьмите мою шаль!
Лодка слегка покачивалась, быстро скользя по зыби. Багровый закат бледнел, как догорающие уголья, подернутые пеплом. Облака сгрудились и тяжело лежали над гребнем гор. Им хотелось спуститься к морю, но море влажным своим дыханием не пускало их. В волнах кувыркались дельфины.
- Прнналяжь, ребята! — озабоченно смотря на горизонт, с т. а нал рулевой. — К ночи свежий ветер будет,
Угасающий накат отливал потоками расплавленной меди.
Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно... —
вполголоса напевала Виола.
К золотым струнам ее красивого голоса внезапно прильнул баритональный, светлый бас:
Смело, братья, ветром полный.
Парус мой направил я...
Голоса мужской и женский как бы боролись между собой, переплетаясь в красивых аккордах.
Виола на момент умолкла. Тогда высоко, полно и легко взлетела и понеслась ввысь хрустально-прозрачная, широкая, предостерегающая волна сдержанно-мо-гучего голоса:
О-бла-ка... бегут над морем,
Крепнет ветер, зыбь черней...
Будет б-бур-ря...
Море звенело, словно аккомпанируя прекрасному пению. Казалось, что не певец пел, — облака неслись высоко над морем.
Когда Валерьян проснулся, была уже ночь. Его разбудили ощущение холода и громкие крики лодочников. Они суетились, спорили, ругались и гребли стоя, лицом вперед, изо всех сил налегая каждый на свое весло. Лодка качалась всего саженях в двух от крутого берега, но гребцы никак не могли пристать к нему, хотя весла гнулись под сильными руками здоровых парней: с берега дул ураганный ветер, пригибавший почти к земле прибрежные кусты; но море казалось спокойно, волны бежали от берега вдаль. Мачта была снята. Работа гребцов могла держать лодку только в состоянии неподвижности. Ветер ревел, выл и визжал в ушах. Рулевой стоял на носу лодки с багром в руках. Все кричали. Василий Иваныч сидел у руля. Виола оказалась на дне лодки, подле Валерьяна. Ее черные волосы развевались по ветру.
— Что такое? — недоуменно спросил художник.
— Береговой ветер, — сквозь завывание бури и крики лодочников сказала она.
Но только по движению губ он понял ее.
По небу из-за гор ползла черная туча. Накрапывал дождь. Из-за гор доносилось отдаленное рычание грома.
Гребцы отвоевывали у ветра каждый вершок движения лодки. лодки. Расстояние медленно сокращалось. Весь вопрос был в том, хватит ли у них последних сил: гребцы задыхались от усталости, по лицам струился пот, руки и ноги дрожали от напряжения. Наконец лодка приблизилась настолько, что рулевой раскачал и бросил вперед маленький якорь с привязанной к нему веревкой. Якорь зацепился за камень, веревка натянулась. Это вызвало радостный крик всех находившихся в лодке. Ее подвели к берегу, гребцы один за другим выпрыгнули на сушу, уцепились за веревку, закрепили якорь. Валерьян и певец тоже спрыгнули на берег, подхватили под руки Виолу. Туча покрыла все небо над морем.
— Ну, спасибо, — слышались голоса в темноте.
— Кабы не прибились, унесло бы верст за двести.
— А что ж, поплавали бы, да и вернулись.
— Вернулись! Могли бы в Турцию попасть, а то и к рыбам.
Сверкнула молния, и почти одновременно с ней над берегом и морем с треском раскатился продолжительный громовой удар. Виола вскрикнула, зажимая уши. Рыбаки сняли картузы, перекрестились. Дождь зашумел крупными, редкими каплями.
— В первый раз вижу грозу над морем, — сказал Василий Иваныч, надевая холщевый балахон с капюшоном.
Виола с головой накрылась шалью.
— Куда же мы спрячемся от дождя? — спросил Валерьян, озирая берег.
В темноте едва можно было различить кусты, огромные камни и отвесную, гладкую стену высокой горы.
— Лодку сейчас вытащим, под лодку залезем, — отвечали рыбаки, — а то под камнями.
Под камнями пещеры есть.
Гребцы принялись вытаскивать лодку.
— Пойдемте искать убежище, — предложил Василий Иваныч
У подошмы горы громоздились обломки скал, словно сброшенных когда-то с вершины. Три больших пирамидальных камня « клонясь верхушками, образовали как бы шалаш. Втроем залезли туда. Хлынул ливень. Тьму ежеминутно разрывала яркая, трепещущая молния. Почерневшее, ревущее море на момент освещалось до горизонта. Потом все опять погружалось в непроглядную тьму. Гром беспрерывно раскатывался над волнами.
— Словно черти в кегельбан играют, — рычал, согнувшись в три погибели, Василий Иваныч. — Что-то будет с нашими голосами, Виола? Сядемте плотнее: так теплее будет.
Он закурил папиросу, выпуская дым в расщелину скалы.
Виола, кутаясь в шаль, сидела между спутниками. При вспышках молнии выступало ее побледневшее лицо с большими глазами, на выбившейся пряди черных волос дрожали дождевые капли.
Через несколько минут в щели сверху несколькими струями побежала дождевая вода.
— Здесь еще хуже, чем под дождем, — насмешливо сказала Виола.
Валерьян молчал, кряхтя и кутаясь в плащ.
В один из перерывов дождя он выглянул в отверстие между камней. Молния озарила весь берег.
— Там виднеется пещера под скалой, — сказал он, вылезая.
— Не ходите! Промокнете, — протестовала Виола,
— Но ведь и здесь не сухо.
— А по-моему, лучше под лодку! — возразил певец.
Валерьян подбежал к щели в отвесной скале, пролез и оказался в просторной и совершенно сухой пещере е остатками пепла от недавнего костра. Он сгреб ногой в сторону пепел: каменный пол был горяч, как русская печка в избе.
— Сюда! — закричал он в отверстие, но удар грома заглушил его голос.
Снова хлынул дождь. Вспыхнула молния и осветила певцов, бежавших к опрокинутой лодке, подпертой веслами и накрытой парусом. «Пожалуй, что и под лодкой не плохо», — подумал он и успокоился за своих спутников, располагаясь на теплых гладких камнях.
Когда дождь утих, он услышал мелкие шаги и голос Виолы:
— Вы здесь?
— Здесь, — глухо ответил Валерьян. — Залезайте, тут хорошо.
В темноте он не видел, как она оказалась рядом Маленькая рука женщины встретилась с его рукой.
— Старый бродяга! — прозвучал мелодичный голос. — Отлично устроился — и молчит!
— Я звал вас. А Василий Иваныч?
— Он под лодкой. Там сухо, но холодно, рыбаки махорку курят. Я и пошла вас искать. Согрейте меня, боюсь без голоса остаться. Отчего камни теплые?
— Тут был костер.
— Накройте мне ноги.
Художник укутал певицу. Она доверчиво и просто прижалась к его плечу. Валерьян почувствовал теплоту ее молодого, крепкого тела.
— Мне вас жаль стало, — шептала Виола: — говорили, что у вас больная жена. Вы любите ее?
— Да, — сухо ответил Валерьян.
— Сочувствую вам. А у меня муж больной: заболел психическим расстройством вскоре после свадьбы... Сидит теперь в сумасшедшем доме... Ужасно!
— Никак не ожидал, что у вас есть, или скорее — был, муж.
— Замужем я была всего три недели, — усмехнувшись, продолжала певица, — и мучаюсь теперь с безнадежно больным человеком, навещаю его. Да что? Разве это человек? Животное. Он не узнает меня, да я и не любила его никогда, так, из жалости какой-то вышла. Очень уж он любил меня, а потом вдруг заболел. Поступила в театр — на вторые роли: не везет мне. Кончила консерваторию, могу петь «Аиду», а мне дают роли горничных, вроде «Не простудилась бы барышня» в «Онегине». Только и показываю голос, когда в концертах выступаю. Знаете, в какой роли я хотела бы когда-нибудь выступить? В «Мадам Бетерфлей» — из японской жизни. Слышали эту оперу? Ее почему-то редко ставят, но какой там трогательный образ японочки, которая считает себя «мадам Бетерфлей» — женой английского лейтенанта! Он, конечно, пожил с нею, да и уехал навсегда, а она-то ею ждет. Ах, как бы я спела ее! Мне почему-то близка эта роль. Предчувствую, что я и сама в жизни— «мадам Бетерфлей», мечтаю встретить этакого необыкновенного человека, сильного, который выдавался бы чем-нибудь, чтобы мог поднять женщину вот так — выше себя, над головами толпы. Как я любила бы его!.. Потом он, конечно, бросил бы меня, но я все бы ждала. Я и теперь жду, что явится он на моем пути, этакий цыганский барон, который «ходил три раза кругом света и научился храбрым быть». Но нет его. Все еще нет. Никому не нужны ни моя молодость, ни красота, ни голос. Муж? Какой он муж? Я и не допустила его до себя. Поехала сюда, думала — хоть бы с кем-нибудь душу отвести. Ведь это совсем недавно случилось, что помешался он. Отвести душу хочется, но уж, конечно, не с милейшим Василием Иванычем. Слишком прост, хотя и талантлив. Он ведь тоже, как и я, начинающий.
— А я думал, что вы близки с ним.
Виола рассмеялась,
— Я тоже думала, что вы так думаете. Нет, он только сослуживец мой, хороший товарищ — и больше ничего. Не моего романа.
Гроза утихала. Изредка погромыхивал удалявшийся в море гром. Дождь шел тихо, шелестя по песку. Виола замолчала, глубоко и печально вздыхая.
«Странная и, должно быть, несчастная. Неудачница в жизни и на сцене, — подумал Валерьян о своей собеседнице. — И зачем она все это рассказывает мне?»
— Вот встретились вы, — вздохнув, продолжала певица. — Вы меня извините, что я вам при первой встрече открываю душу: это — потому, что я вас давно знаю по вашим картинам; вы помимо моей воли — близки мне, как и многим, кто любит вас, как художника. Встретились так странно, в грозе и буре — в буквальном смысле. Вы оказались таким, каким я вас воображала: высокий, суровый, немного мрачный, каким и должен быть творец «Погрома». Встретила и — потеряю наверно. Начинается война... Сколько погибнет сильных, храбрых, молодых!.. Может быть, все погибнем, может быть, не встретимся больше...
— Я уезжаю на фронт, — внезапно и неожиданно для себя сказал Валерьян.
— На фронт! — страстно вскричала Виола, цепко схватив обеими руками его большую руку. — Зачем? Что вас заставляет? Ведь вы не офицер, вас не призывают.
— Меня не призывают, я сам хочу ехать... в качестве самого себя... Меня интересует война...
— Милый, не ездите!.. Ведь это же ужас... это... это... Мало ли от какой случайности можно погибнуть! От какой - нибудь шальной пули, от... мало ли чего. Вспомните, как погиб Верещагин.
— А жена? — вдруг вскричала она, всплеснув руками - Неужели она согласна вас отпустить? Ведь она больная и уж, конечно, любит вас?
Валерьян вздохнул.
— Разлюбила, — с грустной усмешкой сказал художник. — Отпустила на все четыре стороны...
— Это больная-то? Что-то не так.
— Именно так... Впрочем, оставим это, мне тяжело,
— Милый, простите, не буду. Но я так близко приняла это к сердцу... Разлюбила...
В тоне ее последних слов Валерьян почувствовал грусть и вместе с нею плохо скрытую радость.
— Поговорим лучше о вас. С кем же вы думаете отвести вашу душу?
— Ни с кем. Вот — с вами бы, но вы недосягаемый для меня, неприступный. И уж, конечно, вам давно надоели такие поклонницы, как я... Вы особенный, в вашем сердце не найдется для меня даже маленького местечка, я это чувствую. И, пожалуйста, не думайте, что я с места в карьер липну к вам. Я не из тех, которые легко увлекаются. Я — злая, гордая, самолюбие на сцене изранено. Многие у нас в труппе, привыкшие легко смотреть на молодых актрис, вылетали от меня бомбой. Оттого и не пускают на первые роли. Я недавно дала пощечину нашему премьеру, знаменитому тенору, получающему 12 тысяч в год. Толстый такой, жирный, глупый, но голос — божественный! Такова сцена - там не требуют ума, таланта, души. Ценится какое-нибудь верхнее «ля» — и больше ничего, Счастливое устройство голосовых с связок. И сколько там дураков, невежд и мерзавцев! Ненавижу их, а сцену— люблю. Одинока, горда, несчастна. Но я была бы счастливой от самой маленькой дружба с вами. Ведь вам тоже надо отвести душу. Давайте отведемтe вместе. Отдайте мне эти несколько дней, чтобы я могла помнить о них всю мою остальную жизнь.
Виола, все крепче прижимаясь к нему, запрокинула голову, приблизим лицо к его лицу, и, улыбаясь, закрыла глаза. Ему стоило только наклониться, чтобы поцелоать ее. Теплота ее тела волновала его, упругая девичья грудь прижималась к его руке. Кровь закипала от ее низкого вибрирующего голоса. Ее горячее дыхание закружило ему голову, губы их сблизились. Виола лежала у него на плече в страстной истоме. Валерьян крепко обнял ее, мягкие женские руки обвили его шею. Вдруг сверкнула зарница, осветила бледное лицо Виолы с закрытыми глазами и мгновенно погасла. Валерьян вздрогнул: в моментальной вспышке голубой молнии, казалось, промелькнула тень, и перед его взором встала во тьме Наташа.
Только что утром расстался с ней, говорил, что ее место в его сердце никогда никем не будет занято, а вечером уже лежит в объятиях первой встречной, путается с какой-то певичкой. Зачем ему эта возможная физическая связь с актрисой? Хочет, чтобы он поднял ее выше себя, над головами толпы, служил ей. Не довольно ли он поднимал одну, чтобы тотчас же начать подниматьt другую, да еще без любви? Ведь он внутренне холоден к Виоле, его душа полна по-прежнему Наташей. Нет, он не поцелует эту неизвестную ему, льнущую к нему женщину.
Валерьян все еще держал в объятиях Виолу. Но руки его, словно по чьей-то посторонней воле, освобождали покорную талию Виолы.
Тень пропала, и Валерьяну стало казаться, что это была только его постоянная мысль о Наташе, галлюцинация, порожденная излишне выпитым вином.
Виола, вздрагивая всем телом, беззвучно плакала на его плече. Чуть слышно плескалось море о прибрежные камни. Сквозь расщелину скалы пробивался голубой рассвет.
X
В погожее октябрьское утро солнышко светило почти что по-летнему; на небе ни облачка, воздух не шелохнет: ветреная, на редкость теплая осень выдалась.
Сидел Сила Гордеич по нездоровью, вместо прогулки, на лавочке у ворот собственного дома: доктор Зорин велел на воздухе больше быть. Сильно пошатнулось здоровье: плохо спалось, совсем измучила бессонница, думы одолевали, а перед глазами все какие-то черные точки плавали, как мухи. Слабость во всем теле, ноги чуть двигаются, мелкими шажками по земле шаркают.
Начавшаяся война сильно тревожила Силу Гордеича: еще до войны, по совету Крюкова, положил он большой капитал в заграничный банк на случай революции, а теперь, поразмыслив, покаялся, послал письмо о пер-воде ему вложенных денег обратно. Что именно заставило его так поступить — он никому не говорил, но по-видимому, кроме присущей ему осторожной дальновидности, тут имели значение соображения государственного порядка. Сказалась и отеческая любовь к собственным деньгам, — для него они были живым существом, созданием всей его жизни: никак не мог расстаться с ними Сила Гордеич, нежно, ревниво любил их, пуще детей родных; так пусть они вернутся к его любящему сердцу.
Война началась небывалая. По мнению Силы Гордеича, ставилось на карту самое бытие государства. В деревнях остались только стар да мал, да бабы; запасных гнали на войну бесчисленными поездами. Опустели дворянские гнезда, многие соседи-помещики, бывшие военные, оказались на фронте, а некоторые, немедленно по прибытии туда, сложили свои головы на полях брани.
Не осталось в стороне и купечество. Крюков, как бывший офицер, сбрил бороду, закрутил усы, надел форму, уехал в кавказскую армию. Пишет теперь из Баку: состоит командиром гарнизона, заведует продовольствием, получил повышение в чинах. Этот не сложит го-ловы, в тылу отсидится, да еще, пожалуй, около продо-вольствия заработает.
В земскую организацию поступил Константин, уехал н Киев: иначе ведь в действующую армию заберут.
Зять Валерьян сдал жену родителям на хранение и укатил в Москву, тоже на фронт собирается: военные картины хочет рисовать, деньги заработать, а иначе — кому теперь нужны художники? Думал Сила Гордеич — не отпустит его Наташа; нет, отпустила. Пошли темные сплетни но городу, что, дескать, нелады у них, будто бы Зорин к Наташе примазывается — конечно, из-за денег. Да не бывать лому, чтобы и вторая дочь от мужа к другому ушла! А уйдет — ни копейки не получит, как с Варварой было. Зорин — не дурак, чтобы без денег чужую жену взять, да еще больную... Ежели на наследство рассчитывает, так он, Сила, тоже не глуп: такое устроит завещание — комар носа не подточит. Тоже и Варвара смерти его ждет — не дождется. Собиралась все к мужу, а тут — война, границу закрыли. Оно и лучше, чем в эмиграции горе мыкать, лохмотья трепать.
Казалось Силе Гордеичу, что все дети смерти его хотят. Когда думал о Варваре, ненавистнице своей, стяжательнице, когда вспоминал, что Зорин лечит его, а сам Наташке голову крутит, — невольно сжимал костлявые кулаки, сердце колотилось, голова кружилась, и черные мухи сильнее мелькали в глазах. Ехал мимо извозчик — что за чудо, двоится извозчик! Лошадь и пролетка в двойном виде кажутся. Люди идут мимо, собака ли пробежит — все в двух экземплярах, рядышком, боком к боку или друг над дружкой мерещатся. Встал Сила Гордеич со скамейки, хотел в дом воротиться, но тут земля под ногами закачалась, завертелась, как мельничный жернов, в глазах потемнело, и упал миллионер Сила Чернов лицом в грязь у ворот собственного дома без сознания.
Что потом было — Сила Гордеич не помнил; очнулся в дверях своего дома: кучер Василий с Кронидом под руки его вели и потом на диван в кабинете положили. После этого опять впал в забытье. Приехал Зорин, заставил выпить микстуру, и пришел в себя Сила Гордеич. Рассказали ему, что Василий, выйдя за ворота, нашел его в бесчувствии лежащим на земле у калитки. Долго ли он так лежал, никто не знал: в доме народу много — жена, дети, внуки, прислуга, но, видно, никому невдомек было присмотреть за больным стариком. Посоветовал доктор водочку бросить и режим жизни изменить.
— Ваше дело стариковское, — улыбаясь, сказал ему Зорин: — организм изношен, сердце потрепано, за графинчиком с приятелями засиживаться перестать при-дется, а режим вот какой нужен: вечерком легкого чего- нибудь покушал, «Четь-минеи» почитал — правильные старики обязательно на ночь «Четь-минеи» читают, — а как девять часов — в постельку и — бай-бай!
— Никогда еще не было, чтобы ни с того, ни с сего в глазах двоилось, — оправдывался Сила Гордеич. — Разве что когда случалось рюмок тридцать выпить.
— Нет, уж насчет рюмочек и думать забудьте. Режим станете соблюдать — до девяносто лет доживете; а иначе — бойтесь кондрашки, серьезно вам говорю.
Сила Гордеич покрутил головой, помолчал и вдруг спросил:
- А как вы скажете, доктор, могу ли я считаться сейчас в здравом уме и твердой памяти?
— Вполне, и очень даже.
Сила, хитро улыбаясь, протянул ему руку,
— Ну, спасибо, очень вам благодарен.
По уходе доктора долго сидел один в кабинете, перебирая бирая бумаги, и вдруг велел позвать сверху Кронида, Тот пришел по обычаю своему с веревочкой в руках и, шагая из угла в угол по кабинету, спросил, ухмыляясь в седеющую бороду:
— Что прикажете, дядюшка?
Сила Гордеич сидел, понурясь, в кресле у письмен-ного стола. На столе, как всегда, стояла большая сереб-ряная чернильница в виде шкуры медвежьей — давнишний подарок Валерьяна и Наташи, в день их свадьбы, Упершись морщинистыми руками в иссохшие колени, он хрипло прошептал:
— Прежде всего — сядь, не мотайся перед глазами, брось веревку. Разговор будет серьезный.
Кронид послушно сел, сунул в карман заплетенную плеткой веревочку.
— В животе и смерти бог волен, — начал Сила Гордеич внушительно, — все под богом ходим. Однако пос-ле этого случая чувствую — подходит конец моего зем-ного странствия... недолго проживу.
— Как знать, дядя. Чего вы испугались? Доктор говорит — безусловно ничего опасного.
- Что мне доктор? Сам чувствую. А посему желаю пересмотреть и вновь завещать мою последнюю волю. Помирать-то не сейчас собираюсь, может, и не один год приживу еще. А все-таки, пока нахожусь в здравом уме и светлой памяти, решил привести свои земные дела в окончательный порядок. — Помолчал, крякнул и доба-вил ни то: — Позвони пойди нотариусу, чтобы сейчас же беспременно ехал... чтобы все дела бросил... Нынче же и напишем. Да гляди, чтобы ни одна душа в доме не знала.
Кронид пошел в прихожую. А Сила Гордеич, кряхтя, вынул из несгораемого шкафа большой лист синей гербовой бумаги.
Минут через пятнадцать приехал нотариус, — давнишний приятель, осанистый, грузный человек с красным лицом и большой седой бородой, расчесанной на груди на две стороны.
Все трое заперлись в кабинете.
— Опять переделывать? — потирая руки, спросил нотариус. — В третий раз уже, Сила Гордеич!
— Ничего, время такое... изменчивое. Ты, друг, извини за беспокойство, теперь уже в окончательном виде.
— Что ж, составим предварительный проект.
— Проект приблизительно прежний, — кряхтел Сила, опустив голову и жуя губами. — Кое-что добавить да изменить придется.
Нотариус сел к столу, придвинул лист простой бума-ги и обмакнул перо.
— Пиши, как полагается! По всей форме.
Поскрипев пером, нотариус прочел вслух вступитель-ные строки завещания и вопросительно посмотрел на завещателя.
Сила Гордеич вздохнул.
— Волчье Логово по-прежнему — старшему сыну Дмитрию, Березовку — младшему. Дома продать и вырученную сумму включить в общий капитал... Денежные суммы тоже без изменения: сыновьям — по сто тысяч, младшей дочери — сто, а Варваре — тридцать... жене моей — пятьдесят тысяч.
— Воля ваша, дядя, — прервал Кронид Силу Гордеича, — но позвольте за Варвару слово сказать. По-моему, напрасно ее обижаете.
Сила Гордеич стукнул костлявым кулаком по креслу.
— А тебе какое дело? — вдруг взвизгнул он. — Это враг мой: ненавидит меня, социалистка... Кабы не дети у нее — ни гроша не дал бы.
Сила Гордеич сам испугался своего волнения и громкого крика, сдержал душившую злость, отдышался и добавил низким шепотом:
— Дети-то, конечно, не виноваты.
— То-то и есть, что дети, — вздохнул нотариус.
Завещатель помолчал, пожевал губами и, вдруг ослабев, махнул рукой.
— Ладно уж, пишите и ей... поровну с Натальей...
— Вот хорошо, — обрадовался Кронид, пряча в карман веревочку.
— Хорошо, — передразнил его Сила. — Плакали мои денежки. Сам на себя дивлюсь: смягчился я что-то под конец жизни моей. Все-таки — дочь ведь. — Засопел носом, задышал, стараясь удержать слезы, навер-нувшиеся на глаза.
— Только вот что я обдумал и решил, — успокоив-шись, продолжал он: — из денег, завещанных сыновьям и дочерям, выдать наличностью по двадцать тысяч каж-дому на воспитание детей, а остальные положить в банк на двадцать четыре года. В случае смерти моих детей капитал переходит к внукам через указанный срок.
— Здорово! — удивился Кронид.
— И мудро, — одобрил нотариус.
— ...Предоставляя, конечно, право пользоваться про-центами, — закончил Сила Гордеич и юмористически посмотрел на Кронида. — Племяннику моему Крониду десять тысяч наличными и хутор в Алатырском уезде, Довольно, чай, Кронид? У тебя ведь ни жены, ни детей.
— Покорнейше благодарю, — сухо ответил племянник.
— За двадцать лет управления, полагаю, ты, чай, скопил себе малую толику?
— Ничего не скопил, дядя.
— Ну, если не скопил — сам виноват. Душеприказчиком назначаю тебя же.
Сила Гордеич покряхтел, повозился в кресле и, посмотрев на собеседников поверх очков, продолжал вну-шительным, торжественным тоном:
- Теперь — последнее и самое главное: все остальное мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, исчисляемое приблизительно около или более миллиона рублей, в деньгах, закладных и процентных бумагах, завещаю после смерти моей...
СТАРИК остановился, взволнованно перевел дух и повторил с расстановкой:
- Завещаю после смерти моей — в пользу го-су-дар- ства.
Скрипевший пером нотариус поднял голову и уста-вился на завещателя. Кронид побледнел и замер посреди комнат с разинутым ртом.
— Не понимаю, — протянул он недоуменно. — В пользу государства. Куда именно? На какой предмет?
— В государственное казначейство, — твердо ответил Сила Гордеич, — на предмет устроения жизни. Такова моя воля.
Кронид переглянулся с нотариусом.
— Насчет нормальности моего ума будет свидетельство доктора, — угадал их мысли Сила Гордеич.
— Удивительно! — пожал плечами Кронид. — Отнять у наследников большую часть капитала!
Сила улыбнулся.
— Не удивляйся, Кронид. Мои взгляды на капитал тебе известны... все это годами обдумано мной. Детей и внуков я обеспечил, а от больших денег только одна погибель им будет. Потому и решил: сделать дар государству, которое, как вам известно, находится сейчас в чрезвычайной опасности.
Кронид забегал по комнате, дрожащими пальцами расплетая веревочку.
— Где это видано, — остановился он вдруг от вол-нения, — чтобы купец... почитай весь капитал — государству? Дико!
— По правде сказать, — с расстановкой отозвался нотариус, — такого случая не запомню. Случалось — жертвовали на Афон, на церковь, на странноприимные дома, на сирот, за последнее время больше на школы отказывают и уж совсем не завещают на колокола. Но чтобы государству, и почти весь капитал — этого не упомню. Не было.
Он обмакнул перо.
— Что ж, запишем пункт последний.., всему народу и потомству в поучение. В Америке, говорят, миллиардеры иногда так поступают. Размахнулись вы по-американски, Сила Гордеич.
— Нет, это — по-русски! — крикнул Кронид, пряча веревочку. — Это... это... я не знаю что: подвиг или безумие?
— Писать? — спросил нотариус.
— Пиши,— махнул рукой Сила и с трудом поднялся с кресла. — Ох, устал! Пойду, полежу покуда! Потом, Кронид, позови меня — подписать-то.
Сила Гордеич удалился, совсем по-старчески семеня мелкими шажками: было ему уже семьдесят четыре года.
Кронид, проводив нотариуса, поднялся по внутренней лестнице наверх. Долго шагал из угла в угол по большой, низкой, неуютной комнате антресолей, кое-как обставленной старой, облезлой мебелью, крутил в пальцах веревочку. Но вот скрипнула дверь, и вошла Варвара в черном платье, с гладко причесанными черными волосами.
Кронид искоса посмотрел на нее и продолжал ходить, как маятник.
Варвара заискивающе улыбалась вымученной улыбкой, от которой у Кронида сразу стало тяжело на душе.
— Кронид!..
— Что?
— Опять завещание писали?
Она устало опустилась на расшатанное, полинялое кресло.
— Да, опять писали.
— Не скажешь ли чего-нибудь — вообще. А, Кронид?
Кронид молчал, сутуло расхаживая с веревочкой, низко опустив голову, как всегда. Ему было жаль Варвару. Знал всю ее несчастную, незадачливую жизнь. Как она изменилась со времени своего второго замужества, после возвращения из эмиграции! Муж, мечтавший о министерском портфеле, бедствует теперь в Лондоне, все надежды гибли, а она из блестящей салонной львицы превратилась в мещанку, в приживалку в доме ненавистного отца. Приехала не только лечиться, хотя и больна действительно, а главное — за деньгами для мужа... Но просить их — безнадежное дело. Вот разве наследство после отца поправит ее дела; плох стал дядя. Хотелось обнадежить ее, сказать, как, по его совету, отписал ей отец сто тысяч, но не считал Кронид себя в праве говорить. Да и как знать, не вздумает ли Сила опять переделывать завещание? Ведь вон он какой: государству отвалил миллион, а ему, Крониду, за верную двадцатилетию службу — десять тысяч: уверен, что Кронид «скопил» то есть украл — «малую толику», и его же дураком считает, если не крал, когда действительно можно было красть сколько угодно.
— Кронид! умоляюще повторила Варвара.
Кронид остановился и, не глядя на нее, плел вере-вочку.
— Ничего не скажу, Варя, не имею права.
Варвара усмехнулась саркастически.
— Да ведь в коридоре слышно было, как он визжал про меня.
— А ты подслушивала?
— Так, случайно мимо проходила.
Она тяжело и грустно вздохнула.
— Вижу, не на что надеяться мне.
Кронид распустил сложно заплетенную веревочку и начал заплетать ее снова.
— Напрасно, — повторил он и опять большими шагами заходил по комнате.
Сказать ей, что ли? То-то обрадуется. Поймет, что не такой уж злой человек отец у нее, каким она всю жизнь считала его. Может быть, произойдет примирение отца с дочерью после многолетней борьбы и вражды. Характеры — одинаковые: нашла коса на камень. Она, пожалуй, еще бессердечнее — от матери. И мстительна, как дьявол... Вместо благодарности у нее, пожалуй, совсем другая обнаружится психология. Догадается старик, что, Кронид строгий секрет выболтал, и нагорит Крониду.. Нет, ничего не следует говорить Варваре: придет время — сама все узнает.
Кронид продолжал ходить, заплетая веревочку и. ухмыляясь тайным мыслям своим.
Странная психология в доме Черновых; двадцать лет он ее разбирает и никак разобраться не может. Взять хотя бы отношения Варвары с отцом. Ненависть в обоих друг к другу лютая, а вот смягчился же Сила Гордеич, отписал ей сто тысяч и даже прослезился: если бы только она могла видеть его в эту минуту! Да и она: ненавидит его, а отними у нее эту ненависть, так ей жить будет нечем, некого тогда обвинять во всех несчастьях- ее жизни, в которых только она одна и виновата, непокорный ее характер. Всю жизнь промахивалась от честолюбия и собственного нахрапа: одним прыжком, как тигрица, всегда норовила добычу сцапать и — всегда неудачно.
А старик — деспот великий и эгоистище. Всех детей своих, можно сказать, передушил из-за проклятых денег.
Эх, отцы! Отцы-деспоты... Иудушки Головлевы, Ка рамаэовы, Иваны Грозные... жестокие, отвратительней, а потом рыдающие над загубленными во имя ложной идеи собственными детьми. Отцы и дети, проклиная и ненавидя друг друга, все же, как каторжники, связаны одной веревкой, которая так заплелась, так запуталась, что и не распутаешь. Дети рвутся в разные стороны, не хотят идти с отцами, но веревка-то одна для всех, все связаны, все похожи, одинаковы, — над всеми тяготеет одно общее заклятие...
— Да будет тебе вить твою проклятую веревку! — контральтовым стоном зазвенел вдруг яростный Варварин голос. — Повесишься ты когда-нибудь на ней, несчастный ты, старший дворник дома Черновых. Бессмысленная твоя жизнь.
Кронид поднял глаза и остановился: перед ним стояла Варвара с побелевшим, искаженным лицом и ненавидящим, пожирающим взором, горевшим зеленым ог-нем. На голову Медузы походила теперь голова Варвары: столько ненависти было в лице и глазах ее.
Кронид испугался.
Она схватила его за тщедушные, худые плечи цепки-ми, тонкими, длинными руками с холодными, бледными пальцами и, приблизив к его лицу свое, медузье, закри-чала повелительным тоном:
— Говори, говори же, говори всю правду! Лишили меня наследства? Ограбили? Обездолили? Н-ну, говори, домовой!..
— Говорю, а ты не веришь, — растерянно пробормо-тал Кронид, отводя ее руки. — Чего взбеленилась?
Руки Варвары опустились безнадежно. Углы губ скорбно сложились в горькую улыбку, глаза налились слезами. Она тяжело перевела дыхание и сказала тихо, дрожащим, прерывистым голосом:
— Хоть бы сдох он скорее, изверг, мучитель, обидчик мой!.. Ну, если... уж я ж ему... уж я ж ему!..
- Варя, напрасно ты... Больше сказать ничего не могу, одно скажу — напрасно, — волнуясь, мямлил Кронид.
— Из-за него большой человек, муж мой, без помощи пропадает. Коли могла бы для такого человека украсть или ограбить, — украла бы и ограбила.
— Варя!
— Что Варя? Будь хоть раз искренним, скажи правду, намекни хоть, я пойму... Да и так понимаю, сама слышала... До того довели, что либо на себя руки наложить, либо...
И вдруг ласково, льстиво, с кошачьим мурлыканьем прильнула головой к плечу Кронида:
— Кронидушка, вспомни... ведь мы вместе росли, имеете в детские игры играли... Покажи завещание... из-дали... Только одно место, одну строчку...
— Да нет у меня его...
— Где же оно? У нотариуса?..
— У дяди... в несгораемый шкаф положил, а ключ всегда у него...
Варвара откинула голову и долго молча смотрела в белесые скрытные глаза Кронида, никогда не смотревшие прямо. Кронид не выдержал ее взгляда, опустил голову. Какая-то неясная, тайная, невероятная мысль прошла между ними. Бледное лицо Варвары окаменело, зеленовато-серые глаза сузились, бескровные тонкие губы крепко, решительно сжались. Кронид сам не знал, почему ему вдруг сделалось страшно, и руки его с запутанной веревочкой начали дрожать мелкой дрожью.
Варвара, тяжело дыша, с раздувающимися ноздрями и все с тем же окаменевшим, бледно-серым, помертвевшим лицом, медленно и молча вышла из комнаты. Кро-нид посмотрел ей вслед, вытер пот с лысевшего лба и вдруг почувствовал слабость в ногах.
Тогда он сел в кресло, вынул веревочку и долго расплетал и заплетал ее худыми, бледными, все сильнее дрожавшими пальцами.
Москва была полна отзвуками войны.
Уличная пресса неустанно разжигала патриотическую ненависть к немцам. Возникло множество листков и журнальчиков с кроваво-красочными рисунками, с портретами и изображениями легендарного подвига Кузьмы Крючкова.
На Тверской несколько раз в день выставлялись телеграммы, написанные крупными буквами на огромном плакате; около него всегда стояла уличная толпа.
Кареты и автобусы Красного Креста каждый день развозили с вокзалов раненых по лазаретам. Лазаретов учредили много, но поездов с изувеченными людьми ежедневно прибывало еще больше. Злобой дня для Москвы были — раненые.
Почти ежедневно на улицах устраивались патриотические шествия, под открытым небом перед уличной толпой выступали оперные певцы и певицы. Сделался модным романс «Два великана». В театрах и «благородном» собрании давались многолюдные концерты в пользу раненых; публика была сплошь в блестящей военной форме, в эполетах и аксельбантах, дамы — в брильянтах, а с эстрады декольтированные исполнительницы романсов пели о «мужичке».
В одно солнечное, не по-осеннему теплое утро цирк Чинизелли устроил уличную демонстрацию в древнерусском стиле: в нескольких экипажах по Тверской шагом ехали ряженые, загримированные боярами и шутами, окружавшие видную, дородную женщину в атласном сарафане и кокошнике. Около тротуаров шли «великаны» на высоких ходулях, бежала уличная толпа, а впереди всей процессии ехал на большом, тяжелом коне древнерусский витязь в кольчуге, в железном шлеме, в желтых сафьяновых сапогах, с тяжелым мечом сбоку, с деревянной палицей, окованной железными шипами. Всадник был под стать коню — рослый, широкоплечий красавец с пушистыми белокурыми усами, — известный всей Москве цирковой силач.
Хотели произвести впечатление силы, создать бутафорский, ходульный патриотизм, показывали силачей, наряженных в костюмы прошлого.
Когда демонстрация, сопровождаемая пестрой толпой, удалилась, по Тверской вскоре после нее прошел полк солдат в серых шинелях, с ружьями на плечо. Это вряд ли было продолжением демонстрации: солдаты шли без музыки и песен, хмуро, озабоченно, с суровыми бородатыми лицами. В их необычном молчании и суровости, в тяжелом, размеренном шаге, от которого вздрагивала мостовая, чувствовалась спокойная, серьезная сила.
Они прошли серой массой и оставили тяжелое, мрачное впечатление. Серое русское войско шло умирать молча, без речей, без трубных звуков, без приветствий толпы, одиноко и мрачно, затаив свои мысли и чувства.
Снизу, от Охотного ряда, по мостовой шагал долго-вязый мужик в ватном пиджаке, в сапогах «бураками» с твердыми голенищами, в высокой бараньей шапке. За ним бежала толпа ребятишек, с любопытством на него глазевшая. Но вблизи становилось очевидно, что за мужиком бегут не дети, а взрослые, казавшиеся детьми в сравнении с необыкновенно высокой фигурой: вся толпа была ей по плечо. Великан с котомкой за спиной и с посохом в руке, не обращая никакого внимания на сопровождавших его зевак, шел гигантскими шагами и скоро скрылся за Страстным монастырем.
Все эти странные уличные явления наблюдал Валерьян с балкона третьего этажа гостиницы «Люкс».
Он с любопытством проводил глазами цирковую демонстрацию, потом тяжелую массу солдат и наконец — нелепую фигуру великана, шагавшую серединой улицы.
Валерьян не чувствовал патриотизма, не ощущал ненависти к немцам, но думал, что война, так внезапно и грандиозно начавшаяся, повлечет обвалы в неуклюжей, обветшалой постройке российского государства. Думал о том, как должны быть громадны последствия этой войны, независимо от того, кто останется победителем: все проклинали небывалую бойню, в которой целиком исчезали полки, корпуса и отдельные армии.
Тем не менее художник приехал в Москву с целью хлопотать о командировке на фронт: хотел видеть войну ближе, своими глазами, занести на полотно будущие впечатления, хотел погрузиться в это море всеобщего бедствия и в нем забыть личные страдания, казавшиеся теперь ничтожными в гуле войны; этот гул чувствовался даже здесь, далеко от нее, в самом сердце страны.
Вся интеллигенция — писатели, артисты, художники объединились в группы и работали по приему раненых на вокзалах. Валерьян тоже заявил о своем желании участвовать в группе добровольных санитаров Красного Креста, надеясь таким путем скорее попасть на фронт в качестве военного корреспондента и художника.
В дверь постучали.
Вошел приземистый, бритый молодой человек в шляпе и широком пальто с повязкой Красного Креста на рукаве. Он хромал на правую ногу, тяжело, как копы том, стуча железным каблуком.
Это был скульптор, которого ждал художник. В больших выпуклых глазах вошедшего чувствовалось что-то птичье, как и н бледном, тонком липе с прямым, острым носом. В кружке художников он был известен под прозвищем «Птица». Хромал оттого, что на правой ноге ему не хватало пятки, давно потерянной им совершенно случайно. Пятку заменял железный каблук, и потому так тяжел был его шаг, что, однако, не мешало его проворным и ловким движениям.
Он еще на ходу весело крикнул:
— Все в порядке, сэр: ты зачислен в нашу дружину на Брестский вокзал. Эге!
Птица хитро подмигнул и, распахнув пальто, бухнулся в кресло.
— Ах, вспотел! Ковылял за этой, дурацкой демонстрацией. Бездарно и глупо, антихудожественно, по-балаганному. А Святогора, «живую колокольню» из цирка Чинизелли, видел? На войну, говорят, собрался, на вокзал его провожают. Не понимаю, что обозначает такое торжественное шествие: шут ли это гороховый, которого, может быть, наняли купцы для потехи, или в этом надо усматривать какой-то символ?
— Дались им эти великаны! — с неудовольствием заметил Валерьян.
— А между тем, — с воодушевлением продолжал хромой, — где у нас настоящие большие люди? Создаст ли война хотя бы больших мастеров этого, по совести говоря, грязного и страшного, преступного дела? В прошлом такими мастерами были Суворов и Наполеон; да и те добивались удачи главным образом умением во-одушевлять людей, умиравших по их воле, умели внушить веру в определенную идею. Была у нас, например, турецкая война, так ведь народ воспринимал ее как войну религиозную, шли добровольцами, умирали и замерзали на Шипке. Были у нас настоящие великаны, был Достоевский, который сумел зажечь толпу своей знменитой речью. А теперь? Воинственных или патриотических идей ни в нижних слоях народа, ни в верхних и серьезном смысле — ни тинь-тилили за веревочку. Везде сознательное или бессознательное пораженчество. Вот идея, которая носится в воздухе. Кто же победит? Конечно, идея.
— Неужели ты думаешь, что целая коалиция не сможет немцев победить?
Птица усмехнулся и, посмотрев на друга своими немигающими, птичьими глазами, сказал тихо, как бы про себя:
— Ихняя идея — это Германия. Их распирает от силы. Сорок лет готовились. Верят, мерзавцы, в брониро-ванный кулак. А у нас после японского позора даже и в молебны перестали верить. Этой войны народная стихия не понимает, не приемлет, не сочувствует ей. Нет и великанов. Величайший-то наш великан всю жизнь занимался тем, что наносил сокрушительные удары не внешним врагам России, а — церкви и государству. О! Он многое разрушил, ибо, дорогой мой сэр, наша церковь и наше государство во многом достойны разрушения. И уж, конечно, не благословил бы теперь новых Дмитриев Донских великий отшельник, а сказал бы новое «Не могу молчать».
Скульптор взволнованно вынул трубку и, набивая ее табаком, со вздохом закончил свою речь:
— Вот это был — настоящий наш Святогор... Поку-рим, сэр! Все равно, не вылезет Россия из этой ямы, в которую попала. А пока — будем раненых принимать. Есть даже надежда отправиться тебе на галицийский фронт для иллюстраций. Советую поехать. Напишешь массу эскизов, а потом такую картинищу двинешь. По-ехал бы и я, да не пустят с моим копытом.
Птица постучал каблуком, посмотрел на карманные часы и засвистал.
— Я ко всякой войне отношусь отрицательно, — про-молвил Валерьян, закуривая трубку, — и все-таки поеду...
— Сэр, — перебил его скульптор, — одевайся! Пора на вокзал. Поезд придет через час, но нужно быть на месте заблаговременно. С нынешнего дня начинаем. Дай-ка. я тебе приколю повязку: специально для тебя достал.
Вытащил из кармана повязку Красного Креста и засуетился, стуча своим «копытом».
Площадь перед внушительным белым зданием вокзала была занята расположившимся «вольно» полком солдат, только что прибывшим для отправки на фронт. Плотной, густой массой они сидели как попало — на земле, на ступеньках подъезда, вдоль изгороди сквера, в полном вооружении и амуниции. Эта громада вооруженных людей с окладистыми бородами, крупных, сильных, производила внушительное впечатление. Казалось невероятным, что все они в самом скором времени превратятся в убитых и калек.
Около бокового входа стояло несколько автомобилей и карет, приспособленных для перевозки раненых. В обширных комнатах вокзала сновала разнообразная толпа, собравшаяся встретить ожидаемый поезд, а у буфета каланчой стоял и закусывал Святогор, окруженный зрителями его необычайной наружности. Великан, по- видимому, давно уже привык быть предметом удивления, жевал бутерброды, ни на кого не обращая внимания.
Птица подошел к нему дружелюбно.
— Здравствуйте, сэр! На фронт?
— На фронт, — с набитым ртом глухо отвечал Свя-тогор и, улыбнувшись, добавил: — Елки зеленые!
Скульптор протянул ему руку, и она, как рука мла-денца, исчезла в чудовищной лапе великана. Худое лицо с небольшой клочковатой бородой добродушно осклабилось.
— Для устрашения немцев? — деловито приставал Птица, смотря в это лицо снизу вверх.
— Не, теплые вещи сопровождаю во Львов.
Святогор был очень худ и нескладен. Длинные, как
у гориллы, руки внушали невольный страх.
— Сколько в вас росту, сэр?
— Три аршина и три вершка, — скучным голосом, не глядя на собеседника, равнодушно отвечал голос, видимо, тяготясь разговором.
Да в шапке шесть вершков, да каблуки. Итого три аршина десять вершков. Настоящий Святогор! Пусть знают немцы, каких людей родит русская земля! А скоро поезд?
— Не, медленно тянул мужичьим говором Святогор, — опаздывает, елки зеленые: только к ночи придет.
Скульптор увлек Валерьяна к группе людей с повязками Красною Креста; это были артисты и художники, большею частые знакомые. Начался общий разговор о «распределении ролей», как выразился живой и вездесущий Птица.
В сумерках раздался звонок, возвещающий о приближении поезда. Толпа хлынула на перрон.
Поезд подошел не так, как подходят обыкновенные поезда: чрезвычайно тихо, медленно, торжественно и — печально. В толпе многие отирали слезы. Едва двигаясь, почти беззвучно проплывали теплушки с открытыми широкими дверями сбоку и наконец остановились. Было несколько вагонов с пленными австрийцами и один с немцами в железных шлемах; австрийцы, большею частью молодые, белобрысые ребята, некоторые совсем еще безусые, радостно улыбались толпе, как будто приехали в гости к родственникам. Немцы, наоборот, выглядели с суровым достоинством и отчасти с презрением: казалось, они хотели сказать и, вероятно, говорили на своем языке: «Так вот она, Москва, знаменитый азиатский город! Это ничего, что мы попали в плен: нет сомнения, что скоро наша непобедимая армия будет у ворот вашей Москвы».
— Д-да-а, — как бы на выражение их лиц ответил высунувшийся из толпы мещанин в новом картузе с ла-ковым козырьком, с длинным клином бороды, загнувшейся вперед, — это вам не австрияшки. Хе-хе! Сурьезный народ.
Валерьян и Птица принялись за свое дело: подходя к каждому вагону, спрашивали вожатого о числе раненых и тут же ставили цифры мелом на стенке вагона.
Когда они прошли вдоль всего поезда и вернулись обратно, из передних вагонов люди с повязками уже выносили раненых на носилках. Толпа, теснясь, жадно заглядывала в раскрытые двери вагонов: многие ожидали встретить родных и близких. Птица исчез в толпе.
Двое санитаров несли пожилого солдата с полуседой бородой и желтым, исхудалым, закоптелым лицом. Для соблюдения очереди санитары остановились у решетки, отделявшей перрон от площади, где уже «грузили» раненых в приготовленные фургоны. Санитары подняли носилки. Раненый перекрестился широким крестом. Валерьяна поразила серьезность и торжественность его обветренного, закоптелого лица, словно из дыма и пламени выхваченного: на этом первом лице с войны, которое он увидел, был особенный отпечаток, вероятно, отличавший всех, побывавших «там», в горниле ее.
Приковылял хромой скульптор, стуча по асфальту своей железной ногой.
— Сэр, все в порядке. Наша миссия кончена. Идем на вокзал: сейчас поведут пленных. Ну и рыла у некоторых, сэр! Скульптура!
Обширный зал освещался сверху большой электрической люстрой. Белый свет электричества был невыносимо ярок. Половину зала диагонально занимала толпа зрителей, стоявших неподвижно и тихо, как в церкви. Художник и скульптор, присоединившись к толпе, встали впереди. Взоры всех были устремлены на внутренние двери, выходившие на перрон.
Вдруг вся толпа нечленораздельно зарычала:
— А-а-а-а!
В гуле этого почти звериного рычания чувствовалось враждебное злорадство.
Из дверей с перрона через весь зал, наполненный ослепительным светом, медленно шли к выходу пленные германцы, человек сорок. Их сопровождали, идя по бокам всей группы, несколько солдат с обнаженными саблями. Немцы двигались медленно, колонной по четыре человека в ряд, коренастые, в серых мундирах, в черных стальных шлемах. На два шага впереди шел их предводитель — германский лейтенант. Он был выше всех ростом, молодой, стройный, прямой, с длинными, вытянутыми в стрелку, как у Вильгельма, белокурыми усами. Шлем на его голове, опущенный на грудь, был обтянут серым суконным чехлом, и лишь блестело золоченое копье на верхушке. Длинные ноги были в рейтузах и твердых крагах из желтой кожи. За плечами до земли висел стального цвета плащ. Звенели шпоры.
Когда толпа зарычала, он еще ниже опустил голову, но осанка по прежнему осталась воинственной.
Казалось, что он испытывает позор и стыд плена. Может быть, ему вспоминалась голубоглазая, светловолосая девушка, оставленная им в Германии, ожидающая его победного возвращения. Может быть, вспоминалась Германия, синие волны родного Рейна.
Остальные были простые солдаты, но и они выглядели воинами «победоносной Германии». Толпа, цорычав, утихла и продолжала стоять неподвижно, глазами провожая тевтонов.
Он стоял, смотрел и думал, что началась, быть может, великая, героическая эпоха, что перед его глазами не пленные тевтоны идут, а шагает история, и что сам он со своею любовью, страданиями и несчастьями — только ничтожная пылинка, исчезающая в вихре наступающих грозных событий.